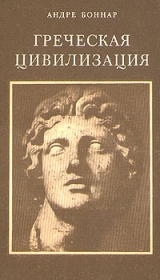
Текст книги "Греческая цивилизация. Т.1. От Илиады до Парфенона"
Автор книги: Андре Боннар
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
С установлением правления Перикла движение принимает больший размах: восстают три крупных ионийских города, в числе их Милет. В 446 году восстают города Эвбеи, Халкиды, Эретреи и другие. Восстание Эвбеи в результате поддержки, оказанной движению Спартой, явилось смертельной угрозой для республики. Пока Перикл беспощадно усмиряет Эвбею, союзу изменила Мегара, открыв дорогу в Аттику войскам Спарты. Аттика наводнена ими. Перикл вынужден прервать свои операции в Эвбее и мчаться на помощь Афинам, которым угрожает непосредственная опасность. Его молниеносное возвращение вынудило спартанцев отступить. Перикл снова возвращается на Эвбею. Весь остров покорен. В некоторые города были поставлены гарнизоны. В других изгоняются олигархи и правление «демократизуется».
Афины повсюду, после каждого подавленного восстания, требуют от города, покоренного силой оружия, подписания акта о подчинении. Иногда Афины требуют заложников. Во многих полисах создаются преданные Афинам правительства. Чтобы покрепче прибрать к рукам некоторые важные города, Афины ставят там своих «правителей» – они контролируют политику, проводимую подчиненным городом. Наконец, начинает широко использоваться метод «клерухий» – колоний вооруженных афинских граждан, поселенных на землях, отнятых у «бунтовщиков», которых изгоняют или уничтожают. Эти колонии, расположенные поблизости от внушающих сомнение городов, отныне следят за тем, чтобы в стране не нарушался «порядок».
Уже давно не созывается и «Союзный совет». Каждые три года афинский народ устанавливает размеры дани. Афинские суды разбирают тяжбы Афин со своими подданными и редкими союзниками. Делосский союз превратился в Афинскую империю.
Этой империи всегда угрожала внутренняя опасность. В 441 году, в середине правления Перикла, повторяется старая история: опять отпадает остров Самос. Это втянуло Перикла в двухлетнюю бесплодную и кровавую войну. Наконец Самос капитулировал. Он уступил часть своей территории Афинам и платит теперь огромную военную контрибуцию. После этого все, как по волшебству, приходит в порядок – конечно, вслед за «демократизацией» самосского правительства.
Эта империя – не простое управление полисами, подчиненными Афинам. Она, по выражению Перикла, не что иное, как «тирания», чьей пленницей стали сами Афины. Перикл заявил это без обиняков в речи, приведенной Фукидидом. Обращаясь к своему народу, он сказал: «Вы даже не можете теперь отказаться от этой империи, даже если бы вы из страха и любви к покою захотели совершить этот героический акт. Рассматривайте это как тиранию: завладеть ею может показаться несправедливостью, отказаться – представляет опасность».
Вот оно – чудовище «империалистической демократии»! Не забудем, что это демократия, господствующая над толпой рабов и теперь богатеющая при помощи кровавых мер за счет средств своих многочисленных подданных.
* * *
Эта империалистическая политика привела, однако, к тому, что в руках Перикла оказались огромные средства. Из года в год в Афины течет золото. На это можно содержать, правда оплачивая ее очень скромно, целую армию должностных лиц. Но на эти средства можно предпринять и дорогостоящие художественные работы – они в течение двадцати лет будут кормить все рабочее население Афин, а самому городу принесут «вечную славу».
Конечно, неожиданное превращение Делосского союза в Афинскую империю вызвало немало бурных протестов и нареканий даже в Афинах: «Народ утрачивает свою славу и навлекает на себя справедливые упреки, – заявляли, как передает Плутарх, противники Перикла в собрании, – тем, что перевозит из Делоса в Афины казну, принадлежащую всем греческим общинам... Греция не может не видеть, что путем самого несправедливого и тиранического грабежа средства, предназначенные для ведения войны (против персов), тратятся на украшение нашего города, который, как ветреная женщина, обвешивается драгоценностями; что они пошли на возведение великолепных статуй и постройку храмов, причем некоторые из них обошлись в тысячу талантов» (шесть миллионов золотых франков).
Перикл находит ответ. Однажды он появился перед народным собранием и ответил всем по существу, что афиняне были стражами Эгейского моря против персов, что они заплатили и заплатят впредь, если понадобится, свою дань кровью, что союзники Афин содействуют общей защите Греции, обеспеченной Афинами, лишь «привнося кое-какие денежные средства, кои, раз они уплачены, не принадлежат более тем, кто их уплатил, но тем, кто их получил, а долг афинян состоит лишь в том, чтобы выполнять условия, взятые на себя при получении этих денег». Аргументация безупречная!
Затем он добавил с гордостью – а может быть, с откровенностью, не лишенною некоторого цинизма: «Город, обильно снабженный всеми средствами обороны, необходимыми для войны, должен использовать свои богатства на труды, чье завершение сулит ему бессмертную славу».
Вот и еще высказывание (в сокращенном виде): «Не будем забывать о пользе, извлеченной из перевозки, обработки и укладки на место огромного количества материалов – от этого произойдет всеобщее оживление и все руки найдут применение в наступившем расцвете ремесел и искусств».
Оратор говорит далее: «В нашем распоряжении значительные средства. Теперь весь народ будет получать содержание от государства – в войсках ли, на гражданской службе или за изделия своих рук. Мы закупили камень, железо, слоновую кость, золото, черное дерево, кипарис. Бесчисленное множество рабочих – плотники, каменщики, кузнецы, краснодеревцы, ювелиры, чеканщики и художники – заняты теперь их обработкой. Заморские торговцы, матросы и кормчие доставляют по морю это огромное количество материалов. Возчики перевозят их по суше. Канатные мастера, колесники, шорники, землекопы и горняки всегда обеспечены работой... Благодаря этому люди всех возрастов и всех состояний призваны разделить благосостояние, повсеместно доставляемое этими работами».
Нельзя яснее показать, что крупные работы были предприняты Периклом на Акрополе и в других местах с тем, чтобы дать всем гражданам возможность жить в достатке, в частности трудящемуся люду, и что это делалось за счет данников Афин.
Политика демократическая, но политика «тирана», если угодно. Парфенон – свидетельство неувядаемой славы Афин и вместе с тем он кормил граждан... Но получат ли хлеб и славу данники империи? Ни того, ни другого, вне всякого сомнения!
* * *
Основываясь на декрете, принятом по его предложению в 450—449 году и разрешающем черпать из союзной казны для восстановления храмов, разрушенных во время второй греко-персидской войны, Перикл и предпринял крупные работы, а именно, реконструкцию святилищ Акрополя. К этой эпохе апогея афинской архитектуры и скульптуры относятся четыре главных произведения искусства, не считая статуй, поставленных под открытым небом или в храмах. Вершиной этого апогея стал сам Перикл, влюбленный в «красоту, воплощенную в простоте», по выражению, приписанному ему Фукидидом, относящуюся, однако, ко всему афинскому народу. Этими четырьмя произведениями искусства были, как известно, Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон и храм Афины-Паллады. Я коснусь здесь одного Парфенона.
Не задаваясь целью пересказать здесь всю историю греческого храма, я хочу лишь привести несколько характерных черт, связанных с личностью Перикла, а именно – показать его «любовь к красоте, воплощенной в простоте» на этом монументальном памятнике, воздвигнутом на Акрополе во славу Афины и ее народа.
После отступления персидских войск в 479 году Акрополь представлял собою не более чем обширное кладбище с грудами камней и осколками разбитых статуй. Фемистокл и Кимон могли позаботиться лишь о самых насущных военных нуждах: они выстроили вновь стены, первый из них – на скалах северного склона, второй – южного склона Акрополя. Эти стены защищают и окружают весь холм; они были построены так, что позволили расширить и почти выровнять верхнюю площадку холма, заполняя промежуток между гребнем стены и площадкой; туда бережно уложили ярко раскрашенные синим и красным статуи прекрасных девушек, воздвигнутые предшествующим поколением во времена благополучия. (Этих красавиц открыли только в наше время; их краски были совсем свежие.)
Перикл видел в искусстве средство утвердить первенство Афин над всем эллинским миром. Парфенон, это совершенное творение, будет владычествовать над Грецией, как и над землей, миром и временем!
Перикл следил за всем, он сам обсуждал планы с архитектором, участвовал в выборе материала. Он наблюдал за ходом работ, посещал строительную площадку, проверял расходы. В 450 году главным руководителем работ на Акрополе был назначен Фидий. Это был греческий скульптор сорока двух лет, уже хорошо известный всей Греции своими многочисленными работами. В том же 450 году он воздвигал на Акрополе статую Афины, сверкающей молодостью, с вьющимися волосами, перевязанными простой лентой, со свободно опущенной эгидой, с шлемом в руке; копье в левой руке – уже не оружие, а опора. Это не воинственная Афина, а новый образ вновь завоеванного мира. Позднее Фидий воздвиг на Акрополе еще две статуи Афины: одна из них – колоссальная статуя богини-воительницы – тут Фидий проявил свое мастерство литья из бронзы и выразил в металле империализм Афин, напомнив одновременно, что мир непрочен и, едва завоеванный, он снова скатывается к войне. Другое изображение богини – это Афина Парфенона – звезда из золота и слоновой кости, горящая в сумраке своего храма, идол и хранительница города и его сокровищ. Представим себе высокую статую из слоновой кости, одетую в золото и покрытую украшениями, стоящую в перспективе двух рядов внутренней колоннады храма. Ее спокойное лицо оживляется в сумерках храма и господствует над множеством драгоценной утвари, богатых материй, расставленных вокруг нее на мраморных столах; колонны храма увешаны щитами. Горделивое и пышное олицетворение верховной власти Афин.
Фидий своими руками высек большую часть украшений Парфенона. Именно он создал или, во всяком случае, по его замыслу был создан ионический фриз, идущий непрерывным поясом. Его резец изобразил здесь с простотой, от которой замирает сердце, настолько она приближается к идеалу, процессию празднества Афины: кавалькаду юных всадников, не тронутых летами стариков, идущих медленной поступью, метэков и данников со своими дарами, девушек, покинувших ради такого праздника свои гинекеи и стыдливо закутанных в свои одежды, как бы украшающие их целомудрие. Все лица бесстрастны – ни улыбок, ни радости: люди, приближаясь к богам (те ждут их в конце фриза), принимают такое отрешенное выражение. Это первый случай, когда на фризе храма были изображены не только боги или герои, но и простые граждане. Но так захотели оба – Перикл и Фидий!
Фидий сам изваял и оба фронтона: они слишком плохо сохранились, чтобы о них судить; можно лишь сказать, что сила божества выражается здесь не в суровости какого-либо резкого жеста, но в какой-то апатии этой совершенной мускулатуры, находящейся в состоянии полного покоя. Сила богов, выраженная в любом действии, показалась бы нам ограниченной, здесь же, в этом абсолютном покое непримененной силы, она кажется безграничной и подлинно божественной.
Фидий поручил ваяние большей части метопов дорического фриза своим ученикам.
Этот художник жил в постоянном и тесном общении с Периклом, обмениваясь с ним самыми сокровенными мыслями; тот остался верен ему и после того, как Фидий впал в немилость (432), вплоть до его смерти, последовавшей в тюрьме, вскоре после осуждения.
Фидий в течение восемнадцати лет руководил работами на Акрополе. Ничего не ускользало от его строгой, но всегда творческой критики. Он интересовался планами всего ансамбля памятников, равно как и мельчайшими деталями их технического выполнения. Архитектура Парфенона, несомненно, обязана ему значительно б о льшим, чем скульптурными украшениями.
Фидий, несомненно, считался с Софоклом и Периклом, как с двумя из трех гениев, произведенных тем временем. Они принимали участие в том коллективном творчестве, каким явился Парфенон. Отметим здесь кстати, что Софокл, как раз во время создания «Антигоны», был во главе финансовой комиссии – коллегии гелленотамов, – распоряжавшейся общественной казной, собираемой с союзников. Эти три человека если и не следовали одним и тем же политическим целям, то все же служили одному и тому же делу, которое выражало – как созданием нового Акрополя, так и расцветом театра Софокла – величие народа, возглавляемого Периклом. Софокл не считал, например, что создание «Антигоны» и «Эдипа» избавляет его от обязанности председательствовать в важной финансовой коллегии и отдавать этому делу свою высокую мудрость и преданность гражданина.
Красота Парфенона – это «красота простоты». Но эта простота, как и простота всякого великого произведения искусства, представляет конечный результат чрезвычайной сложности, не улавливаемой нашим первым восприятием.
Сперва Парфенон нам кажется чисто геометрическим творением. Он представляет решение геометрической задачи, в которой материал распределен в перпендикулярах, кругах, прямых и треугольниках, так чтобы он обрел в них счастливое равновесие. Парфенон точно построен из цифр: этот храм есть результат многовековых исследований архитекторов греческих храмов, долго искавших лучшие пропорции между длиной, шириной и высотой здания, отношения диаметра колонны к ее высоте, отношения диаметра колонн к расстоянию между ними, отношения диаметра колонны у основания к ее диаметру у вершины и многого другого.
И все же математическое совершенство храма пленяло бы только наш разум, если бы поиски его могли полностью увенчаться успехом, как пленило бы нас изящное решение теоремы. Но Парфенон нравится нам не так, вернее не только так. Он удовлетворяет, он продлевает нашу органическую жизнь, нашу органическую радость. Он трогает нас, как если бы был не абсолютом, а живым существом. Он есть порядок, но порядок столь же подвижный, как порядок царств и видов.
Как это достигается? Дело в том, что прямые, составляющие Парфенон, лишь относительные прямые, как всякие прямые в жизни. То же можно сказать о кругах и пропорциях. Математика Парфенона – не что иное, как стремление к математическому совершенству: в ней нет иной точности, кроме точности реального мира, продуманной человеком и воспроизведенной искусством, – она всегда относительна и подвижна. Именно эти относительность и подвижность сделали Парфенон живым.
Приведем примеры. Четыре ряда цоколя храма не одинаковой высоты: первый ряд, уложенный на скалу, самый низкий. Верхний – самый высокий. Разница минимальная, более ощутимая ногами, чем на глаз. Но на расстоянии все три ступени кажутся равными и верхняя не производит впечатление, что вдавилась под тяжестью здания, – неизбежное, если бы все ступени были одинаковые.
С другой стороны, поверхность каждой ступени не строго горизонтальная, а слегка выпуклая. Горизонтальная поверхность, если смотреть на нее от ее кромки, всегда кажется точно слегка вогнутой в середине. Для того чтобы рассеять этот оптический обман, и была сделана незначительная выпуклость.
Таким образом, цоколь, на котором высится здание, благодаря этим особенностям и ряду других построен из фальшивых прямых и на фальшиво горизонтальных поверхностях, воспринимаемых глазом как живые прямые и горизонтальные поверхности. Такое основание может, как сказал кто-то, «оптически выдержать тяжесть сооружения», на нем воздвигнутого.
Что говорить о разности колонн, которые нам кажутся все одинаковыми и поставленными перпендикулярно? Что говорить о кажущейся одинаковости межколонных пространств? Нет ни одной цифры в этой поэме цифр, выраженных в мраморе, которая была бы идентичной и в идентичном положении. В этом творении, словно дающем нам залог незыблемости вечного, нет ничего, что бы не было изменчивым и непостоянным. Мы тут безусловно прикасаемся к вечному, но это не вечность абсолюта, а вечность жизни.
Я приведу лишь несколько примеров относительно колонн. Ни одна из них не поставлена перпендикулярно к земле, ни одна из них не стоит точно параллельно в отношении своих соседок.
Колонна, поставленная строго вертикально, выполняла бы лишь индивидуальную функцию поддержки строго определенной части здания. Но при общем наклоне внутрь здания эти колонны составляют одно целое, вместе несущее тяжесть всего храма. Этот градус наклона каждой колонны меняется в зависимости от места, занимаемого ею в колоннаде, и от того, в какой она стоит колоннаде. Этот наклон очень мал – от 6,5 смдо 8,3 см,но он имеет концентрический характер, и это создает впечатление расширения несущих функций каждой колонны: нам кажется, что вся колоннада вовлечена в одно общее «усилие, сходящееся в одной точке».
В этом есть, может быть, техническая необходимость. Возможно, что если бы колонны стояли иначе, то тяжесть фронтонов, карнизов и всей верхней части храма раздвинула бы их и здание обрушилось. Но эта техническая необходимость является и эстетической необходимостью: наш глаз мысленно продолжает оси колонн вверх и соединяет их в одной точке, расположенной где-то высоко в небе над храмом. Благодаря этому Парфенон не выглядит как простой дом, окруженный колоннадой. Он представляется нам зданием, чья подвижная устойчивость в преломлении нашего зрения поднимается в небо в виде воображаемой пирамиды в одном соединенном гармоническом усилии.
Этот рассчитанный наклон колонн производит не только это впечатление. «Он переносит центр тяжести карнизов внутрь здания, отбрасывая, таким образом, к его общей массе выступающую часть деталей». Угловые колонны не участвуют в этом общем наклоне. Они вчетвером составляют независимый ансамбль, менее наклонный, а поэтому еще больше выделяются из общего пучка. Угловые колонны более подчеркнуто поддерживают здание в четырех углах. Это более выпукло представленная основная несущая функция колонн вселяет в нас уверенность в прочности и долговечности храма. Стволы этих угловых колонн также более массивны, для того чтобы они могли лучше противостоять блеску освещения, в основном падающего на них. По этой же причине угловые колонны значительно подвинуты к своим соседкам: межколонное пространство такого же размера, как другие, создало бы световую пустоту, от чего сами колонны показались бы тоньше. Но именно эти колонны должны быть самыми прочными, потому что они несут на себе всю тяжесть здания.
Так возник храм, выполненный согласно законам геометрии жизни, и сам он кажется живым, словно дерево, отягченное плодами, вскормленное почвой Акрополя. Тому, кто поднимается на холм, он снизу кажется чем-то маленьким, незначительным, пожалуй, как выглянувшее лицо, бросившее нам тревожный взгляд. Дорога все идет вверх (нелегко тут было подниматься в античные времена), Парфенон скрывается с глаз, подходишь к Пропилеям. Входишь в них: они были тут поставлены лишь для того, чтобы возможно дольше скрывать от взоров Парфенон. И вдруг он предстает перед нами, но уже не незначительный и тревожащий, а огромный и воплощающий все наши ожидания. Он не огромен арифметически, но огромен в нашем сердце. Он не огромен по своим размерам (сравним: Лозаннский собор – 100 мx 42 x 75; Парфенон – 70 мx 31 x 17,5). Но давно уже сказано и повторено: «У греческого храма нет размеров, у него есть пропорции». И еще: «Будь он мал или велик, о размерах его никогда не думаешь». О чем думаешь перед Парфеноном? Не будем сочинять, придумывать: ни о чем больше, как о том, чтобы быть счастливым, иметь больше сил, чтобы жить! Потому что Парфенон любишь, как живое существо...
Увы! Живые существа имеют способность воспроизводить себе подобных. Парфенон и вся греческая архитектура воспроизводились в течение веков во множестве под видом церквей и банков, от Парижа до Мюнхена и от Вашингтона до Москвы, порождая иногда чудовищные создания, вроде собора де ля Мадлен (св. Магдалины в Париже). Парфенон – порождение родной почвы, он вписан в пейзаж, он плод исторической эпохи – и нельзя его отрывать от всего этого. Оторванный от Акрополя, он утрачивает свою полновесность и свою красоту. Парфенон, стоящий на холме из известняка, с этой стеной Фемистокла и Кимона, лишь дополняющей его своими подобранными, но одного тона с ним камнями, – Парфенон венчает пейзаж. Несмотря на обветшалый вид развалин, мы все еще улавливаем в их мраморе цвета слоновой кости, в контрастной игре выступов и впадин, в чередовании тени и света, полных темноты выемках каннелюр и освещенных солнцем гранях ребер, как бы заставляющих колонны плясать неподвижную, полную величия пляску – во всем этом мы все еще угадываем жизнь, вложенную гением в этот мрамор. Он до сих пор чувствителен к свету. Разрушенный храм бывает в зависимости от дневного освещения или от часов дня то темно-коричневым, то серым, почти черного оттенка. Он становится розовым в вечерней дымке или даже палевым со светло-коричневыми пятнами. Он никогда не бывает белым, как говорят про белый мрамор. Если он и бывает белым, то наподобие старинной кожи, с коричневым оттенком.
Парфенон может показаться очень ветхим, очень разрушенным, но невозможно, чтобы эти древние руины и сейчас не рассказали о породившей его любви к мудрости и любви к красоте во времена юности его народа.
* * *
Труден был конец царствования Перикла.
Примерно в середине правления Перикла в его царственной удлиненной голове созрел проект панэллинского союза. Мы мало знаем об этой попытке – лишь по краткому рассказу Плутарха. В 446 году до н. э. был, по предложению Перикла, издан декрет с предложением всем греческим полисам как в Европе, так и в Азии (за исключением городов Сицилии и Италии), прислать в Афины депутатов для обсуждения вопросов, имеющих всеобщее значение, а именно: восстановления храмов, разрушенных персами, жертвоприношений в национальных святилищах в благодарность богам за победу, одержанную объединенными силами, охраны морских путей и, наконец, – путей установления мира между всеми греками. Двадцать афинских граждан, разделившись на группы по пять человек, отправились в разные области эллинского мира, чтобы начать мирные переговоры от имени Афин. Эти предварительные шаги были сделаны. Однако они натолкнулись, как говорит Плутарх, на решительное сопротивление лакедемонян, которые отказывались в принципе от панэллинского конгресса, созываемого Афинами и тем самым предполагающего главенство великого города. Конгресс так никогда и не состоялся.
И в этом случае, как всегда, нельзя перекладывать ответственность за неудачу переговоров на одну из сторон. Уже более десяти лет империалистическая политика Перикла в отношении союзников Афин противоречила на деле той политике «умиротворения», которую он теперь предлагал всем грекам. В том же 446 году, когда он посылал своих эмиссаров в самые далекие уголки эллинского мира, он у ворот Афин подавил восстание городов Эвбеи, как до того задушил сепаратистское движение в Ионии. Несколько ранее того, а именно в 451—450 году, Перикл провел в собрании декрет о праве гражданства, которым он не только не расширял рамки афинской гражданской общины, открывая их для всех защитников его империи, но суживал их до того, что она становилась замкнутой и эгоистической кастой привилегированных граждан, ведущих свое афинское происхождение по двум линиям. Наконец, еще в 446 году, закладывая первый камень Парфенона, Перикл тем самым неразрывно связывал политику осуществления обширной, заранее объявленной программы работ с необходимостью эксплуатировать греков империи для получения средств.
Проливаемая Периклом кровь, деньги, отобранные им у союзников, отнимаемые у народа свободы – все это с каждым днем все больше приковывало его к империалистической политике. Как мог он надеяться, что поверят его предложениям о всеобщем умиротворении Греции и тому, что панэллинский конгресс в Афинах будет чем-либо иным, как не подтверждением их всемогущества, и не санкционирует главенство Афин над остальной Грецией? Плутарх несколько наивно приписывает и в этом случае Периклу «столь же возвышенный образ мыслей, как и величие духа».
Отныне Перикл может лишь ускорить приближение войны для Афин. Здесь не место вспоминать о всех обстоятельствах, вызвавших это непоправимое и смерти подобное разделение греческого народа, вылившееся в Пелопоннесскую войну. Ответственность за нее несут как Афины, так и их противники. Главная тяжесть ее падает на Перикла, предложившего Афинам принять декрет против Мегары, закрывавшей товарам и кораблям Афин выход к рынкам Аттики. Было ли это мерой защиты? Или ответом на события 446 года? В подобных объяснениях никогда нет недостатка. Надо помнить, что в то время Перикл был уже втянут в механизм, пущенный в ход им самим. Действительно, «кости были давно брошены и игра начата». Он был уже бессилен избегнуть войны, вызванной всей его предшествующей политикой, пусть он и старался теперь, в последний час, представить ее как войну оборонительную и восхвалял ее как подвиг высокой славы! Перикл надеялся выиграть эту войну «при помощи разума и денег», как он говорит. Он верил, что, выиграв ее, он завоюет и мир.
Все же, при всей проницательности своего ума, Перикл был не в состоянии разглядеть то, что было перед ним. Он как бы не замечает одного препятствия. Патриотизм Перикла не выходит из рамок афинского полиса, и добивается он только его расширения. Греческое единство для него лишь способ увеличения мощи Афин. Все остальные полисы он подчинит Афинам. Полисы – «рабы», смеется своим проницательным смехом девятнадцатилетний Аристофан.
Видим ли мы теперь то препятствие, которое было непреодолимо для Перикла? Перикл – член общества, значительно более рабовладельческого, чем сами члены общества представляли это себе. Рабство полисов есть лишь продолжение в другой форме неискоренимого расизма. Рабство – неистребимое пятно. От него погибла греческая цивилизация. Мы еще не коснулись ее самых высоких творений, но мы уже обнаружили червоточину в плоде.
Бесподобная красота Парфенона не утешает нас потому, что она куплена не только золотом, но и кровью порабощенных людей.
В этом неискупаемая ошибка. Виноват ли в ней Перикл? Нет, ничуть! Эта ошибка вписана в предшествующую и современную ему историю его народа.
Рабовладельческое общество не могло породить подлинной демократии, но лишь тиранию, господствующую над народом рабов, независимо от того, называлась она так или нет.
Мысль Перикла потерпела поражение в войне, как бы блистателен ни был его век; это говорит нам совершенно ясно о том, что цивилизация, не распространенная на всю совокупность людей живущих, не может быть долговечной. В этом самый важный урок, извлекаемый нами из истории греческой цивилизации. Ее прекраснейшие плоды наполняют нас радостью, мужеством и надеждой. Но они оставляют у нас во рту терпкий вкус; у плодов грядущих веков – если мы сумеем прочитать и в теневых сторонах прошлого Греции – его, может быть, не будет.
Нужно много времени, чтобы ты подрумянилось, о зеленое яблоко! В человеческой истории далеко не все дни бывают солнечными. Ты юна, греческая цивилизация, но твоя освежающая терпкость сулит нам вкус плодов, «подрумяненных солнцем», о которых говорит поэт «Одиссеи», – вкус зрелых плодов.








