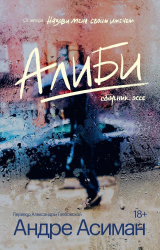
Текст книги "Алиби"
Автор книги: Андре Асиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Повременить
Латинское слово «кунктация» (cunctation) традиционно приписывают римскому генералу, консулу и диктатору Фабию Максиму Веррукозу. Слово прицепилось к его имени, и до нас он дошел как Фабий Максим Кунктатор. После полного разгрома римского войска при Каннах – эта битва стала одной из самых кровопролитных во всей древней истории – он предложил стратегию уклонения, суть которой – избегать врага, вообще с ним не соприкасаясь на итальянской территории, и эта стратегия оказалась весьма плодотворной: измотав войска Ганнибала, Сципион нанес ему решительный удар, положивший конец Второй Пунической войне после захвата Карфагена. И по сей день Фабия Максима в школьных учебниках называют «медлителем» – так принято переводить слово «кунктатор», что, по сути, означает: тот, кто способен переждать, выиграть время, тот, кто – используем более современное и внятное выражение – умеет повременить. Именно это я усвоил прежде всего, когда в детстве учился ловить рыбу. Пусть добыча решит, что опасность миновала, – подтяни рыбину, потом ослабь леску, подтягивай, пока не зацепишь накрепко, а уж там… дергай изо всех сил. Печальная ирония заключается в том, что пострадавший от этой стратегии сам же на ней и споткнулся: Hannibal ante portas[5]5
Ганнибал за воротами (лат.).
[Закрыть]. Ганнибал останавливается перед воротами Рима и откладывает верную победу до… другого времени.
К стратегии «повременить» часто прибегают те, кто, попав в зависимое положение, пробует тягаться с теми, кто их сильнее. Медлить в отношениях со слабаком как-то не принято: слабака прихлопывают, гиганта – изнуряют. Перед лицом опасности и угрозы медлитель «выигрывает время», «тянет время», «отмеряет время». Повременить – значит сделать все для того, чтобы выждать до более благоприятного момента. Повременить – значит выйти за пределы временнóго континуума, поставить время на паузу, остановить движение времени, шагнуть в пространство новой эпохи. Находишь ложбинку во времени, зарываешься туда, прячешься, и пусть реальное время – или то, что называют реальным временем другие, – скользит мимо. А ты в этом случае, как многие из современных часов, отмеряешь время сразу в двух, а может, и более часовых поясах.
Медлитель мешкает. Отказывается от настоящего. Перемещается в другой слой времени. Перемещается из настоящего в будущее, из прошлого в настоящее, из настоящего в прошлое или – я об этом уже писал в очерке «Арбитраж» из сборника «Поддельные документы» – «уплотняет настоящее, переживая его из будущего как мгновение прошлого».
К глаголу «повременить» я подобрался двумя способами, причем оба неразрывно связаны с тем, что я специалист по XVII веку и бытописатель нашего времени. Третье является прямой экстраполяцией из двух первых.
Начнем с того, что я вцепился в это слово потому, что – как вот принято говорить о детях тех, кто выжил в холокосте, – я отпрыск повременивших. Я родился в Египте, в еврейской семье, члены которой видели, что написано на стене, но решили переждать нашествие врагов. Не действуй сгоряча, не спеши рисковать тем, что имеешь, ради того, чего, возможно, не получишь, а главное, сиди тихо – таковы мантры прирожденных медлителей. В этих мантрах отражен страх перед активными действиями, типичный для тех, кто благодаря либо темпераменту, либо материальному положению предпочитает не действовать, а размышлять. Этакая уловка опоссума: если ничего не предпринимать и источник опасности видит, что ты ничего не предпринимаешь, опасность может миновать. В конечном итоге формулируется это так: если я сам буду каждый день убивать себя по чуть-чуть без твоей помощи, так тебе потом вроде уже и вовсе не понадобится меня убивать. Если я остановлю свои часы, история свои остановит тоже. Подобно субмарине, притворяющейся подбитой, ты оставляешь за собой масляный след. Тебе это может дорого обойтись, но все знают: то, что ты оставляешь у других на виду, на жизненные функции не влияет: это отвалившийся струп, хитиновая чешуйка, мертвая ткань, сепия, обманка. Но получается, что время впало в спячку – или, если речь идет о ракообразных, в эстивацию. Живая ткань, живое время – все это осталось где-либо в другом месте.
То, что я потомок маранов, которые решили повременить в Испании во времена инквизиции, заставляет вспомнить второй смысл этого слова. В таком смысле оно мне встретилось, наряду со многими другими, в книге Карло Гинзбурга про никодемизм. В никодемизм я полез потому, что заинтересовался контрреформацией и многочисленными издававшимися тогда брошюрами, посвященными искусству благоразумия, – и, к своему удовлетворению, выяснил, что и у христиан было множество собственных разновидностей маранизма. Среди книг, которые цитирует профессор Гинзбург, нашлась одна, опубликованная в Англии, – цитату из нее (от 1555 года) я также отыскал в Оксфордском толковом словаре: «Медлитель (иными словами: следящий за Временем, претерпевающий перемены в оном)». Из этого вытекает второе значение слова «повременить». Повременить означает не только выждать, но и пойти на компромисс, вступить в переговоры, отсрочить момент принятия решения; означает колебаться, приспосабливаться, подлаживаться, уклоняться, юлить, увиливать, крутиться. К промедлению прибегают те, кто не хочет действовать, или не может, или не знает, как нужно действовать, а также те, кого вынуждают действовать (или говорить) не так, как просит душа; человек становится уклончивым, подложным. Выкручивается. Крутящийся флюгер – ловчила-временщик. Тут, разумеется, сразу приходит на ум блестящее сочинение Джорджа Сэвила «Характер флюгера», написанное в XVII веке. Временщик постоянно временит. Временщик живет в двуличии и межвременье. Временщик – слуга двух господ. Временщик ловчит с флюгером времени. Идея подлога вписана в сам глагол. Как прекрасно знали все моралисты XVI и XVII веков, от Торквато Ачетто в Италии до Бальтасара Грасиана в Испании и Даниэля Дайка в Англии (его книгу запоем читали в кругу Ларошфуко), медлитель по сути своей – притворщик, приспособленец. Медлитель, как и флюгер, комбинатор или лицемер, – это тот, кто откладывает свои подлинные чувства, мысли, убеждения и сущность в сторону, стоит разразиться буре. Если нет возможности уйти прочь, приходится прятаться, надевать личину.
Не нужно обладать особо сильным воображением, чтобы усмотреть тесные связи между двумя значениями слова «временить» и приложить их самым что ни на есть поверхностным образом к моей биографии. Еще в Египте родня моя отчетливо видела, что грядет буря, и надеялась ее переждать – так евреи поступали на протяжении всей истории; при этом, подобно испанским маранам, мои родные, чтобы выиграть время, решили креститься; другие просто перестали ходить в храм. Уехать они не смогли или не захотели, а потому спрятались.
Меня так и подмывает назвать маранизм медлительностью, потому что высветить мне хочется не столько неизбежную между ними взаимосвязь, сколько то, что можно, например, назвать «маранизмом времени». Ведь, в конце концов, маран – это человек, исповедующий одновременно две религии: одну тайно, другую явно. Аналогичным образом изгнанник – это человек, который постоянно находится в одном месте и одновременно – где-либо еще. Сатирик – тот, кто говорит одно, а имеет в виду другое. Лицемер – у кого на словах одно, а на деле другое. Арбитражер – тот, кто покупает на одном рынке, а продает на другом. Медлитель – тот, чье время протекает одновременно в двух часовых поясах, и он, именно в силу этой причины, не существует ни в одном из них. Он ступил за пределы времени. Медлитель живет как и все остальные, вместе с остальными, может, даже лучше остальных – вот только, как мараны в испанских церквях или как я в Египте, где я каждое утро отдавал в школе салют египетскому флагу, зная, что он является символом самого что ни на есть гнусного антисемитизма, медлитель позволяет времени течь, не становясь его частью. Время его не затрагивает и не ранит. Его жизнь – долгая пауза.
Кстати, порой повременить приходится в силу исторической необходимости, что представляет интерес для истории философии и для тех, кого интересует судьба евреев на Ближнем Востоке, но у меня речь не об этом. Я пытаюсь вникнуть в сущность не медлителя от истории, но – употребим этот термин за неимением лучшего – медлителя от психологии, который отрицает, отсекает, отлагает настоящее и при этом со временем (или, если угодно, жизнью) взаимодействует по касательной и столь окольными путями, а настоящему присваивает настолько умозрительный и невнятный статус, что это самое настоящее – если его вообще возможно себе вообразить – перестает существовать или, говоря точнее, утрачивает значение. До него не дотянешься. Медлитель с ним рассинхронизирован. Отрешаясь от настоящего, лишая его значимости, он взамен получает иллюзорное обещание: будет тебе защищенность без боли, горя, опасности, утраты. Он приносит настоящее в жертву, потому что оно не таково, как ему бы хотелось, потому что он вряд ли знает, что с ним делать, потому что он хочет чего-то другого, потому что он хочет обрести или дождаться чего получше. По сути, он хочет изменить, перестроить и перекроить собственную жизнь и тем самым отсрочить то, чего сильнее всего боится.
Собственно, так поступает человек, заточивший себя в обшитую пробкой комнату – на дни, месяцы, годы, чтобы там изобрести свою жизнь заново. Таким образом он отрекается от времени, выходит за пределы времени, придает времени эфемерность. Получается, что этот человек, этот писатель всю свою жизнь как бы бегает от настоящего, так что пересказ событий такой жизни, при всех вкравшихся в него искажениях, станет не только способом повременить – и отнимет у автора столько времени, что ему будет просто некогда выходить из этой самой комнаты, – но и превратится в повествование о медлителе от психологии. Пруст написал роман про человека, который оглядывается вспять на то время, когда он занимался лишь одним: предвосхищал лучшие времена. Или, иными словами: он оглядывается вспять на то время, когда предвосхищал лишь одно: сесть и написать… и тем самым оглянуться вспять.
Жизни, столь безоглядно посвященной тому, чтобы повременить, смысл придает не способность противостоять боли, горю или утрате, а скорее способность ловко прокладывать окольные пути мимо боли, горя, утраты. Именно подобная ловкость придает жизни смысл – а отнюдь не сама жизнь. Это, безусловно, книжная докука и книжный выход из положения. И все же, только вырвав жизнь из настоящего или из того, что Пруст называл tyrannie du Particulier, тиранией повседневности, быта, приземленности, голых фактов, медлитель, совершив своего рода обходной маневр, может наладить контакт со временем и опытом. Между ним и жизнью стоит не его страх перед настоящим, а само настоящее. Можно было бы еще раз упомянуть Пруста, но первым делом на ум приходит поэт Леопарди: он моменты истинного счастья «проживал» не в жизни. В жизни ему этого было не дано, поскольку жизнь Леопарди в его собственных глазах представляла собой полотно неизбывных бед. Только вспоминая все эти беды, а вернее – наловчившись возвращаться к ним причудливыми путями, поэт Леопарди открыл для себя единственный источник радости.
Повременить в таком контексте значит не просто изобрести способ материального или психологического выживания в мире, который воспринимается как враждебный, но еще и выработать определенную форму сознания. Причем под сознанием я имею в виду даже не ту самую чистую или нечистую совесть, которой наделен каждый медлитель, и не вопрос, как можно оставаться самим собой и одновременно, повременив, переходить, как оно говорится, в некое «межеумное» состояние. Я бы хотел задаться другим вопросом – и здесь давайте поговорим про третий «способ», о котором я уже выше упоминал: совершаем ли мы, повременив, эстетическое действие? Можно ли говорить об эстетике этого понятия? Медлитель запросто может оказаться лицемером с чистой совестью или искренним человеком с нечистой; его лицо и надетая маска не одно и то же, или лицо его может запросто оказаться единственной маской, которую увидит и он сам, и другие. В любом случае медлитель осознает себя другим, он рассинхронизирован с тем, кем является, и с тем, кем его считают прочие. Он не тот, кто есть, потому что его «счет времени» не совпадает со всеобщим.
Все в нем зыбко. Место, которое он называет домом, запросто может перестать быть таковым, имущество его запросто могут отобрать. Люди, которых он любит, совсем не те, за кого он их принимает, клятвы их редко выдерживают испытание временем. Описание это можно продолжить: даже с теми, кто ему ближе всех, медлитель обращается как с людьми, которых обречен утратить. Чтобы смягчить удар – а он неотвратим, – медлитель репетирует утрату, ожесточается, хотя люди эти все еще безусловная часть его жизни. Он смотрит на бабушку и видит покойницу, в которую она вскоре неизбежно превратится; смотрит на любовницу и видит прустовскую «беглянку». Он держит всех на расстоянии, жизненными обстоятельствами никак не обусловленном. Он носит траур по тем, кто еще жив, а потом найдет причины завидовать тем, кто уже умер. Он сожалеет о том, чего не утратил, да и о том, чем вовсе не обладал, а потому утратить не может по определению.
Я, понятное дело, говорю о Прусте. Но в случае с Прустом нужно учитывать одну занятную вещь. Марсель постоянно твердит: вот бы заранее знать, что кого-то утратишь, ибо тогда – так ему представляется – он бы меньше страдал. Еще он постоянно мечтает о том, чтобы разум его научился настигать мечту в самый миг ее осуществления, потому что тогда – так ему представляется – удовольствие достигло бы апогея. Но это, надо сказать, всего лишь стратегии усмирения неусмиримой насыщенности настоящего момента, стратегии репетиции, «прописывания сценария» настоящего. Герой Пруста, когда его застают врасплох, оказывается полностью обездвиженным или полностью опустошенным. Когда Альбертина наконец-то изъявляет готовность отдаться Марселю, Марсель начинает тянуть резину. Избыв наконец не слишком, надо сказать, сильную печаль, вызванную смертью бабушки, он внезапно, нагнувшись завязать шнурки, ощущает, как его душит горе, и разражается слезами.
Все во вселенной Пруста нацелено на то, чтобы предотвратить подобные всплески. Попытки повременить нацелены на то, чтобы распылить опыт, увести его за грань, не дать опыту осуществиться в реальности, пока он не пройдет сквозь то, что можно назвать литературным временны́м фильтром. Всю свою жизнь Пруст тратит на то, что ловко мастерит этот фильтр. Это видно даже по его фразам: они с прототипической ловкостью выстроены так, чтобы безупречно исполнять одно действие: повременить. Они все шире раскидывают сети, выжидают, никуда не торопятся, дразнят, подначивают, завлекают, заманивают, подсекают, как будто нечто куда более значительное – вот только и профиль, и характер этого нечто пока автору неведомы, и автор уж всяко не станет тянуть его на поверхность раньше времени, рискуя раззадорить и упустить, – ждет его на конце лески, в некоей ныне неведомой точке будущего, которая, когда мы в нее попадем, – и это совершенно типичный разбег любой прустовской фразы – «высветит задним числом» все темнóты его произведения.
Но хотя Пруст прозорливо и брюзгливо прогуливается из пространства одного времени в другое, Марсель, его персонаж, ни к чему не бывает готов вовремя. Его постоянно изумляет непредвиденное – Пруст будто бы постоянно напоминает самому себе о том, что, как бы старательно Марсель ни отгораживался от жестокого мира, как бы ни избегал с ним контактов – так вот Эдип пытался уклониться от собственной судьбы, – этот самый мир коварно пролезает обратно. Моменты неловкости, когда тебя застают врасплох – назовем это прустовскими несуразностями, – Пруст превратил в своего рода вид искусства, моменты привилегии, потому что только благодаря случаю или несуразице Марсель и сталкивается с настоящим и – это ему прекрасно известно – с самой жизнью с ее удовольствиями, опасностями и печалями. И все же у Марселя есть одна недостижимая мечта: научиться отфильтровывать удовольствие от сопряженных с ним опасностей и печалей. Ему бы научиться не доверять, дистанцироваться, не проявлять такой пылкости и поспешности в желании что-то заполучить сейчас и только сейчас. Урок, который ему необходимо усвоить, достаточно прост – причем и его он облекает в художественную форму: «существующее» нужно раз за разом превращать в «кажущееся»; «кажущееся» – в «не существующее», а «не существующее» – в «бывшее». Только тогда все обретает подлинный смысл – не перед лицом подлинного настоящего, а на некоем высшем суде, который вершит то, что я бы назвал несовершенно-условным-предпрошедшим: «возможно существовавшее и не свершившееся» осмысленнее, чем «просто существующее». Именно в этот слой Пруст и стремится поместить любой опыт, именно в нем и протекает la vrai vie[6]6
Настоящая жизнь (фр.).
[Закрыть]. Память и вымысел – фильтры, через которые он воспринимает, осмысляет и понимает текущий опыт. Для медлителей опыт лишен смысла – он вообще не опыт, – если только он не облечен в форму памяти об опыте или, что почти то же самое, в память о несостоявшемся опыте. Пруст лишь ретроспективно, когда настоящее уже давным-давно кануло, способен наконец увидеть общую картину. Понимание, сколь близко было блаженство… или сколь бессмысленны были печали, доводившие нас до исступления, приходит слишком поздно. Вот стихи Эмили Дикинсон:
Задача Пруста – отбросить опыт обратно в прошлое и оттуда – вернусь к глаголу, который уже употребил, – дернуть его назад из будущего, ретро-перспективно. Именно из этого и рождается неповторимый разбег, размах его фразы. В этом размахе прошлое и будущее, а косвенным образом и настоящее существуют в одном едином времени.
К настоящему времени «повременить» подходит долгим окольным путем – таким путем людям случается, вопреки здравому смыслу, прийти к любви. Некоторые воспринимают «сегодня» лишь через призму того, что обязательно вернутся к нему завтра. Некоторые готовы потянуться к тому, что жизнь швыряет им под ноги, только при условии, что приближение обернется для них почти мгновенной утратой. А некоторые воспевают прошлое, сознавая, что на самом деле они любят искренней любовью не то прошлое, которое утратили, не те вещи, которые воспевают и (так они приучили себя думать) любят, а свою способность облечь в слова собственную любовь – любовь, которой, возможно, никогда не существовало вовсе, но она тем не менее остается порождением их способности словчить и проникнуть в некое неопределенно-условное-пред-прошедшее. Они будто бы говорят: процесс письма – штука действенная. Процесс письма доведет вас в нужную точку. Укрыться в комнате, обшитой пробкой, и заново придумать там свою жизнь и есть жизнь, есть настоящее.
А когда у вас возникают сомнения, покой приносит уже сама способность сказать, сколь непрочна ваша связь с настоящим. В этом и заключена подлинная эстетика способности повременить: признавая и демонстрируя, что мы не знаем, как жить в настоящем, и, скорее всего, никогда этому не научимся, что мы совершенно не готовы и не приспособлены к тому, чтобы жить своей жизнью, мы совершенно не обязательно компенсируем эту неспособность. Зато нам открывается доселе неведомое суррогатное удовольствие: само осознание нашей неприспособленности становится оправданием. Играть с разрывом связей между всеми возможностями, заложенными в неопределенно-условное-пред-прошедшее время, затея, может, и дурацкая, каждый раз тебе же от нее и прилетает, зато в результате жизнь твоя возвращается к тебе в форме… вымысла.
И действительно, разрыв, зияние, крошечная пауза – можно еще раз назвать это разбегом между нами и временем, между нами, какие мы есть и какими мечтаем стать, – это все, что нам дано ради осмысления нашего места в жизни. Время измеряется не единицами опыта, а квантами надежды и предвкушаемых сожалений.
Как мне кажется, одна из причин, почему из меня вышел такой непутевый автор путевых очерков, состоит в следующем: попав в то или иное место, я мгновенно теряю способность о нем писать. И дело не в том, что мне нужно, чтобы (как оно говорится) впечатления «улеглись», а в том, что мне нужно почувствовать, что такое-то место утратило свое присутствие, сделалось недоступным, что я, возможно, никогда больше его не увижу. Я хожу по улицам, однако, чтобы написать статью, ради которой меня сюда послали, – я должен отправить ее заказчику сразу же по возвращении в США, – мне нужно представить себе, что я больше не хожу по этим самым улицам. Чтобы написать, я должен притвориться, что вспоминаю. Навык письма вне пространства утраты у меня утрачен…
В одном абзаце книги «Из Египта» я описываю крик моей глухой матери и говорю, что он напоминает мне скрип шин при резком торможении. Больших шин. Автобусных.
Такие вопли – об этом он [мой отец] узнал однажды – издают глухие, если глухому человеку больно, если глухой человек с кем-то повздорил, зашелся в крике, потому что слов не подобрать, изо рта рвется лишь прерывистый визг, больше похожий на скрип шин, с которым целая колонна автобусов разом тормозит в тихое пляжное воскресенье, чем на голос женщины, на которой он женился.
Я бы хотел ненадолго остановиться не на самом крике, а на «тихом пляжном воскресенье», которому крик противопоставлен. Переводчики никогда с этим не справятся, это непереводимо, потому что такого вообще-то не существует, оно лишено смысла: что такое «тихое пляжное воскресенье»?
Тем не менее если эти тихие пляжные воскресенья что-то для меня означают и если – о чем писали мне многие александрийцы, прочитав «Из Египта», – тихая воскресная пауза, как раз перед тем, когда толпы устремятся на пляжи, вбирает в себя самую суть александрийской жизни в конце весны или начале лета, когда летние пляжи еще не до конца превратились в переполненный бедлам (во что они неизменно превращаются в июле), когда они все еще не нарушили обещания одарить тебя в ближайшие недели волшебством, – если все это сегодня что-то для меня и означает, то лишь потому, что оно связано не столько с Александрией, сколько с процессом наложения Египта на нынешнюю мою жизнь в Америке. Дело в том, что это ощущение от тихих пляжных воскресений зародилось не в Египте, а в Америке, однажды утром, когда в первый год нашей тамошней жизни я шел с отцом по Риверсайд-драйв и при виде группы юнцов лет двадцати, загоравших на травянистом склоне рядом с Девяносто восьмой улицей, повернулся к нему и сказал:
– А нынче ведь пляжный день, да?
В книге «Из Египта» я посвятил около двадцати страниц описанию раннего воскресного утра на пляже. Завершается этот фрагмент рассказом о том, как часто я вспоминал эти пляжные утра много лет спустя, в компании однокурсника по Кембриджу. Итак, воспоминание зародилось в Нью-Йорке, переправилось в Кембридж, вернулось в Нью-Йорк, где много лет спустя я в конце концов написал «Из Египта» и тем самым наконец-то отправил все это entassement[8]8
Нагромождения (фр.).
[Закрыть] сложенных внахлест городов в воображаемую Александрию.
Египет всего лишь сетка, матрица, полость, в которую я «отправил» свою жизнь через много лет после того, как Египет покинул. Настоящее мое лишено смысла, если не отправить его обратно в Египет. Можно сказать, что все мои впечатления о Египте – это не более чем разрозненные обрывки моей жизни за пределами Египта, нанизанные на одну нитку и отправленные обратно в сюжетную линию, которую я решил назвать Египтом. Чтобы увидеть Америку, мне нужно увидеть не Америку, а Египет. Я вижу настоящее только тогда, когда оно начинает напоминать прошлое, становится прошлым. Когда после выхода в свет «Из Египта» я поехал в Египет, я только и думал – вернее, только и пытался думать, – что о Нью-Йорке, городе, который в давние времена детства маячил передо мной удаленным будущим, а потом внезапно сделался моим настоящим, хотя меня настоящего в нем и не было! При этом Египет – Египет, о котором я грезил столько десятков лет, – никогда не находился передо мной.
При виде чего-то красивого, или трогательного, или даже чего-то, что мне хочется заполучить здесь и сейчас, я испытываю желание отправить его обратно в Египет, посмотреть, окажется ли оно по мерке, предстанет ли очередным из мириады отсутствующих фрагментов, которые туда относятся, которые следовало бы туда вернуть или которые нужно было бы представить как позаимствованные оттуда, – как будто для того, чтобы нечто обрело для меня смысл, оно обязательно должно уходить корнями в Египет, как будто само действо складывания рассыпанного Египта в целое из кусков, реконструирования и воспроизведения воображаемого Египта из этой россыпи впечатлений из Египта представляет собой бесконечный процесс реставрации, цель которого – устранить все контакты с настоящим, так, чтобы любая вещь, которая хоть чем-то меня зацепит, соответствовала чему-то египетскому, имела египетский коэффициент – в противном случае смысла она лишена. Те вещи, у которых нет египетских аналогов, не воспринимаются, не обладают нарративом. Вещи, которые происходят в настоящем, но не находят отклика даже в вымышленном прошлом, тоже не воспринимаются. Они перестают существовать. Не считаются. Длиннющие отрезки Нью-Йорка для меня просто не существуют: в них нет Египта, нет прошлого, нет смысла. Если мне не удается вплести в них толику египетского вымысла, будь это даже лишь некое настроение, которое мне представляется египетским, они трупы для меня, а я – для них.
Египет – мой катализатор: я разделяю жизнь на условные египетские единицы, как вот археологи разделили храм Дендур на пронумерованные блоки, чтобы потом собрать его… где-либо в другом месте.
Может, в то утро на Риверсайд-драйв, когда я шел рядом с отцом, я вообразил себе схожую сцену на пляжах Александрии в тот же волшебный утренний воскресный час только ради того, чтобы поменьше мучиться от одиночества и неприкаянности.
Как я завидовал этим молодым людям на травянистом склоне: наверняка они живут неподалеку от парка и приносят сюда чай со льдом из своих квартир в довоенных зданиях по соседству, наверняка они знают, кто они такие и кем могут стать, а еще они наверняка крепко укоренены в настоящем. Больше всего на свете мне хотелось покинуть то место, на котором стою, вырваться из своего потока времени и вступить в их поток. Но вместо этого я взял этих людей с травянистого склона и забрал их к себе в воображаемый Египет, сделал там своими друзьями, пил с ними холодный лимонад на пляжах своего отрочества, гулял с ними по песчаным дюнам, а чтобы уж совсем довести дело до точки, заставил одного из них ко мне обернуться и произнести те же слова, с которыми в тот день обратился к отцу:
– А ведь нынче самое что ни на есть пляжное утро, да?
А потом, в процессе написания «Из Египта», я вспоминал не наши пляжные утра, но вымысел, в который они превратились в тот день.
Более того, в книге «Из Египта» для меня важнее всего не те фрагменты, где действие происходит в Египте, а те, где рассказчик, неловкий и неприспособленный одиночка, отправляется разыскивать остатки Египта в Европе и Америке. Он тоскует по Египту, но совсем не так, как тоскуют по нему те, кому там когда-то хорошо жилось. Они почти никогда не обращаются к прошлому: им презренно само понятие воспоминаний о прошлом. Они всегда были крепко заякорены в жизни, в здесь и сейчас, а сейчас они в другом месте, здесь они бросают жребий и строят судьбу. Что же до рассказчика в «Из Египта», у него под ногами разжиженная и нетвердая опора. Он влюблен даже не в Египет и не в то, что о нем помнит; он влюблен в процесс сотворения памяти, потому что, пока вспоминаешь, настоящее над тобой не возобладает. Процесс сотворения памяти – это поза с повернутой в сторону головой, и по ходу дела, даже если совсем нечего вспомнить, память прозорливо подкидывает нам выдуманные воспоминания, суррогатные подставные воспоминания – хотя бы даже ради того, чтобы не смотреть в глаза настоящему.
Совершенно не исключено, что Александрия, как написал когда-то Лоренс Даррелл, это столица памяти. Вот только никакой Александрии не было бы, не изобрети мы ее в своей памяти.








