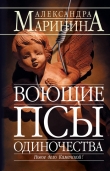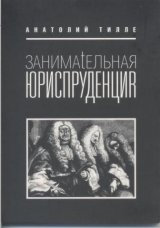
Текст книги "Занимательная юриспруденция"
Автор книги: Анатолий Тилле
Жанр:
Юриспруденция
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
ПРОСТУПОК ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Итак, при изложении темы “Правонарушение” я всегда даю студентам задачу из своей судебной практики: пьяный одноногий инвалид на деревяшке вместо протеза помочился за пивной палаткой у метро “Филевский парк”. Что это – преступление или проступок? В ответ раздавался дружный хор голосов: проступок! И никогда ни один человек не сказал – преступление. Мы, к сожалению, часто видим такие сценки. Оправданием им служит крайняя редкость общественных туалетов. Когда мы это видим, мы не зовем милицию, а равнодушно с пониманием проходим мимо. Так думаю и я. Это, конечно правонарушение – административный проступок, за который можно наказать денежным штрафом. Он будет вполне достаточным наказанием.
Однако, как говорится, в один прекрасный день, дело этого несчастного инвалида пришло в наш суд, и я с ним ознакомился. Я с ужасом увидел, что инвалид привлекается к уголовной ответственности по статье 206 УК РСФСР (хулиганство), да еще по части 2 (злостное хулиганство, отличающееся исключительным цинизмом или особой дерзостью). Эта часть предусматривала в качестве наказания лишение свободы на срок от одного года до пяти лет!
Обвинительное заключение расписывало деяние на двух страницах машинописи. Его можно было изложить в нескольких строках, но тогда оно не тянуло бы на ч. 2 ст. 206 УК. И следователь, многословно расписывая случившееся, несколько раз повторял, как этот субъект извлек свой половой член в присутствии женщин и детей.
Я прекрасно понимаю, как было дело: этот инвалид был далеко не первый, кто использовал пивную палатку в качестве общественного туалета, и продавщице пива, вполне естественно, это нашествие сильно надоело. Она попросила милиционеров, охраняющих метро, поймать одного из нарушителей и наказать его так, чтобы другим было неповадно. Милиционеры, которые обычно дружат с продавщицей пива, выбрали наиболее безобидного нарушителя и примерно его наказали.
Кроме того, что наказание, как теперь любят говорить, было неадекватным, не соответствующим деянию, оно. было бессмысленным, так как поместить у пивной палатки плакат в назидание всем нарушителям нельзя, а без него продавщицу все равно будут нервировать переполненные пивом мужчины.
Подсудимый признал свою вину. Я заметил, что простые люди не различают признание поступка, то есть факта деяния, и вины в совершении преступления. Прокуроры и судьи, к сожалению, часто требуют от подозреваемого признания факта, события и считают это признанием вины. В данном случае факт удовлетворения естественных потребностей не подвергался сомнению, но от подсудимого требовали tie признания факта, а признания вины в совершении преступления. Это абсолютно разные понятия.
Явно придурковатый инвалид признал свою вину в совершении преступления, полагая тем самым, что он просто признает прискорбный факт у пивной палатки.
На этом суде я присутствовал в качестве народного заседателя (обычно, на жаргоне уголовников народных заседателей называют “кивалы” – в подавляющем большинстве случаев они никакой роли не играют, поскольку находятся под влиянием судьи и всегда с ним согласны. Хотя исключения бывают). В данном случае я заявил, что решительно не согласен с обвинением и буду писать особое мнение. Судья оказалась в неудобном положении. При наличии особого мнения в деле (оно помещается в особом запечатанном конверте, и знакомиться с его содержанием стороны не имеют права – может только вышестоящая судебная инстанция), приговор, возможно отменят, а это – брак в работе судьи, штрафные очки. Судья из совещательной комнаты (из-за нехватки помещений в судах совещательная комната используется и как рабочий кабинет судьи, и потому там есть телефон) позвонила своему куратору в Мосгорсуд и посоветовалась с ним, как поступить (судьи Мосгорсуда прикреплялись тогда к районным народным судьям и отвечали за их работу, поэтому брак в работе судьи был браком и для куратора). После этого совещания (с куратором) судья вынесла определение: направить подсудимого на психиатрическую экспертизу. Это был выход из затруднительного положения. Если экспертиза вынесет заключение о его невменяемости (основания для этого имелись), она со спокойной душой освободит его от уголовной ответственности, в противном случае, а это произойдет через месяц-другой, меня среди народных заседателей уже не будет, и она с такой же спокойной душой отправит его отбывать срок в лагерях.
Этот казус чрезвычайно интересен и показателен. Любой полуграмотный милиционер может за любой проступок привлечь к уголовной ответственности, а за преступление, которое ему покажется малозначительным, отпустить восвояси. Поэтому у нас, с одной стороны, тюрьмы переполнены невиновными людьми, с другой стороны, преступники гуляют на свободе.
Размеры общественной опасности не определены, нет ее критерия. Поэтому любой работник милиции, прокуратуры, юстиции может определять проступок это, преступление или вообще деяние, не представляющее общественной опасности. И ни один ученый– юрист не попытался (включая меня) определить этот критерий.
О ПРОГУЛЕ
Надеюсь, что прочитав и обсудив только один пункт одной статьи закона, написанный простым русским языком, вы убедились в том, что профессия юриста сложна и интересна. Однако то, что иногда приходится читать в ученых книгах о простом и понятном языке, которым надо писать законы, – чушь. Каждое, самое простое русское слово может иметь разный смысл и разное значение.
Для юриста слово имеет иное значение, чем для филолога или поэта. Для них за словом стоит красота, звучность, настроение, ритм, чувство. Юрист за словом видит судьбу человека. Будет жизнь человека сломана, потеряет человек веру в людей, в правосудие или поверит, что справедливость возможна.
Все это стоит иногда за единым словом. Вспоминаю одно судебное дело. Известный тележурналист А. Невзоров поместил в “Советской России” заметку о нравах в Государственной Думе.
Там, между прочим, он писал, что скандально известный священник Глеб Якунин из думской столовой “утаскивал" тарелки, имея в виду неприличие действий “народного представителя”. Тот подал судебный иск о защите “чести и достоинства”, мотивируя тем, что тарелки одноразовые, и их стоимость входит в стоимость блюд, и, следовательно, он их не “утаскивал”, то есть не крал.
Свои честь и достоинство Якунин оценил в 5000 рублей. Невзоров вообще не присутствовал, от “Советской России” представителем был помощник главного редактора – человек весьма далекий от юриспруденции. Дело Якунин выиграл, хотя суд уменьшил сумму иска в десять раз. Я узнал об этом из теленовостей и написал фельетон “Дело о выеденных тарелках”, куда более обидный для Якунина, чем маленькая заметка Невзорова. Однако иска ко мне он не предъявил. Надо заметить, что я публиковал много очень злых и ехидных фельетонов в отношении разных влиятельных лиц, которые обычно не прощают ни одного выпада против них. Они всегда обращаются с исками в суд и выигрывают их. Но ко мне исков не предъявляли никогда, ибо я всегда точно выбираю слова и проверяю факты.
Считая решение суда неверным, я посоветовал главному редактору подать кассационную жалобу в Мосгорсуд и выступил там по делу. Надо отметить, что выиграть дело в кассационной инстанции гораздо труднее, чем в первой, поскольку отмена решения суда первой инстанции – брак в работе судьи и влияет на оценку его работы и на его карьеру. Выступая в Мосгорсуде, я, ссылаясь на Даля, Ожегова и других языковедов, указывал, что первое значение слова “утаскивал” относится к перемещению объекта и означает “уносил”, чего Якунин не отрицает, а не крал.
Дело я проиграл, поскольку судья посчитала, что слово “утаскивал” Якунин счел для себя обидным. Я продолжаю считать решение Мосгорсуда неверным, ибо дело не в том, что считает истец, а что считает суд объективно. Истец может счесть обидным для себя любое безобидное слово. Потакать таким чувствам суд не должен.
Вернемся к задаче, поставленной в соответствующем очерке о чтении законов. Верховный суд СССР вынес решение в пользу истца, мотивировав тем, что администрация односторонне расторгла трудовой договор и, следовательно, трудовых отношений на данный момент между ними нет. Поэтому приказ о явке на работу для Н. был не обязателен. Он имел право дожидаться решения суда по его иску. Поэтому неявка на работу не является прогулом. Это решение я считаю правильным.
К сожалению, Верховный суд “смазал” свое решение. Здесь следовало поставить точку. Но решение дальше ссылалось на, не помню, какое-то домашнее тяжелое положение Н., то ли болезнь ребенка, то ли кого-то из членов семьи, тем самым указывая на иную уважительную причину неявки Н. на работу.
ПОТОЛКУЕМ ЗАКОН
О правилах толкования закона в первой части книги написано достаточно, чтобы читатель мог решать относительно несложные задачи самостоятельно. Во всяком случае, мог получить представление о сложностях работы юриста. Остановимся на первой задаче.
За границей много споров вызывает так называемая эвтаназия – лишение жизни безнадежно больного человека по его просьбе или по просьбе родственников. Много было судебных дел, где подсудимыми выступали врачи и сестры. Собственно говоря, в американском сериале "Скорая помощь” подобных случаев много, и они никаких сомнений не вызывают. Больной лежит в коме, сознания нет, живет он только на аппаратах, надежды на выздоровление тоже нет. И тогда врачи ставят перед родными вопрос, продолжать ли держать больного на аппаратах, что стоит довольно дорого, или выключить аппараты.
С помощью аппаратов жизнедеятельность человека продолжается, выключая их. врач ее прекращает, хотя и не самостоятельно, а с согласия родных, оплачивающих лечение и уход. Так или иначе, юридически человек жив, а врач лишает его жизни.
Несколько иначе выглядят случаи лишения жизни по просьбе больного, испытывающего страдания от неизлечимой болезни.
Он хочет свои страдания прекратить и просит об этом врача или медсестру. Суды европейских стран пока стоят на точке зрения недопустимости подобных действий врача. В случаях их обнаружения, суды выносят обвинительные приговоры. Конечно, приговоры выносятся не столь суровые, как за обычное умышленное убийство, но врач или сестра лишаются права на свою профессию, а это, конечно, ломает их жизнь.
Итак, Б. совершил умышленное убийство К. Убийство совершено с прямым умыслом. Прямой умысел законом определяется, как такое действие, где человек хочет добиться задуманного результата и добивается его. То, что убийство совершено по просьбе К, не извиняет Б. У нас, как и во всем мире, убийство по просьбе убитого законом не признается извиняющим обстоятельством. Хотя я лично, будучи, например, парализованным и даже не испытывая физических страданий, страдал бы морально от того, что стал в тягость своим близким. Тихая смерть под действием снотворного меня бы вполне устроила. Но независимо от наших желаний мы должны стоять на почве закона. Закон “убийства по собственному желанию” не признает. Следовательно, желание К. смягчающим обстоятельством не является.
Теперь нам надо определить, были ли у Б. корыстные побуждения. К сожалению, общий моральный уровень нашего населения таков, что могут убить и за пол-литра водки. И в этом уже заключается корыстное побуждение. Конечно, пол-литра невелика корысть, но корысть. Б. взял после убийства ружье и бывшие при К. деньги. Стоимость этого имущества больше, чем стоимость водки. Если мы считаем, что при убийстве за пол-литра присутствует корыстное побуждение, то когда имущество большей стоимости, тем более. Именно так и посчитали судьи низшей инстанции. И осуждать их нельзя. Логика здесь есть.
Но вопрос надо ставить по-другому. Чем руководствовался Б., – корыстью или К. разжалобил Б. своими страданиями, которые были очень сильными. Шизофрения относится к неизлечимым болезням. Поскольку это доказано, мы можем понять рассуждения Б. по поводу оставшихся вещей и денег К. – не пропадать же вещам! Все равно кто-нибудь их возьмет! Психологически Б. не думал, что совершает кражу.
Мы так не думаем: кражу он совершил и должен за нее понести наказание. Но кража не была мотивом убийства, целью убийства. Поэтому Верховный суд правильно переквалифицировал деяния Б. на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств и кражу. Суд назначил наказание по обоим деяниям. В таких случаях, при сложении наказаний общее наказание не превышает наиболее строгого из двух.
Перейдем к задаче №2. Толкование статьи 295 УПК судами было буквальным. В тексте статьи об участниках судебных прений слова “потерпевший” не было. Поэтому суды не допускали потерпевшего к судебным прениям. При этом судьи рассуждали так: он имел полную возможность принимать участие в судебных прениях, предъявив гражданский иск к подсудимому.
Причем гражданский иск, предъявленный в суде отдельно, облагается государственной пошлиной. Гражданский иск, предъявленный в уголовном процессе, пошлиной не облагается. Но потерпевший не лишается права после уголовного процесса предъявить причинителю вреда иск в обычном порядке.
Конституционный суд дал этому закону расширительное толкование. Оно сводится к тому, что потерпевший – полноправный участник уголовного процесса. Не допуская его к участию в судебных прениях, суд ущемляет его конституционные и гражданские права. Это особенно проявляется в тех случаях, когда отсутствует обвинитель (это в ряде случаев допускается). Тогда в судебных прениях участвуют подсудимый, защитники, то есть одна сторона, сторона защиты преступника. Интересы потерпевшего в судебных прениях не выражает никто.
Конституционный суд правильно истолковал закон, именно исходя из общего духа законов, устанавливающих равноправие граждан.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Прежде всего, надо исходить из того, что отправка письма с вредоносным содержанием относится к так называемым “дистанционным” преступлениям, где место деяния отделено расстоянием от места вредоносного контакта и места вредоносного результата настолько, что каждое из них подчинено другим законам. Поэтому надо определить место преступления, чтобы определить закон, которому подчиняется правоотношение.
Решая поставленные задачи, необходимо выбрать предварительно одну из трех представленных ранее теорий, что считать местом совершения преступления: место совершения деяния, место наступления вредоносного результата или места первого вредоносного контакта. Учтите, что задачи поставлены, исходя из того, что казусы произошли в СССР, где у Латвийской ССР и у РСФСР имелись особые уголовные кодексы, но существовала возможность судить медсестру из Риги в Москве.
Итак, напоминаю, что по УК Латвийской ССР разглашение тайны усыновления не было уголовно наказуемым, то есть уголовным преступлением, и, послав письмо соседям усыновителя и разгласив тайну, женщина преступления не совершила. По УК РСФСР (времени существования СССР) разглашение тайны усыновления считалось преступлением. Действующий УК РСФСР рассматривает только вопрос о месте совершения преступлений на территории РСФСР и о преступлениях, совершенных за пределами бывшего СССР. О месте преступлений, совершенных в других республиках, он не ставит. Так что мы с вами не имеем сейчас никаких законных оснований для решения этих задач. Мы можем решать их только с точки зрения теории права.
Начнем с первого варианта. Посылая письмо из Риги в Москву с разглашением тайны усыновления, если считать местом преступления деяние, медсестра преступления не совершила, и уголовное дело возбуждено не будет. Но вредоносный результат произошел в Москве, где данное деяние по закон}? преступно. Общий принцип в международном праве и в уголовном кодексе: если преступление совершено за границей, назначаемая-санкция не должна превышать санкцию, установленную для данного деяния за границей. Поскольку в Латвийской ССР данное деяние не преступно, судить в Москве ее нет смысла.
Второй вариант: медсестра из Москвы послала письмо в Ригу. По закону РСФСР она совершила преступное деяние, и ее могут судить в Москве. Но только если считать местом преступления место деяния. Если считать местом преступления результат, ее судить нельзя.
Третий вариант. Разглашая знакомой в Риге тайну усыновления, медсестра совершает деяние, не составляющее преступления. Соседка усыновителя разглашает тайну усыновления в Москве. Она может быть судима, поскольку ее деяние в Москве не является дистанционным преступлением. Статья 1241 УК РСФСР 1961 года нс требовала, чтобы тот, кто разглашает тайну усыновления, был должностным лицом. Поэтому она может подлежать уголовной ответственности. Место преступления – Москва. Вопрос о том, знала она, что усыновление – тайна или не знала, решается во время рассмотрения дела в суде.
Я повторяю, что для преступлений, совершаемых на территории России, вопрос о месте преступления представляет только теоретический интерес, поскольку на все преступления, даже “дистанционные”, распространяется российский закон – совершено ли преступление в Калининграде или во Владивостоке. Во всех случаях место преступления – Россия. Но в мире, где “дистанционные” преступления очень распространены, этот вопрос имеет большое практическое значение.
ВРЕМЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Определение времени совершения преступления, которое было продолжительным, представляло и представляет в теории и практике значительные трудности. В законе оно, к сожалению, не разработано.
Для одномоментных преступлений оно вызывает только технические, но не принципиальные, трудности. (Например, определить время убийства, когда труп уже разложился.) Если закон вступил в силу в 00.00 минут 1 января, а врач отказался пойти на помощь пострадавшему без пяти минут до 1 января, то есть 31 декабря, его деяние оценивается по старому закону. Если это произошло в пять минут первого, уже действует новый закон.
Сложнее обстоит дело с преступлениями разномоментными. Например, преступник решает совершить хищение из магазина прем пролома из подвала соседнего дома. Он соответствующим образом готовится к этому: выясняет обстановку, систему охраны магазина, достает орудия для пролома. Если его за этим застают, то это квалифицируют как приготовление по закону, действующему в этот момент.
Предположим, его застают в момент пролома, тогда это деяние по действующему закону квалифицируется уже как покушение. Та же квалификация при выносе товаров из магазина. Если его поймали с вынесенными товарами, налицо законченное преступление – кража. При смене законов, стадии преступления не имеют значения. Если вступил в силу более строгий закон, ссылаться на то, что во время приготовления и покушения действовал более мягкий закон и требовать применения более мягкого закона оснований нет. Время преступления – время выноса товаров, время хищения. Оно поглощает все предыдущие действия.
Решим случай с предоставлением оружия для ограбления Сбербанка. Тот, кто дал оружие, в ограблении и убийстве участия не принимал. Для признания человека соучастником умышленного преступления требуется осведомленность о преступлении. Поэтому, если человек предоставил оружие для ограбления Сбербанка за три месяца до его осуществления, и знал для чего он это делает, а в это время вступил в силу новый, более суровый закон, он не может требовать, чтобы его наказали по старому, более мягкому закону. Он отвечает за конечный результат общего преступления и по закону; действовавшему в то время. Отговариваться тем, что убийства он не предполагал, бесполезно. Огнестрельное оружие при ограблении иногда не используется для убийства, но такая возможность всегда предполагается и грабителями, и потерпевшими.
Широко известен и экранизирован случай, когда женщина– следователь влюбилась в бандита-подследственного и для побега из тюрьмы передала ему пистолет. Он обещал ей не использовать его, но при побеге совершил убийство. Она, конечно, понесла ответственность как соучастница и побега, и убийства.
Если после передачи оружия и ограбления был принят более мягкий закон, то он применяется ко всем участникам.
Когда к длящимся и продолжаемым преступлениям, как в приведенных примерах, применяют все законы, действовавшие за то время, это приводит к абсурдным результатам. В деле Т. Верховный суд РСФСР неверно исключил более суровую статью 25 Закона о государственных преступлениях. Посмотрите, что получается: если бы Т. была уличена в том, что она неделю после принятия Закона о государственных преступлениях занималась скупкой и перепродажей золота, она была бы наказана по этому суровому закон}7, но так как она занималась этим и два предыдущих года, то ее следует наказать мягче!
Поэтому я придерживаюсь мнения, высказанного в статьях и монографиях, что временем совершенного продолжаемого или длящегося преступления является момент его прекращения, вынужденного или добровольного. Если в этот момент действует более мягкий закон, незачем ссылаться на ранее действовавшие суровые, поскольку они не применяются. Если в этот момент действует более суровый закон, с его принятием преступник мог прекратить свое деяние, но не прекратил, то, следовательно, должен отвечать по новому действующему закону, хотя бы он был более суровым.
Нам осталось определить ответственность коммерческого посредника Г. в Латвийской ССР. Я думаю, что после всего сказанного, вы согласитесь со мной, что не имеет смысла к одному и тому же преступлению применять все законы, действовавшие за все время его совершения. Надо применять тот закон, который действовал в момент его окончания, независимо от того, был ли он более мягким или более суровым.
В нашей стране наблюдается любопытное явление, когда не отмененные законы просто перестают применяться, хотя это в рамки правовой теории не помещается. Ни в одном учебнике вы не найдете упоминания о ФУСах, хотя это обычный рабочий термин там, где собирается и систематизируется, законодательство. Расшифровывается этот нелегальный термин так: это – акты, Фактически Утратившие Силу, сами по себе прекратившие применение. Не стоит разъяснять, что такого явления в праве быть не должно, ибо период утраты силы не определен и потому в одном месте закон применяется, в другом – нет. Если речь идет об уголовном законе, то кого-то по произволу могут и посадить, хотя большинство к ответственности не привлекают.
Более спорным остается вопрос о преступлениях с отдаленным результатом, где результат служит определяющим моментом состава преступления (выпуск на линию неисправных транспортных средств). Без результата мы вообще не имеем преступления.
Мнения ученых-криминалистов разделились. Одни (Н.Д. Дурманов) считают, что последствие преступления “есть воплощение действия (или бездействия) в объективном мире, конечный результат его развития. Наступление результата при материальных составах обязательный и очень важный признак объективной стороны”. Отсюда, по их мнению, в принципе должен применяться закон времени наступления результата. Исключение они делают для неосторожных преступлений.
Другие (Я.М. Брайнин) полагают, что в принципе должен применяться закон, действовавший в момент преступного деяния. Исключение они делают для тех случаев, когда “виновный сохраняет господство над развитием событий и может предотвратить наступление вредных последствий”. Но выпустивший неисправное транспортное средство на линию уже никоим образом не может предотвратить наступление вредных последствий.
Следовательно, в преступлениях с отдаленным результатом, где результат отделен во времени от деяния (действия или бездействия), но является составной частью преступления, должен применяться закон времени наступления результата.
Теперь нам надо рассмотреть действие “промежуточного” закона, то есть того закона который действовал между законом времени совершения преступного деяния и законом времени суда (или моментом окончания преступления). Если “промежуточный” закон суровее закона времени суда, вопроса нет, – применяется более мягкий закон времени суда. Вопрос возникает в двух случаях: когда “промежуточный” закон более мягкий или когда он вообще отменяет преступность. Повторяю, такие случаи бывают. Например, остановка поезда стоп-краном без надобности была преступлением, затем наказуемость этого деяния в уголовном порядке была отменена и потом снова восстановлена.
Несмотря на то что в западных странах законы меняются значительно реже, чем у нас, в иностранной юридической литературе вопрос этот обсуждался. Длительное время в теории и практике господствовала точка зрения, соответствовавшая либеральному периоду развития капитализма, – должен применяться закон, наиболее благоприятный для преступника, и если это – “промежуточный” закон, то он и должен применяться. Рассуждали так: человек совершил преступное деяние при действии первого, более сурового закона; но не был пойман. Если бы он был пойман и судим в период действия второго, более мягкого, закона, он был бы судим и наказан по более мягкому закону. Можно ли его подвергнуть более тяжкому наказанию, если его судят при третьем, более суровом законе? А если “промежуточный” закон вообще отменял уголовную ответственность, справедливо ли наказывать по прошествии длительного времени человека, который официально во время действия “промежуточного” закона был бы освобожден от наказания? Как говорили французские юристы Демоломо, Берто и др., обвиняемый не должен страдать от медлительности правоохранительных органов.
Однако впоследствии было высказано мнение, что у этой позиции нет никаких юридических оснований, и даже “справедливость” – весьма сомнительное и шаткое основание для применения “промежуточного” закона. “Почему благосклонность вместо правосудия?”, – спрашивал французский ученый Рубье. Довод: “если бы преступник был сущим в период действия “промежуточного” закона, то он был бы наказан мягче или не наказан вообще”, по мнению этой группы юристов, не выдерживает никакой критики и легко опровергается другим доводом: “если бы его поймали и судили при первом законе, то он был бы наказан более сурово”. Они также критиковали мнение, что основой применения более мягкого “промежуточного” закона является принцип применения к преступнику наиболее благоприятного закона, ибо такого принципа в уголовном праве вообще нет. Есть принцип – наказание должно соответствовать преступлению. Рубье считал, что “в определении уголовного правоотношения имеются только два момента, которые идут в счет: время совершения преступления и время вынесения приговора”. У “промежуточного” закона нет никакой связи с правоотношением, возникшим в момент преступления.
У нас применение “промежуточного” закона не урегулировано, в теории очень мало касались этой проблемы, и общего мнения нет. В судебной практике царил и царит разнобой. Примеров я приводить не буду, интерес это имеет только для юристов, надеюсь, что вы поверите мне на слово.
Но свое мнение по этому вопросу я должен высказать. Прежде всего, рассмотрим случай, когда “промежуточный” закон отменяет уголовную ответственность. Если уголовное дело было возбуждено при действии первого закона, то оно должно быть прекращено при отмене наказуемости этого деяния “промежуточным” законом. Есть ли основания возобновлять уголовное преследование при восстановлении уголовного наказания третьим законом? По-моему, это нелогично.
Если третий закон повышает уголовную ответственность, это означает: государство признает, что опасность совершаемого преступления требуют усиления борьбы с ним путем повышения наказания. Если бы преступное деяние было совершено во время действия “промежуточного” закона, то в силу ст. 10 УК санкция действующего закона не может быть применена. Но преступление было совершено во время действия строгого первого закона, и обсуждается оно в период, когда государство требует более суровой борьбы с ним. Какие основания применять санкцию более мягкого “промежуточного” закона? Я не вижу никаких. Статья 10 УК имеет в виду преступление, совершенное при действии более мягкого закона, поэтому запрещает применение более сурового наказания. Подразумевается, что преступник осознавал меру своей ответственности и при более высокой ответственности не стал бы этого деяния совершать. Но на меру ответственности за преступление, совершенное при первом, более строгом законе, "'промежуточный” закон никак не влияет, потому что он никоим образом с преступлением не связан. Говорить о гуманности и справедливости не стоит, ибо и то, и другое нужно рассматривать с двух сторон: гуманность по отношению к преступнику есть ли гуманность по отношению к жертве?
В отношении Г., совершавшего длящееся преступление при действии трех законов, последовательно повышавших наказание, следует применить последний закон.
В других отраслях права: гражданском, семейном, жилищном и т.д. вопрос о действии “промежуточного” закона не рассматривается не только потому, что эти отрасли стабильнее, а потому, что в этих отраслях, как правило, имеет место немедленное действие закона.