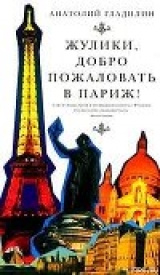
Текст книги "Жулики, добро пожаловать в Париж"
Автор книги: Анатолий Гладилин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Политкорректность во Франции
Нормальные, интеллигентные французы новости по телевизору не смотрят. Все, что их интересует, они вычитывают в газетах. Одно и то же событие в мире будет преподнесено в «Либерасьон», «Фигаро» или «Юманите» под разными соусами. Но именно так, как хочет читатель этой газеты. В стране с установившимися демократическими традициями знают, что переубедить оппонента невозможно. Что бы в мире ни происходило, коммунисты будут воспринимать события в интерпретации «Юманите», а консервативные буржуа – в интерпретации «Фигаро». Однако подавляющее большинство французов узнает о событиях в мире и стране из телевизионных «Новостей». Чтобы понять, что такое политкорректность во Франции, надо смотреть телевизионные «Новости». И в нынешних условиях знаменитая фраза Владимира Ильича звучала бы так: «Телевидение – не только коллективный агитатор, оно – коллективный организатор».
Прямо скажем, во французских теленовостях в самой подаче материала (то есть, как верно заметил Ленин, в формировании и организации общественного мнения) очень много симпатичного. Дикторы почти всегда улыбаются. С улыбкой вам сообщают, что не ходит метро, что забастовка водителей грузовиков блокировала полстраны. Дескать, ничего, мадам-месье, придется потерпеть, мы и не такое видели. Президента, премьер-министра мельком показывают на официальных церемониях. Министр крупным планом – только в двух случаях: или он, министр, обещает что-то конкретное (например, сократить налоги), или когда сморозил какую-нибудь глупость. Вообще, если нет никаких потрясений или выборов, то жизнь в высших сферах власти французское телевидение не волнует. А волнует, то есть привлекает внимание, закрытие завода (особенно иностранной фирмой), когда рабочие вынуждены садиться на пособие по безработице; вандализм в школах и горячих пригородах; нехватка медперсонала в госпиталях; и трудная судьба французских крестьян (постоянный сюжет), которые в связи с перепроизводством не знают, куда девать избытки мяса, молока, зерна, овощей, фруктов. Вы просидели у телевизора 20 минут и кажется, уже все узнали про Францию. Но нет, ударный материал впереди! Камера медленно наплывает на скалистые берега Круазика, на песке, на камнях крупным планом – мазутные лепешки. Крупным планом показывают мертвых птичек, покрытых мазутом. Голос диктора дрожит, кажется, сейчас он заплачет.
Птичек очень жалко.
Потом, словно спохватившись, диктор скороговоркой сообщает оставшиеся новости. В Калифорнии разбился самолет, 17 человек погибло. Показывают картинку. Русские произвели зачистку в Чечне. Показывают картинку. В Бангладеш в результате циклона погибло и пропало без вести около 70 тысяч человек. Картинку даже не показывают. На это уже нет времени. Ведь надо успеть рассказать о концерте Джонни Холидея в зале Берси. В актерском сопереживании со зрителем французские тележурналисты достигли колоссального мастерства. Взять хотя бы такую банальную вещь, как снег. Кого удивишь им в России? А во Франции это сложнейший комплекс проблем. Снежный покров в 5 сантиметров полностью парализует все автомобильные дороги, движение в городах и даже частично железнодорожный транспорт. Снег во Франции – это как цунами. Однако и отсутствие снега в горах зимой – экономическая катастрофа. Парализуется вся экономика лыжного туризма. Значит, снег должен обязательно и непременно выпадать в горах, особенно во время студенческих и школьных каникул. Но ни в коем случае не падать на шоссе, ведущее к горным курортам. Если же такое происходит… Вы бы посмотрели, с каким драматическим пафосом повествует об этом французское телевидение! Какие глубокие чувства читаются на лицах авторов репортажей! Станиславский, восстав из гроба, посмотрел бы и убежденно сказал: «Верю!».
По телевизионным «Новостям» становится ясно, на каких событиях расставит свои акценты французская пресса. Но если в газетах возможны полемические перехлесты, то телевидение как бы диктует правила поведения, точнее, правила хорошего тона. Попробую их перечислить.
Никогда не скажут, что совершил преступление араб или негр. Если в группе хулиганов есть хоть один белый, то будут показывать именно его.
В репортажах о горячих пригородах будут напирать на экономические условия и социальное неравенство.
При первой возможности поехидничают по поводу американского образа жизни, открыто критикуют американскую внешнюю политику (особенно войну в Ираке), но будут лебезить перед приглашенной в студию голливудской знаменитостью.
В лучших советских традициях нападают на израильскую военщину, сочувствуют палестинцам, но сразу же негодуют при любой антисемитской вылазке во Франции.
С политиком, который дает интервью, предельно корректны, но Ле Пену будут улыбаться сдержанно, а товарищу Роберту Ю. (во всяком случае, пока он был генсеком Французской компартии) – до ушей.
Промышленника, магната, президента крупнейшей международной корпорации будут стараться поддеть, загнать в угол острыми вопросами, но заискивать перед сопливой девчонкой, если она в данной момент делегат протестующих студентов.
И всегда, как только представится случай, похвалят французскую кулинарию.
Тем не менее, французская пресса, независимо от политической ориентации, и несмотря на общепринятые правила хорошего тона, – дама с характером. Характер этот сложно обрисовать набором прилагательных. Попробуем конкретным примером.
Несколько лет тому назад в парижском пригороде Нантер произошла трагедия. Дождавшись окончания заседания муниципального совета, некий месье встал и начал хладнокровно, методично расстреливать муниципальных советников. Убил восьмерых, ранил еще больше, но тут люди сообразили, что он перебьет всех, набросились на него, скрутили, причем, убийца кричал: «Убейте меня, убейте меня!» К этому времени подоспела полиция, и убийцу передали в руки правосудия. Правосудие быстро выяснило, что убийца, во-первых, психически вменяем, во вторых, эту акцию он готовил давно, ибо считал свою жизнь неудавшейся, пропащей, однако почему-то обвинил в своих неудачах муниципалитет Нантера. Да, такая деталь: он профессионально занимался стрелковым спортом и имел право на хранение оружия. Он давно подумывал о самоубийстве и в конце концов, решил уйти из жизни, громко хлопнув дверью. Допрашивали убийцу в святая святых французской полиции, на «Кэ д'Орфевр», в одном из тех кабинетов, которые занимал легендарный герой Сименона, комиссар Мегрэ.
Естественно, французская пресса забыла обо всем на свете (даже о росте цен на салат, обязательная дежурная тема новостей) и говорила только о Нантере, добавляя какие-то детали из области политики – дескать, премьер-министр Жоспен приехал в Нантер выразить свое соболезнование в два часа ночи, а президент Ширак – лишь в семь утра. И явно тут какая-то интрига. Благодаря стараниям радио и телевидения, политическая интрига становилась все запутаннее и интереснее. Но тут паскуда-убийца поломал журналистам всю игру: выбросился из окна кабинета с четвертого этажа во внутренний дворик и разбился насмерть.
Вся французская пресса была дико возмущена. Чем? Может, тем, что полиция, извините за грубость, не оторвала сразу убийце яйца? Может, тем, что выбросившись из окна, убийца избежал сурового наказания – четвертования, гильотинирования? Может, тем, что восемь погибших муниципальных советников остались неотомщенными? Нет, погибшие вообще остались за кадром, или про них пробалтывали скороговоркой. Так вот, французская пресса дико возмутилась и единодушно требовала крови, то есть сурового наказания… полицейских следователей, прошляпивших прыжок из окна.
Давайте разберемся, какая судебная кара грозила нантерскому убийце. Несмотря на все стенания адвокатов – мол, человек жил на РМИ (пособие для бедных) и что у него было тяжелое детство, думаю, его бы приговорили к пожизненному заключению. Во Франции это означает, что он вышел бы на свободу через 22 года человеком, еще полным сил, и опять мог спокойненько приступить к отстрелу неугодных ему персон. А эти 22 года его бы содержали в тюрьме за счет налогоплательщиков. А может, как это часто бывает во Франции, он бы написал в тюрьме книгу, которую издали бы огромным тиражом (во Франции любят автобиографии преступников), и, в конце концов, вышел бы из тюрьмы знаменитым и богатым человеком.
По моему разумению, с точки зрения всеобщей справедливости, прыжок из окна был не самым худшим выходом из положения. Однако, повторяю, французская пресса рвала и метала, требовала крови полицейских, пока не появилось официальное заключение дисциплинарной комиссии. В заключении говорилось, что следователи не прошляпили и не проспали прыжок из окна, что им дано было указание свыше – вести допрос в мягких тонах, ни в коем случае не надевать наручники, угощать кофе и сигаретами и всячески вызывать на откровенность. (Ну еще бы, такой важный преступник! А если бы он убил не восемь, а восемнадцать человек, ему бы подали шампанское и привели бабу. Впрочем, возможно, это лишь мои домыслы.) Вот только тогда, узнав как гуманно обращались с убийцей, французская пресса разом успокоилась и наконец-то вспомнила о погибших. Если вы еще не поняли характер этой «дамы», то я не виноват.
Да, забыл предупредить. Уважаемые герры преступники! Дальше вы никаких полезных сведений не получите, так что можете спокойно закрыть книгу. Как говорил товарищ Сталин: «Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!». А мы займемся философско-социологическим исследованием на тему: «Почему добрые, благородные намерения приводят к противоположным отрицательным результатам?».
…Наверно, я похож на древнего гусляра, который поет преданья старины глубокой, а публика слушает и скептически улыбается – мол, заврался дед, сказки рассказывает. Так вот, хотите верьте, хотите нет, тридцать лет тому назад, когда мы с семьей прибыли в Париж, меня поразил дикий контраст с московскими улицами. На парижских улицах не дрались, на парижских улицах не воровали. Не было ни пьяных, ни наркоманов. Более того, в Париже не было полицейских. То есть они где-то были, но не было надобности в их присутствии. Только в двух-трех арабских кварталах ночью не рекомендовалось появляться. Любимым развлечением парижан и иностранных туристов были ночные прогулки по городу. И двери парадных не запирались. Если бы вы знали, как за эти годы изменился Париж! Как он почернел – в прямом и в переносном смысле!
…Я вхожу в вагон метро. По вагону мечется огромный негр. Скачет, визжит, орет, расстегивает ширинку, демонстрирует причиндалы. Причем, это не сумасшедший, его речь вполне осмысленна. Он требует, чтобы правительство легализовало всех подпольных иммигрантов. Он цепко улавливает недовольные взгляды, накланяется над пассажиром и спрашивает в упор: «Ты расист?». Пассажир смущенно опускает глаза. Во Франции стыдно быть расистом. Во Франции никто не хочет быть расистом, особенно, когда двухметровый громила ставит вопрос ребром. Одна лишь хлипкая девчушка отважно вступает с ним в разговор – дескать, она против расизма, она на стороне нелегальных иммигрантов, но все-таки демонстрации надо устраивать на улице. Буйный защитник обездоленных нагло смеется ей в лицо: «Ты – белая блядь, я тебе не верю».
Вот это – символическая картина того, что сейчас происходит во Франции.
Когда в 1981 году социалисты, впервые в истории Пятой республики, пришли к власти, хитрющий Миттеран быстренько сообразил, что их экономическая программа устарела, никуда не годится и приведет к катастрофе. Однако надо было хоть в чем-то выполнять обещания, данные избирателям. И вот тогда началась широкая кампания за права человека. Открылись двери во Франции для всех выходцев из бывших африканских колоний, («у нас перед ними моральный долг»). Левые интеллектуалы, знаменитые актеры, писатели, звезды эстрады писали от восторга и пели хвалу Миттерану. (Для справки: вся эта почтенная публика проживает в спокойных буржуазных кварталах или богатых пригородах, где негров и арабов в природе не бывает.) Во французских СМИ воцарилась политкорректность. Еще немного бы – и во Франции торжественно объявили бы наступление социалистического рая.
Первыми опомнились и забили тревогу не правые, не либералы, даже не Национальный фронт, а коммунисты, мэры коммунистических пригородов, так называемого «красного пояса Парижа», ибо с ужасом убедились, что «красный пояс» стремительно превращается в неуправляемый криминальный Гарлем. Один коммунист вообще запретил иммигрантам поселяться в своем городке, дескать, их и так уже набилось выше крыши. Никакой ультраконсерватор или лепеновец не осмелились бы на такой шаг. Их бы масс-медиа затравили насмерть. Ну, конечно, ЦК Французской компартии одернул своего товарища, товарищ признал, что совершил идеологическую ошибку. Пресса мягко пожурила левого мэра и завела свою обычную политкорректную песню. Мол, волна преступности объясняется порочными устоями буржуазного общества; люди не виноваты, что начинают убивать, грабить и воровать, на то их толкает социальная несправедливость; надо ликвидировать безработицу, материальное неравенство, тогда преступность исчезнет сама собой; особую деликатность надо проявлять к малолетним правонарушителям (до 18 лет), это дети, они не виноваты, виноваты семья, школа и социальные условия, малолетних не надо наказывать, их надо воспитывать.
…Плавный ход моего повествования прерывает свежий факт сегодняшнего дня. В провинциальном городке, где вроде нет никаких расовых проблем, молодежная банда угоняла машины. Пятнадцатилетний мальчик сказал своему отцу, что знает имена тех, кто украл у них машину. Отец, законопослушный француз, решил, что об этом надо официально заявить в полицию, и явился с сыном в участок. Там все записали, поблагодарили свидетелей, а потом вызвали в участок юных угонщиков, сообщили им, что на них поступило заявление, погрозили им пальцем и… отпустили.
Что сделали семнадцатилетние детишки? Почувствовав безнаказанность, они подкараулили парнишку и зарезали его. Причем резали долго и зверски. На трупе (теперь уже не 15-летний мальчик, а труп!) насчитали 14 колотых ран.
Сегодня об этом страшном происшествии написано во всех газетах, кричит радио и телевидение. Завтра успокоятся и забудут. Накажут ли полицейских? Нет, ибо полиция поступила политкорректно, ведь убийцы не виноваты, виноваты семья, школа, общество. Вот если бы угонщиков сразу арестовали, то пресса бы не забыла и продолжала крик. Ведь нынче, какая главная тема во французских СМИ? Плохо, месье-дам, живется преступникам во французских тюрьмах! Тюрьмы переполнены.
Некоторые факты биографии
У меня впечатление, что больше всего оплакивают распад Советского Союза не советские пенсионеры, а французские левые. Для них это крушение великой мечты о государстве равенства, братства и социальной справедливости. Спорить с французскими леваками, которые по-прежнему дают уроки политкорректности всей стране, бессмысленно. Во Франции крайне непопулярно быть правым. Все французские правые, кроме Ле Пена, смущенно называют себя либералами и втайне мечтают прославиться левыми реформами. Мне почему-то кажется, что лидер правых, Жак Ширак, так и не добился исполнения своей главной мечты. Разумеется, основного он добился, стал президентом, переизбран на второй срок. Однако, повторяю, у меня ощущение – может быть, ошибочное, что Жаку Шираку хотелось бы для полного счастья (такая розовая химера!) посидеть хотя бы несколько дней в кабинете Роберта Ю. на площади полковника Фабиана. Для справки: на площади полковника Фабиана находится ЦК Французской компартии.
Ладно, уйдем от полемики. Я прожил сорок лет в стране победившего социализма. Вот некоторые воспоминания о моих школьных годах.
Кончилась война. Я учусь в 73-й школе, в Серебряном переулке. Чтобы дойти из дома до школы мне надо пересечь Гоголевский бульвар и Арбат. Утром, чтоб сэкономить время, я иду проходными дворами. После школы стараюсь их избегать. Местные ребята поймают – побьют. В каждом переулке была своя банда. У нас почему-то все боялись ребят с Мало-Власьевского. В нашем классе абсолютное социальное равенство: все бедны, все живут в коммунальных квартирах, всем в школе на завтрак дают баранку и чай. И бесконечные драки: драки в коридорах, драки на переменках, драки после уроков в школьном дворе. Как я теперь понимаю, школа наша была относительно спокойная, то есть дрались без ножей и без еще более коварного оружия – «писок» (писка – это тонкое лезвие бритвы, которое зажимали между пальцами и «расписывали» лицо противника). А вот про Марьину Рощу рассказывали, что там огольцы приносят в школу даже пистолеты…
Постепенно в каждом классе происходило естественное разделение на две категории: тех, кто бьет, и тех, кого бьют. Били, как правило, хороших учеников, которые сидели на передних партах. Била, как правило, «камчатка» – то есть задние парты, где обосновались рослые, ленивые ребята и второгодники.
Поясняю, разжевываю для мадамов и месье: у нас не было и не могло быть никаких социальных или расовых конфликтов, никого не привозили в школу на служебной машине, а негров, китайцев, арабов и индейцев мы видели только в кино. Просто с помощью битья плохие ученики ставили отличников на место, чтоб те не зазнавалась. То есть брали своеобразный реванш за свои двойки и колы.
Не очень уверен, что месье и мадамы поняли, но продолжаю. Когда негласное разделение на «классы» было признано всеми, драки прекратились. Разве что заедут кому-нибудь, кого положено бить, по роже. Не сильно, для порядка, для плезира. Если же кто-то начинал бунтовать, то его вызывали «стыкаться». Стыкаться – драка на заднем дворе школы, при большом стечении публики, один на один, до тех пор, пока противник не упадет или не попросит пощады.
Я был исключением из правил. Я хорошо учился и был по сложению, что называется, крупным мальчиком, с широкими плечами. В классе меня почтительно называли «Слоном». Таким образом, я автоматически попадал в категорию тех, кто бьет. Боюсь вспоминать, но думаю, что, к стыду своему, пользовался этим правом. Так продолжалось до конца четвертого класса, когда я чуть было не перешел в другую весовую категорию. Резвясь на перемене, я схватил Заику (из тех, кого бьют) за плечи, пригнул его к полу, но он умудрился вырваться, да так неловко, что вдарил меня затылком в нос. От неожиданности и боли у меня слезы брызнули из глаз. Зоркий класс моментально засек этот инцидент, и уже на следующей перемене все говорили: сегодня Слон будет стыкаться с Заикой! Заика слушал это, втянув голову в плечи, он совсем не жаждал стыкаться со Слоном.
Стычка не состоялась. После уроков, вместо того, чтоб бить морду Заике, я произнес пламенную речь. Дело в том, что я был во многих случаях исключением из правил, очень много читал, до позднего вечера просиживал в читальном зале Ленинской библиотеки, где можно было достать множество интересных книг. Видимо, из этих книг я нахватался идей, чуждых советскому школьнику. Вместо того, чтобы давать отпор «агрессору», идти в бой «гремя огнем, сверкая блеском стали», и завершить все «вражьей кровью, железным ударом», я пространно рассудил о равенстве, братстве и всеобщей справедливости. Убежден, чтоб если б кто-нибудь тогда записал мою речугу, ее бы сейчас с радостью опубликовали в «Либерасьон» или в «Монд». Все, что надо, все, что доктор прописал!
Однако класс встретил мои слова презрительными усмешками. Я нарушил священное табу, я отказался от права сильного! Ну кто же в здравом уме и твердой памяти отказывается от права сильного? Значит, Слон – просто трус.
Четвертый класс закончился кошмаром. Меня не решались бить, но надо мной издевались. В пятом классе кошмар усилился. Любая козявка прилюдно предлагала мне стыкаться, зная, что в ответ услышит: «Стыкаются только коровы». Я как маньяк продолжал проповедовать идеи братства, равенства и всеобщей справедливости, а надо мной смеялись и плевались. Особенно усердствовал один мой одноклассник, который благодаря насмешкам над Слоном, переходил в тяжелую весовую категорию. Я мужественно держался до зимы, и тут мои нервы не выдержали, и в ответ на очередную насмешку моего главного обидчика, я вдруг сказал: «Пойдем стыкаться!».
После уроков на заднем дворе собралась чуть ли не половина школы. Не помню, сколько продолжалась стычка, но кончилось тем, что мой обидчик закрыл лицо руками и громко заревел. Я шел через расступившийся почтительный живой коридор.
Видимо, это на всех произвело такое впечатление, что даже в 10 классе, когда многие из одноклассников переросли меня на голову, никто не предлагал мне стыкаться.
И еще один эпизод. Я учился в седьмом классе, и в это время в стране откровенно прорезался антисемитизм. Он как-то глухо тлел и в военные года, но его старались не афишировать.
Теперь со всех сторон слышалось: «Евреи не воевали, евреи спекулировали!». Не за горами был процесс евреев-убийц в белых халатах. Но мы-то ничего не знали о планах нашего мудрого Вождя и Учителя. В общем, я вдруг заметил, что в классе целенаправленно бьют Волика, еврейского мальчика в очках. Правда, он был всегда в категории тех, кого бьют, однако сейчас он оказался идеальной мишенью. На одной из перемен я как бы очнулся. После урока я вышел к доске и заявил, что запрещаю бить Волика. Класс дружно загудел: «Но ведь он жид, еврейчик!». Я сказал: «Я тоже еврей». Кто-то не поленился, подбежал к учительскому столу, раскрыл классный журнал и торжествующе прочел: «Гладилин, Анатолий Тихонович, русский». (Для сведений мадамов и месье: в классных журналах обязательно указывалась национальность). Класс радостно захохотал. Я сказал: «Это по отцу я русский, а по матери – еврей». Взял ручку, обмакнул перо в чернильницу, зачеркнул в журнале «русский», сверху написал «еврей». Класс молча встал и гуськом вышел в коридор. Никакие мои слова о равенстве и братстве между народами не произвели бы ни малейшего впечатления. Но со Слоном – тем более, что всем было известно, что я уже полгода занимаюсь боксом в «Спартаке», – никто не пожелал ссориться. Мне было позволено оставаться евреем.
Повторяю, это был нормальный класс, в обыкновенной школе страны победившего социализма. В нем учились будущие врачи, инженеры, дипломаты, а мой главный обидчик, с которым мы впоследствии подружились, стал выдающимся киносценаристом. И никто никогда не говорил нам – мол, ребята, общество перед вами виновато, потому что вы живете в коммунальных квартирах, потому что у ваших родителей нет автомашин, потому что вы можете лишь раз в неделю ходить мыться в баню, потому что вы не проводите лето на берегу Черного моря – и т. д., и т. п. Нас учили говорить: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».
А я думаю: каким бы страшным ударом было для всех нас, если б нам показали фильм из будущего – дескать, вот как будут жить люди через пятьдесят лет. И на экране мы бы увидели, нет, не респектабельные кварталы буржуазного Парижа, а его так называемые «горячие пригороды», трудный быт современных подростков. И пусть голос за кадром причитал бы о социальной несправедливости, мы бы жутко обиделись. Мы бы почувствовали себя голодными, босыми оборванцами. Ведь такая жизнь, в которую нам позволили заглянуть, нам не снилась даже в самых сладких снах.
* * *
О школе узнаешь от своих детей. Когда мы приехали в Париж, моя старшая дочь пошла в последний класс лицея. «Папа, – рассказывала она, – первый урок в школе никогда не начинается вовремя, ибо все ученики должны друг с другом перецеловаться, по два или по четыре раза». Однажды я подъехал за дочерью к лицею и видел всех ее одноклассников. Невольно вспомнилась советская песня: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем!» Белый букет красиво оттенялся желтым и черным.
К моменту, когда моя младшая дочь пошла в колледж, Париж сильно почернел, но целоваться перед уроками еще продолжали. К тому же мне удалось через парижскую мэрию получить для моей младшей дочери и ее матери муниципальную квартиру в хорошем районе, и я был уверен, что у девочки проблем в школе не будет.
В какой-то очередной мой визит к дочери я застал у нее черную девушку, похожую по своим размерам на знаменитую советскую олимпийскую чемпионку по толканию ядра – Тамару Пресс.
– Папа, это Магда, моя школьная подруга.
Подруга так подруга. Я радушно улыбался Магде, а Магда вежливо помалкивала, слушая нашу русскую речь. Потом дочка ушла провожать Магду, а когда вернулась, я решился задать ей вопрос. Естественно, звучало это путанно – дескать, я не расист, я ничего не имею против Магды, я вообще не вмешиваюсь в твою жизнь, я же тебе ни слова не сказал про Настю, а она дочь парижского корреспондента газеты «Правда», знаешь ли ты, что это означало несколько лет тому назад? Ну я понимаю, две русские девочки оказались в одном классе, Настя хорошая девочка, дружи с ней на здоровье, Магда тоже производит приятное впечатление, воспитанная девочка, но что у вас с ней общего, мне кажется, она намного тебя старше…
Дочка мгновенно уловила смысл моей словесной размазни и в ответ прочла мне, как отстающему ученику, четкую и логичную лекцию.
Магда действительно ее старше на семь лет. Почему? Потому что Магда в каждом классе сидит по два года. Воспитанная девочка Магда избивает всех, и в первую очередь, Настю. Чтоб отвести удар от Насти, я пытаюсь завязать с ней какие-то доверительные отношения. Пытались ли наши мальчики нас защищать? Пытались. Тогда Магда позвала своих братьев, прибежало шесть здоровых черных бугаев, и они били всех, выходящих из колледжа. Магду все боятся. Папа, умоляю, не вмешивайся в это дело. С нашей директрисой говорить бесполезно. Директриса не боится Магды, директриса боится, что ее обвинят в расизме…
Кажется, именно тогда я понял, что моя маленькая Лиза становится взрослой.
Тем не менее, с директрисой Лизиного колледжа мне пришлось встретиться. В их классе у учителя вытащили бумажник из пиджака, который он оставил на стуле. Директриса провела короткую экспертизу. Обведя опытным педагогическим глазом весь класс, директриса заметила двух русских девочек, о чем-то шептавшихся и посмеивавшихся на задней парте. Класс представлял собой многонациональную и расовую смесь. Директриса нашла политкорректное решение: бумажник украли русские девочки. Лизу и Настю выгнали с уроков и дали им сутки на размышление. Если они не признаются в краже и не вернут бумажник, то их вообще исключат из колледжа.
Лиза мне рассказала о случившемся, и я начал дозваниваться до директрисы, директриса трубку не брала. Секретарша твердила, что у директрисы совещание. Я объяснял секретарше, что я отец той русской девочки, которую грозят исключить из колледжа. Директриса на совещании. Тогда я сказал, что я корреспондент американского радио, член Международной ассоциации прессы в Париже и требую встречи с директрисой в любое удобное для нее время. (На самом деле я уже являлся французским безработным, наше бюро в Париже было закрыто, но у меня оставалось старое редакционное удостоверение, и надо было произвести впечатление на директрису). «Минуточку», – ответила секретарша, и через крошечную паузу сообщила, что директриса меня примет завтра, в семь тридцать утра.
Вечером мне позвонил отец Насти, и, узнав, что я добился рандеву с директрисой, спросил, не буду ли я против, если он тоже придет.
– Володя, конечно, приходи. – Вдвоем будет сподручнее, тем более что в такую рань у меня мозги не работают.
За долгие годы эмиграции, когда советские журналисты шарахались от меня как от прокаженного, никогда не мог вообразить себе такую картину: в кабинете французской директрисы сидят рядышком корреспондент «Свободы» и корреспондент «Правды» и плечом к плечу, как 28 героев-панфиловцев, защищают честь своих дочерей.
– Да вы знаете, кто такой Гладилин? Он же гордость русской литературы, он же друг академика Сахарова!..
…Я мысленно пытался себя ущипнуть: слышать такой панегирик в свой адрес от корреспондента «Правды»! Однако директриса этих тонкостей не секла. Разумеется, если бы речь шла о советских девочках, она бы пикнуть на них не посмела. Но нет великого Советского Союза, теперь Россия – какая-то страна Третьего мира. И доводы Володи отскакивали от директрисы, как от стенки. По ее лицу было видно, что она проверяет политкорректность своего решения: «Французов обвинять нельзя, в нашем районе живет непростая публика, у родителей могут быть связи в министерстве. Арабов? Меня саму обвинят в расизме. Эту черненькую? Да упаси Бог! Ясное дело, что украли иностранцы из этой русской бангладеш»…
– Ну зачем моей Насте чужие деньги? – продолжал наступать Володя. – У нее всегда при себе кредитная карточка. Вот, посмотрите. Может снять деньги в любом автомате.
Как об стенку. А я мысленно присвистнул: ого, кредитная карточка у школьницы, так вот куда ушли деньги партии! И решил, что мне пора встревать. Я заговорил о Магде. Знает ли мадам, что эта девочка терроризирует всю школу? И если знает, то почему не обращается в полицию?
Директриса мигом преобразилась и с гордостью произнесла:
– С Магдой я сама разберусь, а полиция в мой колледж не войдет никогда!
Володя незаметно толкнул меня локтем: дескать, не по делу выступаешь. Я переменил тему. Знает ли мадам, кто сидит перед ней? Кандидатура на пост корреспондента «Правды» в Париже всегда утверждалась на секретариате ЦК КПСС. ЦК компартии оказало товарищу Володе доверие, а мадам подозревает его дочь… Между прочим, у «Правды» до сих пор тесные взаимоотношения с вашей «Юманите».
Тут впервые на лице мадам промелькнула тревога. Я, как корреспондент американского империализма, был ей совершенно не опасен. Да напиши я хоть в «Нью-Йорк-Таймс», – для французской директрисы это выигрышные очки. А вот критика слева, несколько строк в коммунистической «Юманите», могли ей стоить поста. И мадам начала сдавать позиции.
Покинув лицей, мы усталые, но довольные зашли в ближайшее кафе. «Сволочная тетка, – сказал Володя. – Хоть она и обещала, но ждать от нее можно любой пакости. На всякий случай, по старой гэбэшной привычке, – он указал на торчащий из кармана колпак авторучки, – я записал нашу беседу на магнитофончик. Мало ли чего»…
«А ведь, в принципе, их неплохо обучали», – подумал я.
Через несколько лет полиция вошла и в этот колледж, и во все колледжи и лицеи Франции. Вошла потому, что учителя сами устраивали забастовки и требовали вмешательства полиции. Ведь вся французская пресса забила тревогу: в школах процветает рэкет, учеников поджидают на выходе, грабят и избивают. Избивают даже учителей за плохие отметки. Кто избивает, кто грабит? Об этом газеты не писали. Думаю, даже в полиции не осмеливались бы вести такую статистику. Политнекорректно.








