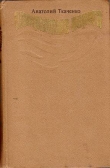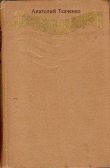Текст книги "Девушка Белкина"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Анатолий Ткаченко
Девушка Белкина
После войны и эвакуации в сибирский городок Туринск из всех родственников у Белкиной осталась лишь тетка, которая, продержав ее возле себя до семилетнего возраста, сдала в местный детдом, сказав при этом: «По теперешним временам ребенок трудный. Вот я родная – и то временно отказываюсь». Тетка уехала в Калужскую область к подруге детства и там в третий раз вышла замуж.
В шестнадцать лет, как положено всем гражданам, Белкина получила паспорт, а через год директор выдал ей удостоверение об окончании школы швей по третьему разряду. Когда он спросил: «Куда желаете поехать?», впервые назвав Белкину на «вы», ей так захотелось показать самостоятельность и свою не полную бездомность, что она, не ожидая от себя этого, сказала: «Желаю в Калужскую область». И только потом, в поддержку себе, вспомнила теткино слово: «временно». Подружки обрадовались за нее: тетка – все-таки родной человек, а Туринск вовсе никакой не город, одно понятие.
С теткой Белкина не переписывалась, смутно помнила, какая она из себя, по телеграмму о своем приезде решила отбить. Долго обдумывали всей 7-ой комнатой, что написать, наконец обозначили адрес районного городка, составили текст: «Управление милиции старшему начальнику. Срочно оповестите Мамыкину Анастасию Ивановну, к ней едет родная племянница девушка Белкина». Немного поспорили – оставить или нет слово «девушка», – большинством голосов постановили: «Оставить». Пусть тетка не пугается и не думает ничего плохого: ее родственница – самостоятельный, честный, подготовленный к жизни человек.
Деньги у Белкиной были (скопила целых сто рублей, пока проходила шестимесячную практику в местном бытовом комбинате), она купила тетке подарки: полушалок – большие красные розы по желтому полю и отрез креп-марокена на платье. Уложилась, продала девчонкам по дешевке кое-какие вещички, а то и просто подарила на память, купила билет, распили бутылку «Белого столового» и… сначала на пароходе до города Тюмени, затем поездом до Москвы. На Казанском вокзале пожилой милиционер помог ей сесть в такси и отправил на Киевский вокзал; на Киевском другой, молодой милиционер, разъяснил ей, как добраться до нужного города в Калужской области, подвел к кассе пригородного сообщения.
Через два часа Белкина вышла на небольшой станции, держа в руках чемодан и постель, скатанную и стянутую брезентовыми ремнями. Решила немножко выждать, пока разойдется народ: легче будет обратиться к милиционеру. Присела на скамейку, разглядывая здание вокзала – должно быть, старинное, историческое; необыкновенно высокую телевышку, синие купола церквушки вдалеке, – совсем уж как из времени царя Гороха. Приуныла от такой новой, неожиданной обстановки, и вздрогнула, когда кто-то сверху гаркнул:
– Разрешите обратиться?
Перед нею стоял милиционер средних лет, но еще вполне симпатичный, и даже немного пахнущий одеколоном. Она вскочила, на всякий случай прихватив вещи, – эта привычка у нее навсегда выработалась за длинную одинокую дорогу, – хотела разъяснить милиционеру, что она не какая-нибудь, а приехала к родной тетке, только вот не знает точного адреса.
– Вы ли будете девушка Белкина? – опередил ее милиционер.
– Белкина, правильно!
– То-то гляжу…
Она вспомнила о телеграмме, ничуть не удивилась – так и должно быть в нашей стране, спросила:
– Значит, получили?..
– Как же, полный порядок! И тетушка вас ждут, третий день к электричкам приходили. Давайте-ка вещички. – Милиционер отобрал чемодан и постель, зашагал к вокзалу, приговаривая: – Порядок, как же!
Обогнули вокзал, вышли на площадь, пересекли ее и остановились возле сквера с какими-то очень зелеными, прямо роскошными по густоте деревьями. Под ними стояла круглая пивная, в открытой двери толпились мужики с пол-литровыми банками в руках, спорили, матерились. А вверху, в зелени чистенькой молодой листвы, суетились и орали черные птицы, похожие на ворон, и проглядывали большие гнезда из прутьев и соломы.
«Может, грачи? – подумала Белкина. – Как это в книжке: «Вдоль по пашне скачь да скачь, а зовется птица – грач».
Ей захотелось пить. Но воду нигде не продавали. Она провела языком по сухим губам, глянула в дверь пивной: «Вот бы полбаночки…» – и застыдилась: что скажет о ней товарищ милиционер? Пьяница, скажет, приехала к нам из Сибири.
На площади развернулся автобус, побежал к скверу и приткнулся у самого заборчика.
– Девушка, – нежно тронул Белкину за плечо милиционер. Он поднял чемодан и скатку, втиснулся в переднюю дверь, кивнул шоферу, уложил вещи к ногам кондукторши. – Прошу садиться, – сказал он Белкиной. – Вот вам адресок. Тут все записано – улица, дом, фамилия. Сойдете у церкви, третья остановка. Всего хорошего, бывайте, девушка, – и милиционер красиво, аж загорелись щеки у Белкиной, козырнул ей, шоферу, кондукторше и всему автобусу.
Одна, вторая остановка. Дома деревянные, старые, как бы увязшие в топкую землю по самые окна. Зато дорога гладкая, асфальтовая. Будто не дорога для домов, а дома для дороги: показать, какая она значительная. Но зелени много – сады, сады… Кое-где виднелось белое цветение, и пахло душновато, медово, как никогда не пахнет в Сибири.
– Вам здесь, – сказала кондукторша, когда автобус остановился напротив большущей церкви, украшенной синими куполами. Помогла вытащить чемодан, очень любопытствуя, оглядела Белкину, показала в какую сторону ей двигаться.
Несколько минут Белкина внимательно рассматривала церковь. Она немножко побаивалась ее величия, золотых крестов, воткнутых в самое небо, ей казалось, что из железных овальных дверей, похожих на ворота, в любую минуту может выйти сам бородатый Иисус Христос и произнесет: «Помолись, девушка Белкина!» Но в душе у нее была и хитренькая радость: «Вот стою, и ничего. А привыкну – совсем перестану бояться. Это ж дурман, темная сила, которая в отсталости держала народ».
Подняла чемодан и скатку, потихонечку зашагала в узенький переулок – немощеный, с лужами, гусями и собаками, – такой же, как в городе Туринске. Дом № 14 нашла с правой стороны, удивилась – большой новый дом под железной крышей, с голубыми наличниками, стеклянной верандой, садом и красивой вывеской на калитке: «Во дворе злая собака». Ого, ничего себе живет тетушка! Толкнула калитку, осторожно переступила порожек – собака залаяла, но была привязана коротко, – опустила вещи на доски, протянутые к самому крыльцу, стала ждать.
Открылась дверь в доме, после скрипнула дверь на веранде, и в проеме обозначилось широченное, в синюю полоску, платье, тяжелые ноги, округлые руки, и после… Только после Белкина увидела маленькое, пухлое лицо женщины, выпуклые водянистые глазки и раздавшийся в улыбке и страдании рот. Она не узнала тетку, Мамыкину Анастасию, подумала: «Может, это не тетка вовсе?», но женщина заговорила, пожалуй, просто заохала, запричитала что-то непонятное, и Белкина до колик в сердце почувствовала: «Она!»
Тетка пошла к ней, слепо нащупывая ногами ступеньки крыльца, не мигая глазами, будто боясь выпустить ее из виду, – и было ясно, что она тоже не узнала племянницу, ждет ее голоса, какого-нибудь подтверждения, чтобы потом уже обрадоваться по-настоящему.
– Здравствуйте, Анастасия Ивановна! – четко выговорила Белкина (так они встречались с воспитателями в детдоме) и вытянулась, опустив руки, чуть вскинув голову. Чтобы тетка видела ее во весь рост и поняла, какой она теперь взрослый человек.
– Мотенька, родненькая!
Тетка опустила на ее плечи руки, привалилась пухлым большим телом, – голова Белкиной утонула в мягкой теткиной груди, и она слегка попятилась, чтобы не задохнуться, – тетка целовала ее в шестимесячные кудряшки, плакала и делалась до невыносимости жаркой.
Белкина не ожидала такой встречи (у нее ведь не было никаких родственников, кроме Анастасии Ивановны), расстроилась, что вышло так несолидно, будто она все еще беспризорная, как десять лет назад. К тому же она очень не любила свое деревенское имя, – это, пожалуй, больше всего ее обидело, – и она, грубовато высвободившись из-под теткиных рук, сказала:
– Зовите меня Мила. Я девушка городская, Анастасия Ивановна.
Подняв чемодан, Белкина быстро пошла по доскам к крыльцу. Из конуры на нее молча смотрела седобровая собака.
Белкина стала работать на швейной фабрике, ее посадили «на поток» – сшивать рукава для мужских костюмов. Неинтересное дело, но выполняла она его с охотой, даже творчески: экономила минуты, не болтала с соседками, не вскакивала за пять минут до перерыва, – и к концу дня сшитых рукавов у нее всегда оказывалось больше, чем у других швей. Через месяц ее повысили – поставили на сшивание пиджаков, а к осени она стала бригадиром «молодежной». Фотографию Белкиной, где она снята в черном детдомовском берете со звездочкой и смотрит строго, из-под ровно срезанной челки, повесили на доску Почета. Директор фабрики, выступая на собрании, упомянул ее фамилию, сказав при этом: «Возьмем, например, девушку Белкину. Слабый физически человек, а трудится как богатырь, постоянно болеет за коллектив. Большой, красивой души человек…»
После работы она отправлялась в столовку (дома она не питалась принципиально: с первого дня ей очень не понравилась теткина мелкая жизнь для себя, «своим родным кружочком»), читая книжку, съедала что-нибудь дешевенькое и бежала в восьмой класс вечерней школы: решила получить среднее образование и обязательно поступить в техникум. Домой возвращалась поздно, сразу принималась за уроки.
Тетка ждала ее, подогревала ужин, заваривала покрепче чай (пила сама, чтобы не уснуть), подсаживалась поближе к ней и молчала. Молчала долго, терпеливо, потом говорила шепотом (не помешать бы сильно племяннице):
– Милочка, выпей хоть чайку. Заработалась вся, худенькая… Вот тут я наготовила…
Белкина отрывала от тетрадки голову, внимательно вглядывалась в горестное теткино лицо, как бы стараясь распознать малознакомого человека, и вдруг хмурилась и слегка пристукивала кулачком по столу.
– Анастасия Ивановна! Сколько раз я буду повторять: жалость унижает человека. Я сама себе зарабатываю на жизнь.
– Да как же, мы единственные родные, – всхлипывала тетка. – Прости меня, родненькая, что своевременно не взяла тебя из детдома: муженек у меня был строгий, ничего такого сказать ему не могла. А тут вскоре ты и сама объявилась…
– Не в этом вовсе дело!
Белкина вскакивала, отходила на несколько шагов от тетки, чтобы увидеть ее всю сразу – огромную, старую, оплывшую жиром, с выпуклыми перепуганными глазками, – напружинивалась, чуть приподнимаясь на носки, как бы делаясь выше ростом.
– Анастасия Ивановна, мы с вами очень разные люди. Мы никогда не поймем друг друга. – Она четко выговаривала слова, и голос у нее был тихий, даже ласковый: так высказывают горькую правду близкому, дорогому человеку. – Вы погрязли в частной собственности. Живете как сто лет назад. Не могу я пользоваться плодами такого вашего труда. – Она вплотную подходила к тетке, наклонялась к ее уху, вполголоса внушала: – Мне ничего не надо, Анастасия Ивановна. Покупать и то не хочу ваши частные яблоки и яички.
Тетка тяжело раскачивалась, колыхалась на стуле, подносила к лицу платочек – не то рыдала без голоса, не то вздыхала, переживая слова племянницы, – после с большим старанием утверждалась на ногах, забирала тарелки с едой, чайник и шла на свою половину, приговаривая:
– Испорченное дитятко… Погибший ребенок…
Сделав уроки, прочитав, что положено, в книжках, Белкина раздевалась и ложилась на узкую жесткую кровать (она не позволила тетке постелить второй, пуховый матрац) и несколько минут думала о завтрашней работе: проследить за Меньшиковой, кажется, ворует лавсановые обрезки (зачем они ей?), Иванову строго предупредить, если еще раз опоздает с обеда, отказать Савицкой в недельном отпуске без содержания: не время сейчас – конец месяца; утром прочитать газету и провести политинформацию о событиях в Африке… Засыпала Белкина легко, просто приказывала себе: «Спать, товарищ Белкина» – и сразу засыпала. Иногда сквозь дрему ей виделись большие белые руки директора, он кладет их на ее плечи, дышит табаком и мятным кремом после бритья, и потом, уже откуда-то из темного воздуха, слышатся слова: «Красивой души человек…»
Муж Анастасии Ивановны заведовал городской баней и умер оттого, что как-то в субботу после жаркой парной выпил литр холодного пива. Был он человек одинокий (вся семья погибла в оккупации на Брянщине), но по старой колхозной привычке сохранил тягу к хозяйству: держал корову, птицу, разбил большой сад и перед смертью поставил новый, из листвяжных бревен дом. Анастасия Ивановна не очень любила мужа, однако побаивалась его угрюмости, и за домашней работой не заметила, как прожила с ним десять последних лет. Теперь же ей казалось, что лучше этого времени у нее ничего не было в жизни. Муж стал вспоминаться ей другим, даже любимым человеком, и она, продав корову (все равно было не под силу кормить ее), поставила на могиле памятник из красного мрамора. Сама ездила в Москву, делала специальный заказ.
На кладбище Анастасия Ивановна ходила часто, а первое время по ночам спать не могла: все казалось, что придут на могилу мужа воры и утащат дорогой мрамор. Успокоилась немного лишь после того, как оградила могилу крепкой железной решеткой, замкнула калитку и ключ положила себе за пазуху в потайной карман, где хранилась сберкнижка, небольшая сумма денег на всякий хозяйский случай, кое-какие документы.
Сегодня было воскресенье, Анастасия Ивановна собралась в церковь и на кладбище, хотела сказать племяннице несколько слов, – чтобы та не позабыла закрыть трубу натопленной печки, – как неожиданно залаяла собака; потом громко застучали в дверь, и на пороге появился рыжеватый парень в плаще «болонья», белой рубашке с галстуком. Анастасия узнала его – это был Владимир Меньшиков, техник-наладчик со швейной фабрики, – посторонилась, пропуская его в дом, а сама быстро вышла на веранду, думая, что наконец-то племянница нашла себе дружка, от этого у нее может перемениться испорченный безродной жизнью характер. Решила помолиться за нее и за Владимира, чтобы у них получилась крепкая любовь, чтобы после сыграли веселую свадьбу, жили, как все хорошие люди, народили детей: дом-то у нее большой и совсем сиротский без мужика и детского крика.
– Можно увидеть проживающую здесь товарищ Белкину? – спросил Меньшиков, усиленно вытирая ноги о цветной половик, сотканный из ненужных тряпок, и грубовато покашливая с осеннего утреннего морозца.
Белкина вышла из своей комнатки с книгой писателя Шолохова «Поднятая целина», протянула Меньшикову вялую сухонькую ладошку, но руку ему тряхнула жестко, как мужчина мужчине.
– Проходи, Владимир, – сказала она, – садись, рассказывай.
Меньшиков осмотрел стены, потолок, сощурился на голые яблоневые ветки за окном, слегка постукал в пол ботинком, как бы проверяя прочность досок, а может быть, выстукивая мотивчик, спросил разрешения закурить. Достал папиросу, пыхнул сильно дымом.
– Какое произведение читаете, Мила?
Белкина показала обложку, заложив пальцем нужную страницу, чуть усмехнулась и сразу свела белесые бровки.
– Забыл? По твоему совету…
– А-а. Содержательная книга. Про коллективизацию и частную собственность.
– Трудно читать, – созналась Белкина. – Все обдумывать надо.
– Зато содержание…
– Это, конечно, да.
Они еще поговорили немного вообще о книгах и последних кинофильмах, о городских событиях и замолчали. В доме было очень тихо, недвижно, сонно-солнечно было в голом саду за окнами, и лишь далеко, где-то на улице, звучали тонкие голоса женщин, не то весело споривших, не то скандаливших. Белкина подумала, что им обоим надо обязательно разговориться (зачем же тогда свидание?), однако не знала, как начать, – разговаривали они всегда на работе, больше о разных производственных делах, – и ей сейчас казалось, что сидит в доме не тот общительный Меньшиков, а только похожий на него молодой человек.
Но это Белкиной лишь казалось, – просто она думала, что свидание не очень трудное дело для нее, – а так Меньшиков нравился ей своей обстоятельностью: он учился в вечерней школе, был членом редколлегии степной газеты, играл в самодеятельности на мандолине. И собой выглядел ничего – хоть и не красавец, однако одевался всегда по моде и умел носить одежду. Вдруг Белкина припомнила, что он родной брат швеи Меньшиковой из ее бригады, которая крадет лавсановые обрезки. Решила немедленно поговорить об этом.
– Владимир, вот какое дело к тебе. Возьми контроль над сестрой, чтобы не было неприятности. Я не буду ничего говорить. Скажи ей, что Белкиной все известно, пусть прекратит… Договорились?
Меньшиков встал, сразу повеселев, придавил о край плиты папиросу, глянул издали в зеркало, поправил галстук и даже чуть подмигнул Белкиной: наверное, ему тоже было неловко за долгое скучное молчание.
– Конечно, какой вопрос! Мы после это обсудим. А теперь разрешите, Мила, взять над вами контроль: я обещался показать вам исторические места родного города. Прошу одеваться и следовать под моим личным конвоем.
Белкина спешно поднялась, будто услышала еще не позабытую команду «Всем построиться во дворе!», пошла к вешалке, но ее опередил Меньшиков, помог надеть пальто. Это ей не очень понравилось: она ведь не какая-нибудь калека или дамочка, а товарищ; однако стерпела (не делать же Меньшикову замечания на каждом шагу, сам поймет со временем), и они вышли на улицу.
– Мне думается, – сказал Меньшиков, протягивая перед собой руку в черной перчатке, – в далеком городе Туринске, где вам пришлось жить некоторое, довольно продолжительное время, не бывает такой приятной погоды.
– Бывает. Там ведь тоже люди живут.
– С этим я согласен. Но у нас здесь среднерусская полоса.
Он слегка взял Белкину под локоток. Она отстранилась, глянув на него строго и удивленно, как бы спрашивая: «За кого такого ты меня принимаешь?» И решила про себя, что надо держаться независимо, на расстоянии, и выяснить, по-товарищески ли к ней относится Меньшиков.
– Владимир, – Белкина чуть приостановилась, опять резковато глянула ему в лицо и отвела взгляд на синие купола церкви. – У нас в детдоме был один случай: влюбилась девушка по фамилии Репкина в воспитателя Семенова, несмотря на то что он женатый человек и имеет троих детей. Проводила с ним время, беседовала, ездили на автобусе в лес, а потом выяснилось, что он обманул ее: оказался плохим товарищем. – Белкина помолчала, вздохнула, давая Меньшикову вникнуть в ее слова. – Собрание состоялось, обсуждали любовь Репкиной и Семенова. Репкина страдала очень, бегала топиться в Тобол. Многие считали виноватым Семенова, его сняли с работы, семья, можно сказать, развалилась. А я думаю: виновата Репкина. Я так и сказала, когда выступала на собрании: надо быть самостоятельным человеком, не допускать к себе несерьезное отношение. Это только слабый человек может развалить семью, а потом бегать топиться, не думая о других, ответственных за его жизнь… Ты согласен, Владимир?
– В принципе я должен согласиться. Но любовь, она любовь, Мила. Она побеждает…
– Слабеньких, думаю.
– В «Поднятой целине», я полагаю, вы уясните этот вопрос.
– Мало ли что напишут.
– Давайте отложим трудный разговор. Можно в дальнейшем пригласить лектора на тему: «О любви и браке». А теперь давайте гулять. Вас интересуют архитектурные памятники? Например, эта церковь?
– Нет. В нее ходит моя тетка.
– Согласен. Но как памятник старины…
– Памятники на могилах бывают.
– Тогда пойдемте смотреть места бывших сражений.
Они свернули вправо, на выложенную булыжником, заброшенную улочку. Булыжник был старый, гладко затертый, как галька на берегу реки, – будто и здесь, по этой узенькой улочке, когда-то неслась речная вода.
– Представьте, – постучал каблуком о камни Меньшиков, – здесь наступал Наполеон.
Улочка свернула влево, сузилась, побежала вниз, – и за деревянными почернелыми избами показались стены из красного кирпича, высокая арка каменных ворот, а дальше, в ее пустоте, ржавый купол столбообразной церкви. По сторонам у стен росли деревья, над ними летали и кричали черные галки. Все было очень старинным, грустным, погибающим.
Подошли к воротам, остановились. Белкина отвела лицо, стала смотреть на луга под горой, дальний, в сизом тумане лес, а Меньшиков сказал:
– Это «Голубые ворота». По ним французы стреляли, русские тоже, когда там сидел Наполеон. Вон медная доска, написано: «Язвы 1812 года». Тут французов разбили, и они побежали. Посмотрите на ту лужайку, вон за дорогой, камень белый установлен: оттуда командовал сам Кутузов. А бежал Наполеон в те леса, куда вы смотрите, ну и до этого самого своего Парижа…
– А здесь тоже молятся?
– Нет. Монастырь когда-то был. Тогда молились. Теперь историческое место.
Внутри, за темными стенами кирпичных домов, под навесами, среди старых деревьев, было сумеречно, пахло сыроватой, холодной осенней землей. Несколько мальчишек играли в войну, прячась за камни и кирпичи, голоса пещерно отдавались в сводах и чисто звенели под куполами церкви; у крыльца ближнего строения сидели две старушки, скучали, о чем-то говорили; дружно уставились на них, поправляя веселенькие одинаковые платки.
– Здесь живут люди? – спросила Белкина.
– Жилплощади пока в городе не хватает. Проблема.
– Я бы никак не смогла.
– Вас никто не заставляет, Мила. У вас дом, можно сказать, собственный.
– Вот еще новость! Не собираюсь его присваивать.
– И не надо, согласен.
Спустились вниз, остановились перед небольшой аркой у входа в церковь. Под сводом ее, на внешней стороне, еще было заметно изображение страдальческого женского лица с большими темными глазами, а ниже довольно четкая надпись: «Под твою милость прибегаем, Богородице Дево».
– Пойдем отсюда, – сказала Белкина, делая почти такие же глаза, как на росписи, и потянула за рукав Меньшикова. – Дурман какой-то…
Он взял ее за руку, повел влево по белой, с истертыми камнями лестнице, свернул еще куда-то и, сквозь низенькие ворота, они вышли за стену монастыря, оказавшись на той же булыжной мостовой, только далеко внизу, почти в овраге.
По узенькой твердой тропке быстро пошли вверх, на крутой и ярко-зеленый холм. Забрались, часто дыша, и сразу во все стороны перед ними распахнулись луга, леса, дальние косогоры с деревушками и церквами, небо, очень чистое и холодновато-синее. А прямо внизу текла или просто стояла, светясь водой, узенькая речка. Над нею свисали корявые старухи ивы.
Белкина прикрыла ладошкой глаза: за речкой остро горели зеленью луга. Удивилась: почему они такие осенью? Но спрашивать не стала, она не любила спрашивать, чтобы не посчитали ее малообразованной или глупенькой.
– Это городище, Мила. В древности тут было поселение, наши предки жили. Вот видите ямы – раскопки делали. Высокую культуру обнаружили: керамика, кости животных, железо… А речка – Лужа называется. С той стороны Наполеон двигался, когда из Москвы сбежал… История, Мила, как говорится, живая.
Белкина смотрела, дышала, слушала. Но понимала все как-то смутно, обрывками, будто она выпила много вина; голос Меньшикова пробивался к ней издалека, и понять все, что он говорил, было просто невозможно. Да и зачем? Если и так хорошо дышать этим легким голубоватым воздухом, впитывать плывущую из-за реки зелень лугов и отдыхать. И почти не думать. Не думать даже о том, почему речка – Лужа? Почему такая зеленая осень?
Потом она вдруг увидела, что сидит рядом с Меньшиковым на кочке, под ними расстелена газета, а рука его (да, рука Владимира!) у нее на коленях, и он перебирает еле слышно ее пальцы. На какое-то время она испугалась, замерла, хотела откинуть его руку, но не хватило воли: было так тихо, смутно и немножко грустно, что она подумала: «Может, все это просто кажется?» Однако на всякий случай (мало ли чего не случается!) Белкина тихо заговорила:
– Знаешь, Владимир, я серьезная. Один случай был, это когда я практику проходила, мастер один, по фамилии Рыжков… Ну я ему показала любовь… Профком разбирался.
Белкина помолчала, ощутила боль в пальцах – это их крепко стиснул Меньшиков, – решила посоветоваться с ним, поделиться тем, что мешало ей легко жить все последние дни.
– Послушай, ты как относишься к моей тетке? По-моему, отсталый элемент.
– Ну, как сказать…
– Нет, нет! Ты давай прямо. Она частнособственническая душа. Торгует на базаре. Не могу я с ней, погрязну. Уйду в общежитие. Как ты на это смотришь?
– Зачем так, Милочка? – Меньшиков наклонился к ней, задышал в ухо. – Она тебе родная, Анастасия Ивановна. Потом забота. А жилплощадь? Проблема! А там хоть на велосипеде катайся. Опять же если замуж… Общежитие – это как детдом тот же или солдатская служба.
– Это твое мнение?
– Мнение, конечно.
Белкина отстранилась, сняла со своих колен руку Меньшикова, хотела подняться, уже подалась вперед, и вдруг он резко притянул ее к себе, обнял за шею и поцеловал в губы. Белкина вскрикнула, ударила в лицо Меньшикова обеими ладонями, оттолкнулась и боком упала на траву. Куда-то вкось отпрянула белая рубашка Меньшикова, мелькнули вершины деревьев на горе, пахнула в глаза синь неба. На минуту она замерла, как от сильного ушиба или очень тяжелой усталости, ей захотелось заплакать горько и горячо, как она плакала когда-то давно, еще при матери. Чтобы ее пожалели, нашептали ласковые слова, чтобы она простила за что-то всему большому белому свечу… Но тут до черноты в глазах ей почудилось – сейчас, мгновенно, на нее навалится страшно злой Меньшиков, измучает ее до смерти, опозорит, и она никогда в своей жизни больше не станет прежней, теперешней девушкой Белкиной, – она вскочила и, не слыша себя, крикнула:
– Ты ответишь за это, понял!
Меньшиков стоял в нескольких шагах от нее, ссутулясь, палками опустив руки – нежные манжеты с крупными ладонями далеко высовывались из рукавов плаща, галстук ослаб, сполз под лацкан пиджака, рыжий чуб свалился в сторону, будто сдуло его ветром. Он был похож на пьяного парня, вышедшего из пивной и соображающего, куда бы ему податься. Наконец выговорил, прикладывая к груди руку:
– Не понимаю, Милочка. Но прошу… Как товарищ…
– Он просит! – Белкина задохнулась, потом тоненько захохотала. – Посмотрите на него: он просит! Нашелся товарищ! – Она хохотала, и сердце у нее радостно екало: «Какой жалкий… Так тебе и надо… Примазался к коллективу… Выведем на чистую воду…»
Ей припомнилось сразу все: сестра Меньшикова ворует лавсановые обрезки, живут они с отцом в большом собственном доме, имеют корову, гусей; наверно, торгуют картошкой и яблоками; в прошлом году купили «Запорожец»; ездили отдыхать в Крым. (Может, они из тех Меньшиковых, которые при царях дворянами были?) Он, Владимир, дружил с закройщицей Щепкиной и не женился; подсмеивается над директором – «Лысина, как трудовой мозоль!», ходит в ресторан, танцует там под радиолу… «Как же я раньше не подумала об этом? Помутнение какое-то, пошла на поводу. И чего смеюсь? Плакать надо».
Она застегнула на обе пуговицы пальто, поправила волосы, глянула на часы и шагнула к тропе. Меньшиков стал на ее пути. Она легко, как что-то невесомое, отвела его в сторону маленькой ладошкой, сказала:
– Я вас не замечаю.
И, не оглядываясь, быстро пошла под гору.
Уходила Белкина от Анастасии Ивановны в пасмурную погоду: всю ночь ливень гремел железной крышей, полоскал деревья в саду, а утром земля плотно укрылась сереньким туманом. Слепыми, блеклыми бельмами проглядывали в стенах окна.
Она уложила чемодан, скатала и стянула ремнем постель. Вещей у нее не прибавилось, кроме десятка книг для вечерней школы, – их она тоже уместила в чемодан. Немного утомилась, села передохнуть и только тут увидела, что в двери ее комнаты, загородив весь проход, стоит Анастасия Ивановна. Стоит уже, наверное, давно, потому что привалилась плечом к косяку и поджала левую больную ногу (когда-то в оккупации ей раздробило осколком колено).
Тетка не плакала, молчала. Это немного удивило Белкину, она стала думать, что сказать Анастасии Ивановне: «До свидания» или «Прощайте»? Но сказала другое, неожиданное для себя (наверное, из-за того, что тетка не плакала и молчала):
– Ну вот, сейчас пойду…
Встала, нащупала в кармане бумажку – личное распоряжение директора: «Устроить и постоянно прописать тов. Белкину в общежитие» – и потом легко подняла чемодан и скатку.
Тетка пропустила ее, пошла следом, мучая половицы своей тяжестью, что-то шепча и задыхаясь. На крыльце она придержала Белкину, близко наклонилась к ней, – свои водянистые глазки вперила в ее глаза, – шепотом выговорила:
– Это нам, Мотя, наказание за грехи. Иди.
Белкина торопливо пошла, однако у калитки оглянулась, хотя не собиралась оглядываться. Анастасия Ивановна все так же не плакала и молчала, взгляд ее был устремлен куда-то выше ограды, в глухую морось тумана. У Белкиной незнакомо погорячело в груди, остановилось дыхание (она никогда не видела такой свою тетку), но в следующую минуту, уже возненавидев кого-то второго, жалостливого, в себе, она резко пнула ногой калитку.
По переулку шагала быстро, успокаиваясь и стыдясь «за нюни-слюни», а на перекрестке у церкви столкнулась с милиционером, который весной встречал ее на вокзале: город маленький, им и до этого не раз приходилось видеться, и милиционер всегда узнавал ее.
– Куда кочуем? – спросил он.
– В общежитие.
– Не ужились с тетушкой?
– Разные люди.
– Зеленая улица! – щелкнул каблуками милиционер и указал полосатым жезлом в сторону общежития.