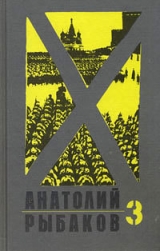
Текст книги "Прах и пепел"
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
24
До занятий оставалось два часа, Саша и Глеб зашли на почту, там получали письма до востребования. Глебу тетушка писала редко, а Саше пришло письмо от мамы, письмо спокойное. Саша уже несколько раз посылал ей деньги, она ему выговаривала за них, боялась – от себя отрывает, но понемногу укреплялась в мысли, которую Саша ей внушал: все у него в порядке, в Уфе остался потому, что квартира лучше, заработок больше.
Стоя у окна, Саша читал мамино письмо. Глеб болтал с девушками, сидевшими за барьером, все знакомые: в прошлом году занимались в их группе, хорошая была группа, веселая. Саша опустил письмо в карман, поднял глаза. И в эту минуту к окошку, где выдавали почту до востребования, подошла высокая женщина в черном пальто и темно-сером берете, протянула паспорт. Что-то знакомое показалось Саше в промелькнувшем лице, он не отрывал от нее взгляда. Она стояла, наклонившись, девушка за барьером, держа в одной руке паспорт, другой перебирала письма в ящике, захлопнула паспорт, вернула – писем нет.
Женщина выпрямилась, повернулась. Бог мой, Лена Будягина!
– Лена!
По-прежнему красивая, матовое удлиненное лицо, чуть вывернутые губы – «левантийский профиль», как говорила про нее Нина Иванова. Но глаза усталые, и в них что-то новое, суровое.
Она посмотрела на него чуть исподлобья. Этот с детства знакомый взгляд напомнил ему их класс, их школу, их дружную компанию, пахнуло Арбатом.
– Здравствуй, Саша, рада тебя видеть.
Сказала спокойно. Не было удивления от того, что они так неожиданно встретились. А ведь не виделись пять лет. Может быть, знает, что он в Уфе?
Подошел Глеб. Улыбнулся Лене, сверкнув белыми зубами. И Лена наконец улыбнулась. Улыбка вежливая, не застенчивая, как прежде. Саша их познакомил: Лена – соученица по школе, друг детства и юности. Глеб – ближайший товарищ.
Они пошли по улице втроем. Саша расспрашивал ее о Москве, о друзьях, давно ли в Уфе. Она отвечала односложно: в Уфе уже полгода. Друзья? Макс в армии, Нина вышла замуж, куда-то уехала, Вадим как будто в Москве. Была сдержанна, ни одной фамилии, только имена, ни слова о Шароке, а ведь он отец ее ребенка, ни слова о том, куда уехала Нина, а уехала она на Дальний Восток к Максу, Саша знал это от мамы. И Макс ныне Герой Советского Союза, это напечатано в газетах, однако Лена не уточняет, о каком именно Максе идет речь, ни слова о своих родителях и о том, почему оказалась в Уфе.
Они подошли к автобусной остановке.
– На какой тебе? – спросил Саша.
Она взглянула на табличку – там было обозначено три маршрута… Помедлив, ответила:
– Безразлично, любой годится.
Любой ей никак не мог годиться, они шли в разные стороны.
– Может быть, дашь свой адрес, я заеду к тебе, – сказал Саша.
– Нет, я живу очень далеко. Могу заехать к тебе, или мы можем где-нибудь встретиться, видишь, уже весна, тепло.
– Хорошо. Запиши мой адрес.
– Я запомню.
Он назвал адрес, договорились о дне и часе. Лена села в подошедший автобус.
– Красивая, – проговорил Глеб задумчиво, – осторожная.
– В школе была красотка номер один, – сказал Саша. – Осторожная? Кто теперь не осторожный? Она знает, что пять лет назад меня арестовали, выслали, теперь вдруг увидела в Уфе. В каком положении я сейчас – ей неизвестно.
Он доверял Глебу во всем, но доверял свое, а тут чужое. Может быть, Лена живет под другой фамилией, могла ведь и выйти замуж. Не будет пока ничего о ней рассказывать.
– Дорогуша, она ведь из-за меня осторожничала. И правильно: кто я такой, может быть, мы с тобой оба сбежали из Сибири? Смылась от нас на первом попавшемся автобусе. Говорю не в осуждение, а, наоборот, в одобрение. Видно, не все в вашей школе выросли такими лопухами, как ты.
– Вот и прекрасно, – сказал Саша, – давай газетку посмотрим.
– Чего смотреть, съезд да съезд.
Но остановился с Сашей у стенда с газетами.
Уже который день все газеты были заполнены отчетами о XVIII съезде партии. Одно и то же, одно и то же… Доклады, выступления, приветствия, здравицы в честь товарища Сталина, бурные аплодисменты.
Но вот речь писателя Шолохова. Саша ее прочитал. Сказал Глебу:
– А ну-ка посмотри…
И Глеб стал читать:
– «…Советская литература, избавившись от врагов, стала и здоровее и крепче… Мы избавились от шпионов, фашистских разведчиков, врагов всех мастей и расцветок, но вся эта мразь, все они, по существу, не были людьми… Это были паразиты, присосавшиеся к живому, полнокровному организму советской литературы… Очистившись, наша писательская среда только выиграла…» Нет, – сказал Глеб, – не могу читать. Тошнит. Пошли!
– Читай, страна должна знать своих героев!
– «…Так повелось, так будет и впредь, товарищи, что и в радости и в горе мы всегда мысленно обращаемся к нему, творцу нашей жизни. При всей глубочайшей человеческой скромности товарища Сталина придется ему терпеть излияния нашей любви и преданности ему (аплодисменты), так как не только у нас, живущих и работающих под его руководством, но и у всего трудящегося народа все надежды на светлое будущее человечества связаны с его именем. (Аплодисменты)». Слушай, зачем мне все это читать? Пошли! – повторил Глеб.
– Ладно, пойдем. Что скажешь?
– Холоп!
– Но ведь написал «Тихий Дон», великий роман.
– В двадцатых годах его авторство ставилось под сомнение, даже была создана специальная комиссия.
– Я что-то об этом слышал.
– Мне Акимов рассказывал. Автором был какой-то белый офицер. Но разве могли такое признать?! Что ты, дорогуша?! А тут свой, станичник, из народа. Но если «Тихий Дон» – гениальный роман, то его автором не может быть холоп. Как сказал твой любимый Пушкин, дорогуша, гений и злодейство – две вещи несовместные.
– Не всякий гений может преодолеть страх. И Шолохов все-таки не гений.
– Топчет расстрелянных товарищей, это что – страх?
– Да, страх.
– Нет, дорогуша, это наше российское холопство. Холоп перед барином пресмыкается, а другого холопа по барскому приказу забивает кнутом насмерть. Все холопы, сверху донизу, весь «великий советский народ», о котором вы, интеллигенты, говорите с придыханием.
– Интеллигент – плохо, народ – плохо, кто же ты сам?
– Я, дорогуша, тоже холоп, стою на ушах, как и все. Расскажу тебе то, что видел своими глазами. Хочешь?
25
Саша засмеялся.
– Давай. У тебя на любой случай есть какая-нибудь история.
– Ты послушай, послушай. Году, наверно, в двадцать девятом или в тридцатом была у меня пассия, хорошая девчонка, сельская учительница. Я к ней наезжал, она меня за брата выдавала, отчества у нас одинаковые: я Васильевич, она тоже Васильевна. Ночью мы, конечно, по кровати катались, это мы умели, а днем я уходил в лес, в поля с этюдничком. Такая была сельская идиллия. Пейзане ко мне относились вроде бы неплохо, снисходительно, знаешь, как работающий мужик к горожанину с мольбертом: мол, «дурит барин», но, в общем, ничего, добродушно. Однажды спим мы еще с моей Клавочкой, наработались за ночку, слышу, шум на улице. Что такое? Она встала, подошла к окошку, чуть отодвинула занавеску и говорит: «Голодухиных раскулачивают». А там, между прочим, дорогуша, все Голодухины, и деревня раньше называлась Голодухино, потом ее, конечно, переименовали на современный манер: «Гроза империализма».
– Не заливай, не заливай!
– Слово даю. Нищий колхозик, а назывался именно так: «Гроза империализма», такое вот устрашающее название.
– Анекдот!
– Не в этом суть. Суть в том, что у всей деревни фамилии одинаковые – Голодухины, выходит, все они в родстве, в дальнем, в ближнем, но в родстве. И вот каких-то Голодухиных раскулачивают. Я, конечно, быстренько натягиваю портки: на такое зрелище надо посмотреть. А Клавка мне: «Не ходи, там милиция, уполномоченные всякие, а ты не местный, придерутся, документы потребуют, кто такой, а наши скажут: к учительнице, Клавдии Васильевне, приезжает, ночует, не хочу я этого. Смотри отсюда, все видно, встань вот сюда».
Встал я, как она посоветовала, и вижу: возле избы две телеги, милиционеры вытаскивают из дома женщин, детей, стариков, хозяева не сопротивляются, знают, за сопротивление пришьют статью, бабы кидают на телеги узлы, нищее свое барахло, бабка совсем дряхлая, не ходит, ее мильтоны с печи стянули, на руках вынесли и на телегу бросили, один ребенок грудной и остальные детишки малые, орут, плач, крик, стон, картина, в общем, жуткая и отвратительная, ни за что ни про что срывают с родного места, разоряют обжитое гнездо, отправляют в Сибирь, фактически на смерть.
Глеб замолчал, долго шел молча.
– Но главное, дорогуша, другое. Рядом стоят мужики, бабы, молча стоят, детишки и те замерли, и все – Голодухины, как и эти несчастные раскулаченные, родственники, кумовья, сватья, вместе жизнь прожили. И вот на их глазах творится такое злодейство, и совершают его какой-то задрипанный уполномоченный в пиджачке и два хлипких мильтона. И по тому, как стоят сильные, здоровые, хмурые мужики и тоже сильные, здоровые бабы, и по тому, дорогуша, какая готовность написана на их лицах, я думаю: сейчас обрушатся на тех хлюпиков, обезоружат, бросят на телеги, стеганут по коням и выгонят из деревни. И я жду этого момента. Однако нет… Мильтоны уже всю семью выволокли из избы, посажали на телеги, бабы ревут ревом, и детишки плачут навзрыд, а мильтоны – хлоп кнутом по лошадям и поехали… И вот тут, дорогуша, вот тут толпа бросилась, но не вдогонку, не выручать своих, не вызволять из беды – в избу бросились: растаскивать оставленное, что не могли увезти с собой те несчастные. И идут, понимаешь, домой наши добрые, жалостливые бабы радостные, довольные, и ребятишки рядом, кто с горшком, кто с тарелкой, кто с печной заслонкой, прямо из печи с проволокой выдрали, торопились, пока председатель сельсовета эту разграбленную и опозоренную избу не опечатал. Было мне тогда лет девятнадцать-двадцать. И в тот момент понял я, что народ наш – холоп, от мужика до вот этого холопского писателя Шолохова, от простой бабы до члена Политбюро, который по команде признает себя шпионом и диверсантом. И все, что пишут там всякие Достоевские и прочие философы об особой душе, особой миссии, особом предназначении, – все это чепуха! И тютчевское: «Умом Россию не понять… У ней особенная стать» – все это, дорогуша, поэтическое словоблудие, поэтические фантазии.
– Вся деревня в этом участвовала? – спросил Саша.
– Не вся, конечно, но что это меняет?
– Многое. Кучка мародеров – это еще не народ. Всюду есть свои бандиты.
– Почему же «хорошие люди» не пришли защищать своего соседа?
– А ты пришел? Ты защитил?
– Дорогуша, я такой же холоп.
– Тогда и от других не требуй! Особенно от мужика, которым всегда помыкали, обирали, вертели им, как хотели, и помещик, и староста с кнутом, и урядник с шашкой, и свой брат-мироед, и казак с нагайкой, и продразверстщик с винтовкой, и агитатор, за которым стоял комиссар с маузером, и те, кто приказал «раскулачивать», и те, кто это выполнял. Но с них мы не спросим – опасно, а мы жить хотим, плясать, выпивать и закусывать.
– Кстати, о закуске, – подхватил Глеб, они проходили мимо ресторана, – зайдем.
– Час назад пообедали. Скажи прямо: хочу сто граммов принять.
Глеб рассмеялся:
– Да, дорогуша, хочу перед занятиями сто граммов принять.
Саша взглянул на часы:
– Не успеем. Отзанимаемся, тогда зайдем выпьем.
– Пусть так, – согласился Глеб, – перенесем на вечер. Только я тебе вот что скажу. Меня ты обругал, а сам?
– Я такой же, как и ты. Но каков бы я ни был, на затюканных, замордованных, обманутых людей валить не буду. Я не их, я себя презираю.
Некоторое время Глеб шел молча, потом сказал:
– Я о народе нашем так говорю не потому, что я из немцев или еще из каких-нибудь инородцев. Нет, дорогуша, я чистокровный русский человек, сейчас этим разрешено гордиться, сейчас патриотизм в моде. «Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Петр Первый» – к чему эти картины снимают? Для воспитания патриотизма, и заметь, дорогуша, русского патриотизма. Я тебе больше скажу, только тебе: я – потомственный русский дворянин из старинного рода, мои предки при Грозном Казань брали и Астрахань, с Суворовым через Альпы ходили, отличились, были среди них градоначальники и декабристы, помещики и народовольцы, всякие бывали, но ни одного немца. Правда, захудел наш род, породнился с купцами, перешел в интеллигенцию, университеты кончали, были и профессора, и художники, так что о моем дворянстве, слава Богу, никто до сих пор не пронюхал. Только дворянство свое я, дорогуша, ни во что не ставлю. Сохранился документ шестнадцатого или семнадцатого века, мне один родственник показывал, предок наш, боярин, челобитную царю подал и подписался: «Верный холопишка твой Ивашка, сын такой-то». Французский или немецкий дворянин так о себе не написал бы: холопишка… Это наше, российское. И тогда уже все холопы были, и бояре, вельможи, вон откуда это повелось.
– О французах, о немцах сказки не рассказывай, тоже много чего наворотили. Какие немцы были свободные после войны, какие демократы! И сами себе Гитлера на шею посадили, заметь, всеобщим голосованием. От кайзера к свободе кинулись, а как ее понюхали, обратно под кнут запросились. Так что не надо других в пример ставить. И не надо весь наш народ стричь под одну гребенку.
Они дошли до Дворца труда. Глеб положил ладонь на ручку, но дверь не открыл, неожиданно сказал:
– А эта школьная подруга твоя, Лена, интересная…
– В таких случаях ты говоришь: мадонна, колоссаль, – усмехнулся Саша.
– Нет, – задумчиво ответил Глеб, – тут что-то позначительнее.
26
Молотов – тугодум, может промедлить, а медлить нельзя. Гитлер намерен оккупировать Польшу до осеннего бездорожья, значит, должен урегулировать свои отношения с Советским Союзом. Теперь не ОН, а Гитлер будет искать пути к соглашению и пойдет на уступки. ОН не заставит Гитлера унижаться, унижения человек не забывает и при первой возможности мстит. Но ОН покажет Гитлеру, что отлично понимает его ходы. Это будут переговоры между руководителями двух сильнейших держав, между людьми, интересы которых совпадают.
СССР и Германии противостоят Англия и Франция. Эту концепцию ОН высказал десять лет назад, теперь она полностью подтвердилась. Гитлер сокрушит Польшу за месяц-два. А вот если Франция и Англия ввяжутся в войну с Гитлером, это надолго. Первая мировая война продолжалась четыре года, эта продлится еще дольше. Они истощат себя в борьбе, а за это время СССР станет самой грозной военной силой, и ОН будет диктовать изнуренной войной Европе свои условия.
По ЕГО указанию советник советского полпредства в Берлине Астахов посетил Мининдел Германии и имел беседу, смысл которой сводился к тому, что в вопросах внешней политики у Германии и Советского Союза нет противоречий.
Через неделю германский посол Шуленбург заявил Молотову: «Пора оздоровить отношения между Германией и СССР. При решении польского вопроса русские интересы будут учтены. Англия не может и не хочет оказать помощь СССР, она заставит СССР таскать каштаны из огня». Заявление хорошее. Но в Берлине Астахову сказали: «Если СССР хочет встать на сторону противников Германии, то германское правительство готово к тому, чтобы стать противником».
Это звучит угрожающе. Такого тона ОН не потерпит. Гитлер нервничает, до нападения на Польшу осталось три месяца, но нужно владеть своими нервами. Гитлер истерик. После того как Гинденбург привел его к присяге как канцлера Германии, заплакал. Чувствительный немчик. И в «Майн Кампф» пишет, что, узнав о ноябрьской революции 1918 года в Германии, тоже заплакал. Заплакал, приехав в Вену после присоединения Австрии к Германии, растроганный возвращением на родину. Крокодиловы слезы, конечно. Не пьет, не курит, вегетарианец. И спокойно пускает под нож тысячи людей. Натура неуравновешенная. Но с НИМ ему придется взвешивать слова.
Сталин приказал Молотову прекратить политические переговоры с Германией, требовать прежде всего подписания торгового соглашения. На такую тактику Молотов мастер. Волынить, затягивать – его стихия, его натура. В июне и июле все попытки немцев продолжить политические переговоры наталкивались на холодную сдержанность Молотова, требовавшего подписания торгового соглашения. И только 22 июля советская пресса опубликовала наконец сообщение: «Возобновились переговоры о торговле и кредите между германской и советской сторонами».
И наконец, через пять дней, Астахов прислал отчет о беседе с ведущим немецким дипломатом Шнуре, которая состоялась 25 июля в Берлине, в отдельном кабинете фешенебельного ресторана «Эвест». Надо думать, хорошо поели, дипломаты любят изысканную пищу, большие гурманы, тем более пьют и едят за государственный счет.
Шнуре от имени фюрера заявил: «Германская политика направлена против Англии. Это решающий фактор. С нашей стороны не может быть и речи об угрозе Советскому Союзу. Несмотря на все различия в мировоззрении, есть один общий момент в идеологии Германии, Италии и Советского Союза: противостояние капиталистической демократии. Что может Англия предложить России? Ни одной устраивающей Россию цели. Что можем предложить мы? Понимание взаимных интересов, отчего обе стороны получат взаимную выгоду».
ЕГО тактика оказалась правильной. Главная забота Гитлера, чтобы ОН не договорился с Англией. Но что конкретно он предлагает?
Сталин продиктовал телеграмму Астахову:
«Если немцы искренне меняют вехи и действительно хотят улучшить отношения с СССР, то они обязаны сказать нам, как они конкретно представляют это улучшение. Дело зависит здесь целиком от немцев».
Телеграмму подпишет Молотов. Но это телеграмма не дипломата. ЕГО текст. Гитлер это поймет.
Гитлер понял, и Гитлер торопился. Ответ был таков:
«От Балтийского до Черного моря не будет проблем. На Балтике хватит места обоим государствам. Вопрос с Польшей немцы урегулируют в течение недели. Если русские пожелают, то Германия заключит с ними соглашение о судьбе Польши».
7 августа на ЕГО стол легло донесение разведки: «Начиная с 20 августа следует считаться с началом военной акции против Польши».
На следующий день явился Ворошилов со срочным докладом: в Монголии, в районе реки Халхин-Гол, японцы сосредоточили для генерального наступления войска под командованием генерала Камацубары.
Угроза войны на два фронта, то, чего ОН опасался больше всего, становилась реальной.
– О Халхин-Голе будешь докладывать по мере развития событий, – сказал Сталин. – Как переговоры с английскими и французскими военными представителями?
– Переговоры начнутся завтра. Главная трудность: Польша отказывается пропустить через свою территорию наши войска. Не можем же мы на коленях умолять Польшу, чтобы она приняла нашу помощь.
– Англия и Франция, – сказал Сталин, – рассчитывают на то, что, оккупировав Польшу, Германия выйдет к нашим границам и эта близость подтолкнет Гитлера к агрессии против СССР. Они не задумываются над тем, что Гитлер может броситься не на нас, а на них. Ну что ж, попробуем еще раз их в этом убедить. Посмотрим, что дадут твои переговоры с их военными представителями. Вряд ли они образумятся.
Он говорил с сильным грузинским акцентом, ударяя ребром ладони по столу.
Ворошилов сидел тихо, боялся каким-нибудь неловким движением вызвать гнев товарища Сталина.
– Начинай переговоры, держись твердо, а там посмотрим, – заключил Сталин.
27
Вскоре пришел вызов. Пропуск в милиции Варе выдали без задержки: действовало звание Макса – Герой Советского Союза.
Небольшие осложнения возникли в Хабаровске. Молоденький лейтенант, проверявший пропуска, спросил:
– Почему ребенок не вписан в ваш паспорт?
– Он вписан в паспорт отца.
– У вас нет отметки о регистрации брака.
– Мы не зарегистрированы.
– А где свидетельство о рождении ребенка?
– Неужели метрику ребенка возить, когда в гости едешь?! Товарищ лейтенант! Все документы у меня проверили вдоль и поперек, когда пропуск выдавали, что же, вы Москве не доверяете?
– Порядок одинаков для всех граждан, не нарушайте его в следующий раз! – И, обходя Варю взглядом, поставил штамп на пропуске.
Хоть Макс был известен теперь всей стране как Герой Советского Союза, повышен в звании и должности, ни праздничности, ни спокойствия в их доме не чувствовалось. У Нины появилась седая прядка в волосах, рановато.
– Папа тоже рано поседел, наверное, это у меня наследственное.
– Ничего, – сказала Варя, – тебе даже идет.
В разговорах Макс и Нина были сдержанны, и все же Варя поняла, что на Дальнем Востоке, несмотря на победные реляции, происходит то же самое, что и в Москве. В газетах та же злобная истерика, почти весь командный состав пересажали в тридцать седьмом году, а в этом году пересажали вновь назначенных.
Нина не хотела обсуждать эту тему, и Варя помалкивала – ни к чему обострять отношения, надо устроить Ваню. Однако Нина первой и не выдержала. Накануне Макс допоздна задержался на партийном собрании, пришел, когда Варя уже спала, и ушел, когда она еще не встала. За завтраком Нина пожаловалась:
– С этих собраний Максим приходит раздавленный. Вербуют в осведомители красноармейцев, заставляют доносить на командиров. Сделал замечание рядовому, а он бежит к особисту, несет какую-нибудь чепуху, а за эту чепуху – трибунал.
И вышла из-за стола и больше об этом не заговаривала. Жалко, конечно, ее, живет в страхе. А кто теперь живет не в страхе.
Рассказ о Лене Будягиной Макс и Нина выслушали молча.
Но, оставшись с Варей наедине, Нина сказала:
– Получив твою телеграмму, я решила, что это ребенок твой и Саши, вам обоим или тебе одной грозит опасность, тебя надо выручать. Мы с Максимом не исключали, что Саша снова арестован, могут прийти и за тобой, даже подумывали, не придется ли тебя здесь выдавать замуж. Мы не колебались ни минуты: ты – моя сестра и ты знаешь, что Саша значит для Максима. Кстати, что с Сашей?
– Ездит из города в город, работает шофером, где устроится, – ответила Варя сдержанно. Нина убеждена, что у них с Сашей все в порядке. Пусть и дальше так думает, хотя и резало по сердцу каждый раз, когда та пускалась в рассуждения об их с Сашей жизни.
– Бедный Саша, – вздохнула Нина, – досталось ему, но, с другой стороны, может быть, и посчастливилось. Если бы его забрали сейчас, а сейчас его, безусловно, бы забрали, он слишком самостоятельный и принципиальный, то расстреляли бы.
– По-видимому, это так.
– В общем, мы предполагали, что вы с Сашей решили оставить ребенка у нас. И, повторяю, никаких колебаний не было, но сын Лены и Шарока, внук Будягина…
– Я думаю, Шарок к делу не относится, – заметила Варя.
– Это я так, к слову, – поправилась Нина, – но внук Будягина! Если узнают, то Максиму пришьют помощь врагам народа, навалят еще черт знает что, до меня докопаются, в общем, катастрофа.
– Ты боишься?
– Боюсь. Да. Все как снег на голову. Надо привыкнуть к этой мысли, надо все обдумать. Есть ли гарантия, что сюда не дойдет правда об этом мальчике?
– Исключено! Лена и под пыткой не признается, где он, понимает, если погибнете вы, то погибнет и Ваня. У нее версия – оставила сына на вокзале, теперь это делают сплошь и рядом.
– А Софья Александровна знает?
– Я ей сказала, что это сын моей подруги, у нее арестовали мужа, сама боится ареста, смылась из Москвы и попросила отвезти ребенка к ее родителям на Дальний Восток.
Именно так она и сказала Софье Александровне, хотя по глазам Софьи Александровны видела, что та ей не верит, до этого она ей во всех подробностях рассказывала о Лене Будягиной, даже советовалась, как поступить с Ваней. Тем не менее Софья Александровна сделала вид, что приняла эту версию. Надежный человек.
– Хорошо, – не слишком уверенно согласилась Нина. – Теперь второй вопрос. При мальчике никаких документов.
– Твои соседи знают, что к тебе приехала сестра с сыном. Все меня видели – я каждый день гуляю с Ваней. Здесь у вас каждый чих известен.
– Да уж, все наши мужики на тебя заглядываются.
– А в один прекрасный день я исчезну. Вы с Максом…
– Варенька, называй его Максимом. Макс – это со школы пошло. Звучит не по-русски. А тут малейший иностранный звук воспринимается с подозрением.
– Ладно. Вы с Максимом разведете руками: ну и сестрица, бросила ребенка и укатила. Можешь наворотить на меня: беспутная, развратная, шляется где-то.
– Это уж чересчур, такие слова! – поморщилась Нина.
– Ничего, ваши полковые дамы будут руки потирать от удовольствия, еще от себя добавят: ходила тут, финтифлюшка, вертихвостка, строила глазки, сразу видно, что за тварь. Бедная Нина Сергеевна, теперь ей с этим подкидышем мучиться.
– Фантазии у тебя, – улыбнулась Нина. Но улыбка получилась вымученная.
– Это не фантазии, а реальность. Будут обо мне языки чесать, а о «бедном подкидыше» забудут. Запишите его Костиным: мол, даже не знаем имени и фамилии его отца, думаем, наша милая сестричка тоже не знает, от кого родила.
– Хватит упражняться на эту тему!
– Подбрасываю тебе аргументы. Ну а насчет воспитания советского человека, будущего защитника родины, я думаю, ты сама найдешь слова.
– Не иронизируй, – нахмурилась Нина, – ты уже выросла из этого возраста. И я, между прочим, подросла.
– Если вы сочтете все же, что Ваня осложнит положение Макса, прости, Максима, я увезу его обратно.
– И что будешь с ним делать?
– Буду воспитывать как мать-одиночка.
– Ладно, не пугай меня. Подождем. Обдумаем. Все решит Максим.
На следующее утро Нина встала чуть свет, ждала, когда проснется Варя. Сразу начала разговор, с места в карьер:
– Не нравится мне твоя версия: «Бросила ребенка… Укатила… Не знаем, где теперь ее искать…» Несерьезно это.
Значит, обсудили ночью с Максимом Варины аргументы. Варя-то думала, Макс у Нинки по-прежнему под башмаком. Изменилась ситуация. Распоряжалась всем вроде бы Нина, но с оглядкой на Максима, и, хотя он был немногословен, свое мнение высказывал деликатно, Нинка с его решениями тут же соглашалась.
– Может, сказать иначе: хотела здесь устроиться, но ничего не вышло, и вот объявила, что завербуется на Cевер, поедет туда счастья искать. И тут уж мы сами настояли, чтобы оставила у нас Ваню. Двух лет нет мальчишке, что ему-то мучиться в бараках и общежитиях. А устроит свою судьбу, выйдет замуж за приличного человека, тогда и заберет его к себе. Как ты думаешь?..
– Ради Бога, – засмеялась Варя, – хоть на север, хоть на юг! Правильно! Это действительно будет звучать убедительней. – И не удержалась, поддела Нинку: – Скажи Максиму, что я эту идею одобряю.
Выслушав по приезде Вари историю мальчика, Максим больше разговоров ни о нем, ни о Лене Будягиной не затевал. Домой приходил поздно, новоиспеченный командир полка, рачительный, дотошный и требовательный. В свободные минуты беседовал с Варей ни о чем, о пустяках, играл с Ваней, мальчишка ему нравился, и мальчик встречал его радостно.
А однажды, в последних числах августа, сказал, что сумел договориться: Ваню с 1 сентября возьмут в ясли.
– Отслужит в яслях год, а как стукнет три, повысим в звании, переведем в детский сад, – добавил Максим добродушно.
На следующий день Варя уехала в Москву.
Приютить у себя внука врага народа – Максим хорошо сознавал рискованность такого шага. Но отослать мальчишку не мог. Лена – ближайшая подруга его жены, и он с ней дружил с детства, не раз и не два сиживал в их доме на Грановского, любил этот дом и Ивана Григорьевича Будягина любил, и в то, что тот «враг народа», не верил, как не верил в то, что «враги народа» – его верные боевые товарищи. И Варе доверял: все сделала правильно, вряд ли кто докопается. А если и докопаются, то он чем виноват: подсунули мальчишку.
Максим не любил врать, но если уж приходилось, делал это с той лукавой крестьянской простотой, которая убеждала любого. Советуясь с комиссаром полка и секретарем партийной организации, развел руками:
– Давайте, братцы, думать. Родила девка безотцовщину, прискакала – буду выходить здесь замуж. Вышла бы, конечно, красивая, образованная, с невестами у нас дефицит, и с ребенком возьмут. Но я свою свояченицу знаю: останься она здесь, такое начнется, все бабы со своими мужьями передерутся. И из-за кого? Из-за родственницы командира полка. Пришлось ей отказать. Поищи, говорю, миленькая, себе муженька в другом месте. А она: ах, не хотите мне помочь ребенка воспитать, завербуюсь на Север! Тут уж моя жена не выдержала: езжай куда хочешь, говорит, но мальчишку зачем в полярную ночь тащить?! Он у тебя и так – кожа да кости! Не пустим! Оставим у себя! Она отвечает: пожалуйста. И укатила. Когда теперь объявится и объявится ли вообще, неизвестно. Ну что ж, думаю, раз так уж случилось, воспитаем и без тебя сына полка. И нужная моральная обстановка в полку сохранится. Такое вот решение я намечаю. Ваше мнение, товарищи?
Товарищи с ним согласились. Высокая моральная обстановка в полку – самая важная задача на данном этапе, ибо моральная обстановка – неотделимая часть обстановки политической.








