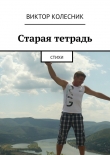Текст книги "Берлинская тетрадь"
Автор книги: Анатолий Медников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
"Генерал сказал – вчера, значит – двадцать девятого апреля", – подумал я.
У нас в радиомашине тоже стоял приемник, но это сообщение мы не слышали.
– Теперь уже совсем скоро. Какие мы переживаем дни! – невольно вырвалось у меня.
– А вот еще новости: вчера же гитлеровцы предприняли контратаку в районе Потсдама силами двенадцатой армии генерала Венка. Последние судороги Гитлера. Посмотрите-ка их газетку! – предложил мне генерал, кладя на стол один из последних, а может быть, и самый последний номер "Фолькишер беобахтер". На всю первую страницу красовался заголовок, набранный, видимо, самыми крупными литерами, которые нашлись в типографии: "Героическое сопротивление Берлина – беспримерно. Это признает Москва, Лондон, Нью-Йорк!"
Бесноватый фюрер и в последние свои минуты оставался верен бахвальству и беспардонной лжи, продолжая обманывать своих солдат и последних приверженцев.
Пока мы читали газету, выходивший из комнаты адъютант принес новое сообщение: в Москве отменено затемнение и разрешено нормальное освещение улиц и жилых домов.
– В Москве зажегся свет, – произнес генерал так, словно ждал этого именно сегодня.
В Берлине хотя и не так строго, но все еще поддерживалась светомаскировка. В районе боев зарево нескончаемых пожаров часто превращало ночь в день.
Я попросил генерала рассказать о кануне первомайского праздника в Берлине.
– А куда пойдет пластинка? – спросил он.
– В Москву, а оттуда запись передадут по всей стране. Я сказал, что можно, кроме того, изготовить письмо-пластинку и послать ее в Горький, на родину генерала. Там формировались и полки этого корпуса.
– Что ж, хорошо! – сказал генерал. Перед тем как сесть к микрофону, он протянул мне карточку своей матери и попросил переслать ей пластинку.
С глянцевитой, покоробившейся в кармане карточки на меня взглянули умные, по-стариковски словно бы жалеющие всех глаза, в паутинной сетке морщинок, с чуть припухшими, должно быть от бессонницы, веками. Мать генерала оказалась маленькой старушкой, с фигурой сутулого мальчика, в черном гладком платке и с белым кружевным воротничком на груди.
Трудно было представить себе, что именно она родила такого богатыря. В углу карточки виднелась бисерная надпись: "Ради бога, береги себя. Мама". Эту надпись генерал все время старательно закрывал пальцем.
Мы начали запись.
– Дорогие товарищи земляки, – сказал генерал, низко наклоняясь к микрофону и придерживая его за основание пальцами, чтобы случайной воздушной волной микрофон не свалило на пол. – Я хочу поздравить вас с праздником отсюда, из Берлина, где мы добиваем гитлеровскую Германию. Чем мы встречаем наш праздник? Усилением нажима на врага в тех районах, где он еще продолжает держаться...
Пока генерал говорил, я невольно вспомнил, как выглядят эти самые районы, прилегающие к переднему краю сражения.
Какой-то старик немец, одетый во все черное, так, словно он собирался примкнуть к траурной процессии, на одном из перекрестков улиц, где остановилась наша машина, неожиданно предложил купить у него путеводитель по Берлину. Он неуверенно попросил за него одну рейхсмарку. Вряд ли в разрушенном городе кто-либо мог воспользоваться путеводителем, тут целые кварталы были снесены бомбовыми ударами. И притом рейхсмарки доживали последние часы.
Наверно, старик догадывался об этом. И все-таки он продавал путеводитель, рассказывающий о том Берлине, каким он был до начала войны, затеянной Гитлером. Путеводитель мы купили, заплатив не рейхсмарками, а советскими оккупационными марками, которые начало выпускать наше командование.
Здесь, в центре города, я, несколько раз вытаскивая путеводитель, пытался сориентироваться в лабиринте улиц, разрушенных домов и мостов. Но безуспешно. На некоторых улицах, где под землей проходило метро, мостовая вся провалилась и лишь у домов торчали обломки тротуара. Многие переулки исчезли вообще, похороненные под громадами рухнувших зданий. Многие проспекты перегораживали дамбы из камня и бетона, на которые не могли взобраться ни машины, ни танки.
Неподалеку от штаба корпуса, на Блюхерплац, вся улица была запружена нашими самоходными пушками и танками "Т-34", готовящимися к атаке. А вот рядом с танками и самоходками можно было увидеть на берлинских улицах и наших лихих повозочных. Смело подбирались они к самой передовой, подвозя продукты и фураж. И запах нагретого солнцем сухого сена, словно бы запах русских полей, тихое ржание лошадей, крики повозочных, слышимые в паузах между разрывами снарядов и мин, – все это, смешиваясь с отдаленным и близким гулом боя, создавало картину удивительно пеструю, необыкновенную и неповторимую.
...Генерал читал перед микрофоном свое выступление. И хотя мы сидели только вчетвером в тесной комнатушке, не видимые и не слышимые никем, голос генерала вздрагивал, ломаясь от непривычного напряжения.
В конце своей речи, передавая гвардейские приветы землякам, генерал на мгновение остановился и задумался.
– Знайте же, товарищи, что у нас тут все в порядке! – произнес он после паузы, наверно внутренне обращая эти слова к своим родным. – У нас же, товарищи, все в порядке! – повторил генерал любимую фронтовую поговорку и внезапно остановился...
Где-то, пока еще далеко, нарастал знакомый свист летящего снаряда. Фронтовое чутье подсказывало, что снаряд упадет в районе штаба корпуса.
Все это произошло в один миг. Генерал попытался своими большими ладонями прикрыть микрофон, словно это могло уменьшить звук разрыва. Горячей волной воздуха в комнату втолкнуло раму окна. Ладони генерала, конечно, не помогли, и в конце его речи на пластинке записался оглушающий грохот, звон разбитого стекла и громкие крики раненых. Пластинка была испорчена.
– Так, одну похерили, – спокойно отметил генерал, подымаясь со стула, чтобы стряхнуть с плеч обсыпавшуюся штукатурку. Потом он сердито посмотрел через окно на дворик дома, куда еще падали поднятые взрывом камни. И мне показалось, что генералу очень хотелось сейчас прикрикнуть на невидимых гитлеровцев, которые мешают такому деликатному делу, как запись на пластинку.
Пока налаживали аппарат, генерал молча откинулся на спинку стула, устало закрыл веки. Его пальцы, лежавшие на краю стола, медленно опускались и поднимались. Может быть, в эту маленькую паузу в разгаре боя командир корпуса думал о своей старушке матери, думал о пройденном пути, о пережитом, обо всем том, о чем не расскажешь перед микрофоном никакими словами.
– Придется начать все сначала, – сказал я.
– Да, да! – словно бы очнувшись, произнес генерал и снова взялся пальцами за основание микрофона, искоса и сердито поглядывая в сторону окна. Он говорил теперь спокойно, не таким сухим командным тоном, как в первый раз, и теплее. Он улыбнулся мне одними глазами, как бы говоря: "Вот видите, все хорошо заканчивается",
...На этот раз мы не услышали даже предупреждающего свиста. Сначала показалось, что кто-то гигантски сильный тряхнул дом, как спичечную коробку, будто проверяя, есть ли там что-либо внутри, прислушался к звуку и потом тряхнул еще раз.
Микрофон вместе со столом скатился на колени генералу. В открытое окно ворвался поток ветра, пахнущего дымом, гарью и... неожиданно ароматом цветущих лип. Должно быть, где-то поблизости сохранился скверик. И там цвели деревья.
В нашей тесной комнатушке стало как будто бы шире.
– Липами пахнет! – глубоко втянув в себя воздух, произнес генерал. – И по-моему, немного сухим сеном. Тут повозочные где-то близко. А в Горьком у меня в садике липы!
И тут, словно бы забыв об обстреле, командир корпуса заговорил о родном городе, о Волге, о своем домике на крутом волжском откосе.
– А какие у нас на Волге закаты, какие закаты! Полнеба в цветении. А для красок и слов не подберешь. Выйдешь на берег и чувствуешь – у тебя точно крылья, так бы и полетел птицей над рекой! А сейчас у нас уже навигация открылась. Побежали пароходики по Волге-матушке!
И вдруг, не меняя мечтательного своего тона, сказал:
– Так ставьте же, черт побери, еще одну пластинку. Надо же закончить.
Пришел адъютант и долго мялся в дверях, молча показывая генералу какие-то бумаги. Но тот не смотрел в его сторону.
– У нас все в порядке, – снова начал генерал с того места выступления, на котором его прервал грохот разорвавшегося снаряда, – поздравляю с первомайским праздником!
Пальцы генерала, державшие микрофон, сжались от напряжения. Он подался грудью на столик, словно хотел на этот раз уже безо всяких помех поскорее "втолкнуть" в микрофон радостные слова о победе.
Наконец, после четвертой попытки, мы довели запись до конца. Генерал вышел из штаба и сел в свой "виллис". Машина тронулась по улице, заваленной обломками камней и железа. Поднявшись на сиденье, генерал на прощание приветливо махнул рукой.
– Приготовьте мне пластинку, – крикнул он сквозь шум мотора. – На память... старушке! Я разыщу вас после конца войны!
Штурм "Цитадели"
Подготавливая город к обороне, гитлеровские генералы разбили его на девять боевых участков – секторов обороны. Девятый – последний, включавший главные правительственные учреждения и район парка Тиргартен, именовался "Цитаделью", что само по себе должно было свидетельствовать о его неприступности.
"Цитадель"! Бойцы называли этот район иначе: "логово фашистского зверя"! Взять "Цитадель" означало и добить этого зверя в его логове. В центре сектора стоял рейхстаг. Но это здание было, конечно, не просто опорным пунктом противника, а символом крушения гитлеровского государства, символом победного окончания войны.
Военное счастье начать исторический штурм рейхстага выпало на долю трех стрелковых батальонов. Два из них – батальоны капитанов Степана Неустроева и Василия Давыдова – принадлежали к 150-й Идрицкой ордена Кутузова второй степени дивизии, а 3-й батальон старшего лейтенанта Константина Самсонова к 171-й стрелковой дивизии. Обе дивизии входили в корпус генерал-майора С. Н. Переверткина, а корпус принадлежал 3-й ударной армии генерал-полковника В. И. Кузнецова, чьи части первыми ворвались на северо-восточные окраины Берлина.
Конечно, читатель понимает, что подробный рассказ об одном этом сражении и о всех его участниках потребовал бы отдельной книги{1}. Я же ограничусь здесь лишь несколькими эпизодами, которые частично наблюдал сам, эпизодами, связанными с действиями батальона Неустроева.
К полудню двадцать восьмого апреля этот батальон вышел к реке Шпрее. В это же время к командиру полка полковнику Ф. М. Зинченко прибыло Красное знамя, одно из девяти знамен Военного совета армии, учрежденных специально для водружения над куполом рейхстага.
Заранее было трудно определить, какой полк первым выйдет к рейхстагу, поэтому все знамена были направлены в различные части армии.
Получив знамя, Зинченко уведомил об этом командиров всех своих батальонов, в том числе и двадцатитрехлетнего капитана Степана Андреевича Неустроева, родом из города Березовска, невысокого, но плотно сбитого в плечах офицера, с круглым лицом, красиво очерченным ртом и пристальным взглядом больших серых глаз.
Неустроев осмотрел местность. Он видел перед собой по меньшей мере три опорных пункта противника, мешающих ему приблизиться к рейхстагу. Это были: река Шпрее, "дом Гиммлера", площадь Кёнигсплац.
– Вот три "орешка", – сказал он своему заместителю по политической части лейтенанту Бересту. – Ох, чувствую, крепкие!
Берест, молодой, атлетически сложенный офицер, веселый и спокойный, приложил к глазам бинокль.
– Разгрызем, Андреич! Вот бы первыми пробиться к рейхстагу. Я бы считал – это как награда за всю войну! – сказал он.
– Ладно, там видно будет. Сейчас начнем по порядку. Перед нами Шпрее! закончил разговор комбат.
Закованные в гранит берега реки Шпрее, протекавшей по самому центру Берлина, простреливались многослойным и перекрестным огнем пулеметов и орудий. Неустроев видел перед собой мост через реку, носивший имя Мольтке. Подходы к нему были забаррикадированы, заминированы и опутаны колючей проволокой.
Вскоре немцы сами подорвали мост Мольтке, но неудачно: середина его провисала над водой. Этим и решил воспользоваться Неустроев.
Он знал, что наши части готовились к форсированию Шпрее еще на Одере, когда собирали трофейные лодки, подготавливали понтонные мосты и специальные переправы. Когда войска широким фронтом подошли к Шпрее, был установлен участок главной переправы – район Трептов-парка, там, ширина реки достигала двухсот метров.
Через Шпрее навели паромы для танков, по воде под огнем плавали надувные лодки, моторные катера, полуглиссеры речной флотилии. Но все это было позже. А в первые часы солдаты Неустроева перебирались через Шпрее по стальной нитке провисшего моста, могущего от взрывов сорваться в воду.
Первым перебрался на другой берег взвод младшего сержанта Петра Пятницкого, за ним взвод сержанта Петра Щербины, а затем и вся рота старшего сержанта Ильи Сьянова.
До рейхстага им оставалось не более пятисот метров. Но какие это были метры!..
...Перед ними, загораживая путь, возвышалось мрачное большое здание с земляными насыпями у нижних этажей, со стенами толщиной в два метра, с окнами и дверьми, заваленными кирпичом, с бойницами и амбразурами в оконных проемах. Это и был "дом Гиммлера".
Утром двадцать девятого апреля атака на здание министерства внутренних дел началась артиллерийским налетом. Затем штурмовые группы батальона Неустроева стали подбираться к зданию. К середине дня они захватили угловую часть дома, выходившую на Шлиффенуфер, ворвались во двор. Началась борьба за каждую комнату, длительная, упорная, ожесточенная!
Санитары докладывали Неустроеву, что тяжелораненых в батальоне нет. Это поражало комбата. Почему в "доме Гиммлера" оказывались только убитые или легко раненные наши бойцы, продолжавшие бой? Только позже комбат узнал, что даже солдаты, раненные серьезно, если только у них оставались силы, пока могли, держали в руках оружие.
Здание министерства горело. Густой дым душил, ослеплял, мешал продвигаться! Весь день двадцать девятого апреля и в ночь на тридцатое батальоны Неустроева и Давыдова с разных сторон вели бой за одно лишь здание. И Голько к четырём часам тридцатого апреля "дом Гиммлера" был взят.
Неустроев расположился в нижнем этаже здания, в комнате с окнами, выходящими на Кёнигсплац. Эта площадь была вся изрыта траншеями вдоль и поперек. Насколько мог видеть комбат со своего КП, впереди около самого здания возвышались темные бугры – это были доты противника.
Отдельные огневые узелки, снабженные пулеметами, кроме того, еще соединялись между собой ходами сообщения. Площадь оказалась сильно укрепленной для обороны.
Неустроев вызвал на свой КП командира роты старшего сержанта Сьянова. Он уважал этого бывалого, уже немолодого командира. Все было крупно в Сьянове: лицо, руки, немного тяжеловатые скулы, большой лоб. От фигуры его веяло силой.
– Илья Яковлевич, ты хорошо видишь этот дом? – спросил Неустроев.
– Хату Гитлера? – усмехнулся Сьянов.
– Можно считать и так, хотя Гитлер сейчас сидит в другом доме.
– Значит, рейхстаг! – догадался Сьянов.
– Ставлю тебе задачу: прорваться к нему, – сказал Неустроев. – Твоя рота пойдет впереди. Чувствуешь, какая задача!
– Будет выполнено, товарищ капитан, – спокойно ответил Сьянов.
– Нет, ты не торопись, Илья Яковлевич, выслушай обстановку. Там гарнизон – тысячи полторы. Фаустников много. И сам ты видишь, какой огонь они ведут – и минометный, и артиллерийский. И рейхстаг в общем-то круглый, очень удобный для круговой обороны. Так что людьми зря не рискуй!
– Будет выполнено, – снова твердо повторил Сьянов.
Вскоре рота Сьянова начала постепенно вытягиваться из "дома Гиммлера" на Кёнигсплац. Штурмовые группы старались двигаться за огневым валом разрывами снарядов. Однако, пробежав сто метров под прикрытием артиллерийского огня наших батарей, штурмовые группы вынуждены были залечь около рва, заполненного водой. Это была часть трассы метро, строящегося открытым способом.
В это время к Неустроеву в "дом Гиммлера" прибыла группа полковых разведчиков. Их послал полковник Зинченко. Двое молодых, физически сильных, натренированных разведчиков принесли с собой знамя Военного совета армии. Это были сержант Егоров и младший сержант Кантария.
Неустроев с удовольствием оглядел молодцеватых разведчиков.
– Знаменосцы?
– Так точно, приказано водрузить Знамя Победы, – ответил Егоров.
– Будете пробиваться к роте Сьянова, передайте мое распоряжение, чтобы они вас хорошо поддерживали огнем, когда пойдете со знаменем. Сами впереди роты не двигайтесь, а то убьют.
– Никогда, товарищ капитан, мы заговоренные, знамя несем, – сказал легкий, быстрый в движениях грузин Мелитон Кантария.
Но его товарищ Михаил Егоров все-таки попросил разрешения передать Сьянову: если разведчики не донесут знамя, пусть его подхватят бойцы роты.
– На всякий случай, – добавил Егоров.
– Ну, это само собой ясно. Добро, разведчики, – сказал в напутствие комбат, – вам великая честь! Желаю успеха!
Едва разведчики уползли на площадь, как Неустроен связался по телефону с командиром полка, прося усилить артиллерийское прикрытие. Вскоре рота Сьянова стремительным рывком преодолела ров и ворвалась на широкую лестницу, ведущую в рейхстаг. Первыми здесь оказались Пятницкий, Якимович, Прыгунов, Щербина.
Противник встретил их сильным огнем. Упал убитый Петр Пятницкий.
Тем временем рота Сьянова ворвалась в само здание, где началась борьба за каждую комнату, за каждый коридор.
Внутри рейхстага образовался "комнатный фронт". Он тянулся на верхние этажи и спускался в подвалы, куда отступила большая часть гарнизона рейхстага.
Вслед за ротой Сьянова в здание проникли бойцы из других рот, сам комбат Неустроев и замполит Берест.
Позже, вспоминая, как он пробирался через Кёнигсплац, Неустроев говорил:
"Кто-то нам рассказывал, что тридцатого апреля над Берлином стоял солнечный день. Возможно. Но нам казалось, что бой шел в вечерних сумерках. Солнца мы не видели, такой дым подымался над площадью..."
И действительно, к разрывам снарядов на площади, к облакам гари и пыли на Кёнигсплац добавился еще и дым из рейхстага. Гитлеровцы сами подожгли его. Огонь поднялся в зале заседаний, перекинулся в коридоры. Пропитанная краской и лаком деревянная обшивка зала, мягкие кресла, ковры – все это горело быстро и жарко. Пылали десятки комнат... И все-таки бойцы прочно закрепились на первом этаже здания.
Неустроев связался по телефону с командиром полка, теперь уже из рейхстага.
– Передаю тебе приказ старшего хозяина, – сказал Зинченко, имея в виду командующего армией, – я назначен комендантом рейхстага. Доложи обстановку!
Неустроев сообщил, что гитлеровцы предпринимают контратаки из подземного помещения, что их много в подвалах. Разведчики Егоров и Кантария гранатами проложили себе путь на второй этаж, но выше разрушены лестничные марши. С третьего этажа строчат пулеметы противника.
– У меня еще нет воды, мало боеприпасов, – добавил он.
Зинченко сказал, что он сделает все возможное, чтобы помочь батальону, но пока огонь противника не дает ни одной живой душе пересечь Кёнигсплац.
– Держись своими силами, я послал к тебе людей с едой, с боеприпасами.
Но солдаты, посланные Зинченко, не могли пробраться к рейхстагу.
В 12 часов 25 минут Егоров и Кантария установили знамя на втором этаже и спустились к Неустроеву, чтобы доложить об этом. Тогда комбат организовал штурмовую группу для сопровождения знаменосцев. Ее возглавил лейтенант Берест. В эту группу полностью вошло отделение сержанта Петра Щербины.
И снова начался бой за каждую ступеньку лестницы, ведущей на верхние этажи рейхстага, за каждый метр, приближающий разведчиков к его куполу.
Тем временем пожар внутри здания все нарастал. Зловеще гудело пламя в громадном помещении. От жары и искр на солдатах тлели гимнастерки, плащ-палатки. Густой дым ослеплял, вызывал тошноту.
На верхних этажах дыма было меньше и не так жарко, но все-таки почти полдня понадобилось штурмовой группе Береста, Егорову и Кантарии, чтобы добраться со знаменем до купола рейхстага. И в 22 часа 50 минут тридцатого апреля над рейхстагом взвилось Знамя Победы.
Наступил день первого мая, но бой в рейхстаге не прекращался. Засевшие в подвалах гитлеровцы дрались о особой яростью. Они еще надеялись получить подкрепления, надеялись, что пожар вытеснит из рейхстага батальоны Неустроева, Давыдова, Самсонова, ведущие бои в различных крыльях здания.
И действительно, пожар становился невыносимым.
У Неустроева оставалось все меньше комнат, не охваченных огнем, комнат, где можно было держать раненых и находиться самим. Неустроев опять позвонил Зинченко:
– Товарищ полковник, где же вода, где боеприпасы?
– Люди не могут подобраться к тебе, дорогой! Мы все очень беспокоимся, пошлю еще солдат.
– Воду из фляжек давно выпили, мучает жажда.
– А как здание?
– В огне уже четыре этажа. Я не ослабляю осады подвала.
– Молодцы! Но слушай, Неустроев. Если держаться будет невозможно, разрешаю временно отойти.
– Только в самом крайнем случае, – ответил Неустроев. Но про себя он тут же подумал, что, пока жив, не оставит рейхстага, взятого с таким боем и жертвами.
К счастью для батальона, в эти часы солдаты случайно нашли пролом в стене, который вел в те помещения, где еще не было пожара. За стеной солдаты Неустроева обнаружили, что очутились... в тылу у противника. Здесь гитлеровцы, выбравшись из своего подземелья, жадно дышали свежим воздухом.
Появление советских воинов было так неожиданно и так ошеломило немцев, что они, даже не открыв огня, бросились в свое укрытие.
И только на исходе дня первого мая на одной из лестниц, ведущих в подземную часть здания, появился солдат с первым белым флагом. Это гарнизон, обороняющий рейхстаг, предлагал начать переговоры.
Первым в подвал спустился солдат Прыгунов, знавший немецкий язык. Прыгунов с белой повязкой парламентера пробыл в подвале минут двадцать, и за его судьбу уже начали беспокоиться. Вернулся же он с сообщением, что гитлеровцы готовы вести переговоры, но только со старшим офицером.
– Генерала им подавай или полковника! – сказал он со злостью.
– Ну пусть подождут, пока мне присвоят это звание, – пошутил Неустроев. Вместе с тем требование немцев всерьез озаботило его, потому что батальон устал и у комбата осталось мало людей.
– Привередничают! Спесь свою показывают, видишь, Берест! – сказал он, думая о том, что солдаты и командиры уже много часов не ели, не пили, а если и дрались с необычайным самоотвержением, то только за счет нечеловеческого напряжения сил. К тому же пожар не утихал и люди задыхались в густом дыму.
– Что делать? – спросил Неустроев. Он вытащил из нагрудного кармана маленькое зеркальце, взглянул в него. Гимнастерка в нескольких местах прогорела, щеки обросли, глаза ввалились.
– Не поверят, что я и есть самый старший на данной территории, как думаешь, Берест? – спросил он и остановил свой взгляд на крупной, представительной фигуре и молодцеватой выправке своего заместителя.
– Тебе приходилось быть дипломатом?
– Мне? – Берест пожал плечами. – Может быть, после войны доведется.
– Нет, сейчас. Умывайся, брейся. Мы тебя переоденем, давай скорее, Берест, давай!
Замполит кое-как поскоблил бритвой щеки, успел пришить свежий подворотничок, который всегда носил с собой, примерил сначала пилотку, но ему дали фуражку, которую Берест лихо сдвинул набекрень. У одного из солдат случайно нашлись кожаные перчатки,
– Ну как? – спросил Берест.
– Хорош! – кивнул Неустроев.
– Не слишком ли... с перчатками. Май все-таки!
– Сойдет! Веди делегацию. Ты – глава, я твой адъютант и с нами переводчик Прыгунов, – сказал Неустроев и насколько мог привел себя в порядок.
– Неофициальным представителем предлагаю захватить еще лейтенанта Герасимова... с пулеметом, – добавил Берест.
Группа парламентеров спустилась в подвал. Там Береста встретил немецкий подполковник, не назвавший своей фамилии.
– Мы поднимемся из подвалов только с одним условием, – заявил он.
– С каким же? – спокойно поинтересовался Берест.
– Отведите ваши подразделения из рейхстага. Мы не пойдем через ваши боевые порядки.
– Вот как! – сказал Берест. – Мы окружили рейхстаг и теперь должны уйти?
– Хотят выиграть время, – шепнул Бересту Неустроев.
– Предложение отвергается, – заявил Берест. – Теперь слушайте наши условия. Сдача в плен без всяких условий! Ваше сопротивление бессмысленно. Всему гарнизону, в случае сдачи, гарантируется жизнь.
– Вы ворвались в рейхстаг и отсюда живыми не выйдете. Никто! В том числе и вы – парламентеры! Наши батареи простреливают перед рейхстагом каждый метр. У нас сила! – нагло заявил подполковник.
– Еще раз повторяю: капитулируйте. На размышление дается двадцать минут. Не будет ответа – откроем огонь! – закончил Берест.
Наши парламентеры покинули подвал. Это было в два часа ночи второго мая.
Прошло еще два часа, гитлеровцы не сдавались. И Неустроев начал подготовку к последнему штурму.
В это время огонь противника на Кёнигсплац стал тише, наши главные силы проникли в центр Берлина, в сектор "Цитадель". И тут же в здание рейхстага ворвалось с шумом сразу несколько подразделений.
Появились наконец и посланные сутки назад солдаты с термосами, наполненными горячим супом и кофе! Прибыли боеприпасы.
И тогда в пятом часу ночи батальон Неустроева вместе с батальонами Самсонова и Давыдова предпринял последний штурм подземелий рейхстага. Солдаты забросали проходы в подвал гранатами, небольшие группы наших автоматчиков стали проникать в подвалы.
Вот тогда-то наконец навстречу им начали выходить солдаты и офицеры с белыми флагами. Неустроев приказал прекратить огонь. Вылез офицер, вручивший комбату приказ коменданта рейхстага о сдаче в плен.
Уже было светло на площади. Майское солнце весело искрилось на изрешеченных осколками, рваных железных листах купола здания, когда по разбитым лестницам рейхстага начали спускаться первые понурые пленные. Они шли медленно, вяло передвигая ноги, словно боясь оступиться на разбитых лестницах и упасть.
Тем временем Неустроев и Берест слегка подкрепились супом и горячим кофе. Это взбодрило их. Но все-таки оба офицера чувствовали такую ломящую тело усталость, такую боль в ногах, готовых подкоситься, что, выйдя из рейхстага, чтобы подышать свежим воздухом, они прислонились спинами к холодному граниту колонн.
Здесь Неустроев и Берест молча смотрели на толпу пленных и искали глазами высокую фигуру того самого наглого подполковника, который обещал им смерть в рейхстаге.
Но прошло уже много пленных, а подполковника все не было. Может быть, его ранило или убило гранатой или же в последнюю минуту этого взбесившегося эсэсовца застрелили свои же солдаты, решившие во что бы то ни стало живыми выбраться из подземелий рейхстага на Кёнигсплац.
Конец "третьего рейха"
В этой главе будет рассказано о смерти фашистской империи, о событиях, касавшихся гитлеровских главарей, о том, что стало нам известно по свидетельствам пленных генералов, эсэсовцев, по розыскам и публикациям уже в более позднее время{2}.
Утром шестнадцатого апреля, одновременно с наступлением наших войск на Одере, был обрушен на Берлин мощный удар с воздуха. Бомбы рвались в центре города, во дворе имперской канцелярии. Трясся бетонный потолок в глубоких подземных бункерах, где началась агония гитлеровских сановников и генералов, их предсмертные метания.
В этот же день утром Гитлер созвал в своем подземном кабинете совещание генералов и адмиралов. Дрожащая его рука металась по карте, он судорожно перемещал флажки с обозначением номеров армий, разбитых, обескровленных или же вообще уже существующих только в его воображении. Этот маньяк все еще верил или же пытался другим внушить веру в благоприятный исход войны. Он твердил не уставая, что силы русских иссякли.
Раболепный Кейтель, поддерживая фюрера и больше всего, пожалуй, свои собственные пустые надежды, сказал на этом совещании:
"Господа, есть старое военное правило: если наступление не завершается успехом на третий день – оно будет неудачным".
Гитлер с благодарностью взглянул на своего фельдмаршала.
Однако остальные генералы промолчали, и молчание это было многозначительно. А Дениц сдержанно и хмуро заметил, что правило Кейтеля ему не кажется таким обнадеживающим.
Вечером того же дня Дениц сделал свои выводы из этого совещания у Гитлера. Как только стемнело, большая колонна грузовиков с имуществом штаба Деница, нагруженная вещами самого гроссадмирала, тронулась из Берлина в город Плэн.
Дениц показал путь, он был первым, кто решил держаться подальше от Гитлера, Берлина и фронта, заботясь главным образом о спасении своей шкуры. Двадцать первого апреля Гитлер предпринял отчаянные попытки деблокировать Берлин извне. Ангелом-спасителем для гитлеровской клики, запертой в Берлине как в каменном мешке, вдруг предстал эсэсовский генерал Штейнер, под командованием которого находилась небольшая группа войск – две дивизии танкового корпуса. Штейнер получил приказ – перейти в наступление.
В тот же день Гитлер бросил в бой всех, кто служил в военно-воздушных войсках Германии.
"Всех, кто может ходить по земле, немедленно передать Штейнеру. Каждый командир, который не выполнит этого приказа, будет казнен в течение пяти часов".
Однако эти истерические вопли гитлеровского приказа не помогли Штейнеру.
На следующий день на совещании с Кейтелем, Йодлем, Кребсом и Борманом Гитлер спросил, где же находится Штейнер, начал ли он свое наступление? Узнав, что Штейнер под давлением советских войск не только не смог продвинуться к Берлину, но и едва удерживает свои оборонительные позиции, Гитлер пришел в исступление. Он вопил, что немецкий народ не понимает его целей, что он слишком ничтожен, чтобы осознать и осуществить его намерения.
На этом же совещании Гитлер предложил открыть фронт англичанам и американцам, сняв с западных позиций все войска, повернув их все на восток. Кейтелю, а вслед за ним и Гитлеру начало мерещиться, что эта мера позволит им "столкнуть" западные войска с русскими. Это единственное, что составляло сейчас надежду Гитлера на "спасение". Гитлер, настроения которого внезапно менялись от состояния прострации до бурного ликования, вновь возвышая голос, приказал снять все войска с западного фронта и повернуть их на выручку Берлина – против русских.
Генерал Штейнер провалился, но на этом заседании возникло имя нового "спасителя" Берлина. Это Венк, который еще располагал, по мнению Гитлера, боеспособной армией. И хотя теперь Гитлер приказал Венку пробиться к Берлину, он уже сам не верил в то, что ему удастся изменить положение в столице Германии. В этот день Гитлер впервые признал, что он проиграл войну, что все потеряно и ему, Гитлеру, остается только покончить с собой. Кейтель и Геббельс на этом совещании и на совещании двадцать третьего апреля, когда Кейтель, побывав в штабе Венка, вновь возвратился в имперскую канцелярию, пытались ободрить своего фюрера.