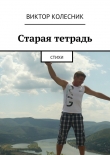Текст книги "Берлинская тетрадь"
Автор книги: Анатолий Медников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Как правило, мы приезжали домой только ночевать. В те часы, которые мы проводили в коттедже, я для работы поднимался на второй этаж, в комнату, которую делил со Спасским. Здесь стояли два дивана около окна, выходившего в сад со стороны калитки.
Из окна виднелась неширокая улица, по обочинам поросшая той нежно-зеленой, веселой апрельской травкой, которая особенно радовала глаз. Рядом с изгородью, обтянутой сеткой, останавливались на ночь и наши машины.
Вот там-то я и увидел однажды под вечер женщину в брюках, с темным платком на голове и с двумя сумками, осторожно, с опаской пробиравшуюся между машинами. Она вошла в нашу калитку и, озираясь по сторонам, нерешительно приблизилась к дому.
Через полчаса, спустившись со второго этажа на кухню за стаканом воды, я открыл дверь и увидел вздрогнувшую при моем появлении невысокую худую женщину. Она тотчас вскочила со стула и поклонилась. Большие серые глаза ее расширились от страха, а пальцы нервно перебирали края передника.
Я поздоровался с нею и тотчас поднялся к себе, только затем, чтобы женщина успокоилась. Потом мне пришлось еще раз зайти на кухню. И снова, несмотря на все мои улыбки и успокаивающие жесты, женщина продолжала нервничать, лицо ее, жалкое и поблекшее, по-прежнему выражало явный страх, с которым она, казалось, не могла справиться.
Странное поведение нашей гостьи – в ту минуту я еще не знал, кто она, и особенно раболепно-искательное выражение ее лица вызывало у меня неприятное чувство, в котором жалость невольно смешивалась с брезгливостью.
В этот вечер я и другие мои товарищи старались появляться около кухни как можно реже.
За ужином я узнал, что на кухне сидит хозяйка коттеджа фрау Мария Менцель. Она попросила разрешения пожить на кухне.
Мы тут же предложили ей занять одну из пустующих комнат, а если ей надо, то и две, привести свою дочь-студентку, которую фрау Менцель прятала зачем-то у родственников.
Но фрау Менцель отказалась поселиться в комнате и заявила, что ее вполне устроит подвал, где тепло, сухо, светло, где у нее спрятаны вещи.
Наша настойчивость в данном случае только бы испугала хозяйку. Подвал вдали от наших комнат представлялся ей более безопасным, и, в надежде, что фрау Менцель вскоре, лучше узнав нас, переселится в комнаты, мы не стали ее больше уговаривать.
И действительно, прошло несколько дней и фрау Менцель понемногу успокоилась. Она заняла свободную комнату и теперь уже целый день гремела кастрюлями на кухне или ходила с тряпкой по комнатам, убирая их, в те часы, когда мы уезжали в Берлин.
Первым, к кому фрау Менцель почувствовала доверительное расположение, влекущее к откровенности, был Михаил Семенович Гус. Он лучше других говорил по-немецки и более всех интересовался настроением берлинцев, их отношением к нацистскому режиму, доживавшему последние дни.
Михаил Семенович в свободное время беседовал с фрау Менцель, и ему-то первому она рассказала о себе, о своем домике, о квартирантах и соседях.
Муж фрау Менцель, банковский служащий, приобрел этот коттедж в рассрочку, и когда он ушел на войну, фрау Менцель сдала верхний этаж квартирантам.
Вскоре хозяин домика погиб на восточном фронте около Одессы. Фрау Менцель стала вдовой. Но квартирант ее, Вернер Брейтшнейдер, инженер на одном из заводов фирмы АЭГ, оставался дома.
Брейтшнейдер, сравнительно молодой человек, еще будучи юношей, состоял в штурмовых отрядах; став инженером, он записался в нацистскую партию.
В свою "зиппенбух" – родословную книгу, которые по приказу гитлеровцев должны были иметь все арийские семьи, Брейтшнейдер внес имя дочери Ингрид, при рождении нареченной Бертой. Ингрид, имя из древних немецких саг, показалось молодому нацисту более модным.
Однако этот нацист, почитатель средневековья, этот фашистский "рыцарь" растерял все свое самообладание, остатки мужества и разума в тот день, когда к берлинским пригородам начали приближаться наши войска.
Вот что рассказала фрау Менцель.
В тот день, когда население Уленгорста услышало дальние раскаты русских пушек, жена инженера призналась фрау Менцель, что она очень беспокоится за мужа. Он не находил себе места, страшась возмездия, уверенный в том, что, когда придут в Уленгорст наши войска, его, как члена нацистской партии, убьют или отправят в Сибирь.
Спустя некоторое время, когда обе женщины находились в кухне, они услышали странные звуки в комнатах второго этажа. Было похоже на то, что кто-то топором рубит в комнате дрова.
"Что это у вас?" – спросила фрау Менцель.
"Не знаю. Боже мой, какие странные звуки!" – сказала жена Брейтшнейдера и побледнела. Затем она с криком бросилась в свою комнату.
Прошло минут пять. И вдруг дом огласился душераздирающим криком. Перепуганная насмерть фрау Менцель лишилась дара речи. Она не решалась кликнуть кого-нибудь на помощь и даже выйти из своей комнаты.
Однако через некоторое время сосед фрау крикнул ей из-за ограды, чтобы она вышла к нему. Он обнаружил инженера, лежащего в саду около ограды. Брейтшнейдер истекал кровью.
Он признался, что в своей комнате сначала зарубил топором двухлетнюю дочь и четырехлетнего сына, затем тем же топором убил и жену. Трупы закопал в могилу, которую предварительно вырыл в саду.
С ужасом она услышала еще и о том, что Брейтшнейдер пытался покончить с собой, взрезав себе вены. Однако он не мог сразу лишить себя жизни и умер в этом доме спустя три дня.
В тот же вечер фрау Менцель вместе с дочерью убежала из своего дома к родным, живущим в другом пригороде.
Такова эта тяжкая история, далеко не случайная и не единичная в те дни.
Узнав о ней, мы стали невольно иными глазами смотреть на нашу хозяйку, которой довелось много вынести и пережить.
Мы долго и терпеливо объясняли фрау Менцель, что ее квартиранту, как рядовому члену нацистской партии, не запятнанному в военных преступлениях, ровным счетом ничего не грозило.
Поняла ли это фрау Менцель или, вернее, поверила ли? Не знаю.
Мы говорили ей, что Брейтшнейдер был одурачен Геббельсом и его кликой врунов, что поступок его – убийство жены и детей – под стать тому средневековому варварству, которое насаждали гитлеровцы, что это изуверство ничем не объяснимо, кроме как помешательством на почве страхов, клеветнических слухов, психоза и ненависти к советским людям.
Фрау Менцель охотно слушала, кивала, вытирая платком покрасневшие от слез веки, и делала вид, что верит.
На следующий день после того, как мы узнали о трагедии в нашем доме, Спасский в той комнате, где мы спали, нашел в шкафу пальто Брейтшнейдера с большими расплывшимися пятнами крови. Пальто забрала фрау Менцель.
Я не скажу, чтобы мы чувствовали затем себя очень уютно в комнате, пол которой носил следы замытых красных пятен. Мне казалось, что я слышу крики детей, смотрящих на своего отца, когда он с топором подходил к ним.
Да надо ли еще писать о том, чего нельзя ни описать, ни выразить словами!
Но рассказ об этой трагедии незримой тенью лег на наши души. Он сказался и в наших корреспонденциях и записях, которые мы делали в этой комнате, он сказался в той силе ненависти, с какой мы думали о нацистах, принесших столько зла народам, о нацистах, которые еще сидели в подвалах рейхстага и новой имперской канцелярии Гитлера.
Госпиталь у озера
Армейский госпиталь расположился в самом живописном месте Штраусберга, около озера, поросшего по берегам стройными соснами. Большой дом с колоннами стоял близко от берега. Из комнат, переоборудованных под палаты, открывался чудесный вид на спокойную воду, по которой плавали белые лебеди, и можно было считать каким-то чудом, что они сохранились здесь в эти военные дни.
Посреди озера возвышался зеленый круглый остров, и там, в зарослях кустов, виднелись каменные беседки с тонкими колонками и островерхими железными крышами. Островок был усеян этими беседками, точно гигантскими белыми грибами.
Словом, раненые видели перед собой мирный пейзаж, ничем не напоминавший войну. Вызывал же он в памяти скорее картины русских дореволюционных богатых усадеб, охраняемых ныне как памятники старинного паркового зодчества.
Людям, которых привозили сюда прямо с переднего края, из горящих берлинских улиц, была особенно приятна и тишина в парке, и запах хвои, и лебеди на тихо плескавшейся воде, и лучи солнца на золотисто-янтарной коре сосен.
Небо над Восточной Германией в эти дни можно было считать спокойным, как говорили солдаты – "чистым" от вражеской авиации, а в окрестностях Штраусберга не появлялись бродячие банды "Вервольфа". Вот этим и объяснялась та, я бы сказал, странная для военного госпиталя картина, которую я увидел здесь.
В это утро, должно быть, почти все население военного госпиталя, покинув палаты, перебралось под открытое небо, в парк.
Раненых – тех, кто мог сидеть на полотняных стульчиках, на скамейках, и тех, кто стоял на костылях, и тех, кто лежал на кроватях и носилках, – всех вывели и вынесли на свежий воздух, на зеленую травку, порадоваться солнышку, апрельскому теплу, мягкой весне.
Мы оставили наши машины у резной чугунной ограды парка и прошли на зеленую лужайку. Я узнал, что в этот госпиталь привезли раненого танкиста Павла Синичкина, и хотел его навестить. Мы захватили с собой и наши микрофоны, ибо никогда не забывали о профессиональной обязанности – делать записи на пленку.
Еще шла война, но для раненых она была уже кончена. Передвигающиеся на костылях, перебинтованные, еще лежащие на носилках, здесь, в сорока километрах от Берлина, эти люди в мыслях своих были далеко, за тысячи километров отсюда, дома, на родине. Так что же они собирались делать после госпиталя, после войны? Мы хотели услышать об атом. И записать на пленку.
Конечно, решение, которое принимает человек, лежащий в госпитале, еще больной, еще слабый, – это не окончательное решение.
Но мысли солдат о мирной жизни сейчас, в канун окончания войны, имели свою особую ценность, свою историческую неповторимость, свою значительность именно потому, что принадлежали людям, только что пролившим кровь в боях.
Но сначала о Синичкине. Он лежал на носилках с подложенными за спину подушками, чтобы танкисту можно было видеть товарищей, высоко держать голову и осматривать площадку, пестревшую белыми, желтыми, зелеными, серыми полосатыми пижамами раненых.
Гитлеровцы, стрелявшие в Синичкина, не промахнулись. Одна пуля прошла в мягкие ткани его ноги, другая задела кость предплечья, третья попала в кость правой руки, и поэтому Синичкина туго запеленали в гипс, охватив им весь торс и руку.
Вот так он и лежал в белой гипсовой рубашке, а правая полусогнутая его рука, ставшая вдвое толще от гипса, была намертво прикреплена перед грудью.
Эта гипсовая повязка среди раненых носила название "самолет", ибо действительно чем-то напоминала крыло самолета.
Синичкин, бледный (потерял много крови), лежал на спине, смотрел на небо, и пальцы его левой, здоровой руки гладили траву. Мне он обрадовался как старому знакомому.
– Вот загораю на солнышке, здравствуйте! – сказал он. – Садитесь рядом, на травку. Я опустился рядом с носилками.
– Как в Берлине? – первым делом спросил Синичкин. Я кратко рассказал.
– Не довоевал я. Немного не дотянул! И вам соврал!
– В чем? – не понял я.
– Говорил, что встретимся у рейхстага. А меня вон куда отбросило, на озеро, к белым лебедям!
Синичкин вздохнул.
– Что поделаешь! Война!
– Все-таки, – сказал Синичкин.
Я поинтересовался, как он себя чувствует.
– Да вот завернули в гипс. Скажи какая судьба! Всю войну под танковой броней и опять вроде как в броне, гипсовой!
Он постучал ногтем по своей груди. Звук был такой, словно бы он постучал по деревяшке.
– Вот видишь, крепкая, сволочь! – сказал он не то с горечью, не то с какой-то уважительной интонацией, ощупывая левой рукой свою твердую гипсовую рубашку. – Броня! Одно слово – броня! – повторил он.
– Как там наши, не знаете? – спросил Синичкин через минуту, когда, повозившись на носилках, нашел для тела удобное положение. Я видел, что гипсовая повязка доставляла ему мучения.
– Полк Шаргородского уже где-то под рейхстагом. – Я рассказал о положении в Берлине. – Ребята воюют здорово!
– Здорово, да без меня!
Я сам был дважды тяжело ранен и знал не из литературы, а по опыту своего сердца, как раненому человеку, уставшему за месяцы боев, в первые дни особенно приятна госпитальная тишина, отдых, чистые простыни, ласковые руки врачей и сестер да и само сознание, что здесь-то ты в относительной безопасности.
Это по-человечески так понятно и вовсе не умаляет храбрости людей, которые, залечив раны, возвратятся в свои части, чтобы хорошо воевать.
Обычно раненые не слишком торопились из госпиталей на фронт, а если и торопились, то не принято было вслух говорить об этом. Я видел, что Синичкин действительно жалел, что не дошел до рейхстага и что находился сейчас в госпитале, а не в части, не в бою.
Как видно, общие слабости еще не делают людей похожими. Их скорее объединяет сила характеров. И это мужество у Синичкина было сильнее страха, сильнее минутных слабостей, боли и страданий.
– Ну, с армией у тебя – все! И с этим примирись. Что думаешь делать в мирной жизни? – спросил я танкиста.
– В гражданке?
Синичкин задумался. Должно быть, он вспомнил что-то, – только хорошие мысли так просветляют лицо. Он легко улыбнулся, но при этом вздохнул.
– В гражданке танкисту прямая дорога от танка на трактор. От машины к машине. Мне теперь без мотора будет скучно. Выходит, что я моторный мужик!
Это выражение понравилось Синичкину. Уже беззвучно, одними губами он повторил слово "моторный".
Мне подумалось тогда, что и в своем характере Синичкин чувствовал что-то сродни неутомимой мощи танкового мотора, который много месяцев был послушен его руке.
– Вчера домой письмо нацарапал. Левой. Правая-то в гипсе. Чудно! Буковки, как безногие, все влево падают. Каракули! Но разобрать можно. Интересно. Начал – и сразу пошло! – говорил он, улыбаясь и словно подсмеиваясь над собой и над тем, как он с первой попытки сумел левой рукой написать письмо. И от сознания этой своей простосердечной гордости он улыбался все шире.
– Вот так же и жизнь новую – начнешь, и сразу пойдет!
– Возможно, товарищ корреспондент. Вот только бы скинуть это!..
И Синичкин снова постучал пальцами о твердую белую гипсовую рубашку, которая мешала ему вздохнуть глубоко, всей грудью.
Я помню лежавшего неподалеку от Синичкина солдата, в прошлом шахтера из Сибири, Ивана Ивановича Борейко. Он был тяжело ранен в грудь и дышал как-то натужно, со свистом, как старый маневровый паровозик на шахтном дворе.
Борейко было трудно разговаривать, я видел это, но он сам подозвал меня, услышав беседу с Синичкиным.
– Вот я, сынок, если выживу, то подамся к себе в Прокопьевск, это в Кузбассе. Слыхал? Хорошие края! В шахту, может, меня и не пустят теперь, так на шахтном дворе какую-никакую работенку сыщут мне. Все около угля – запашок его буду слышать!
– А может быть, и забойщиком сможете?
– Нет, милок, под землю спускаться не надеюсь, прости. Этого не обещаю, – сказал Борейко серьезно, так, словно бы должен был именно сейчас решить, куда ему оформляться на работу.
...К сожалению, я забыл его фамилию, но помню фигуру высокого артиллериста, командира батареи, раненного в голову. По гражданской специальности он был учитель физики в техникуме.
– Когда меня пуля но голове царапнула, я, признаюсь, испугался. Ну, подумал, раз в голову – то все, кончились мои лекции! Без головы физику преподавать не будешь! – Он улыбнулся.
– Сейчас у вас другое настроение?
– Другое. Проверял себя на легких примерах по дифференциальным уравнениям. Обрадовался вдвойне. Во-первых, помню, во-вторых, мозговой аппарат работает. "Черепушка варит!" – как говорят солдаты.
– Значит, на преподавательскую работу?
– Конечно. А может быть, в науку, в какой-нибудь научно-исследовательский институт. Давно хотелось. Если, конечно, вот это не подведет.
И артиллерист осторожно и все-таки с некоторой опаской потрогал "черепушку" – свою забинтованную голову.
...Молодой связист лейтенант Курашов учился в институте связи, потом полгода в военном училище связи и затем попал на фронт. Он сидел сейчас на скамейке, выставив вперед затянутую в лубки раненую ногу. Она выглядела вдвое толще нормальной. Курашов посматривал на ногу так, словно это была не его нога, и вообще не нога, а что-то непонятное, неуклюжее, случайно оказавшееся рядом с ним, молодым, здоровым, полным энергии.
Всю войну Курашов таскал в своем заплечном мешке институтскую зачетную книжку.
– Хорошая зачетка?
– Приличная. Правда, одна двойка затесалась. По сопромату. Не успел пересдать. Забрали в армию. Какие планы на послевоенный период? Доучиться раз!
– Что же два?
– И два и три. Много разных "до". Долюбить то, что недолюбил из-за потери времени на войну с Гитлером. Добрать счастья личного – сиречь жениться. Доработать недоработанное по той же причине. И вообще так жить, чтобы за год брать от жизни то, что дается за два с лишним.
– Боевая программа!
– А как же? Раз живой остался – давай на полную катушку!
– Я желаю вам успеха, – сказал я связисту.
...Этот старшина, с лицом немолодым, суровым и усталым, лежал рядом с солдатом примерно одних с ним лет и земляком. Оба они были с юга, из Ставропольского края.
– Весна! У нас сеют в марте, сейчас яровая всходит – зеленые побеги. Я агроном по образованию, Люшнин фамилия. После войны хлеба для народа надо будет много. Очень много! И мяса и вообще сельскохозяйственных продуктов! Вы смотрите, что в Германии делается. Тоже голодно. И в Европе. Надо держаться ближе к земле.
– Вам пришлось сильно поголодать в войну?
– Случалось, – неопределенно ответил Люшнин. – Не во мне дело. Вообще сельскому хозяйству очень будут нужны кадры специалистов. Я, конечно, вернусь в свой район. Не на асфальте родился, земля, она, знаете, тянет! Вот земляк, – Люшнин показал на солдата, – тоже хлебороб наших степей, спит и во сне Ставрополыцину видит.
– Точно. Всякому мила своя сторона, – откликнулся сосед. – Товарищ, не слыхали, когда старогодков зачнут домой отпускать? Как. Берлин возьмем? Ведь держать не станут?
– Точно не знаю, но думаю, ваш возраст отпустят домой скоро.
– Хорошо бы еще и Гитлера пымать! – сказал солдат с затаенным вздохом надежды и таким тоном, словно бы исполнение и этого желания сделало бы его совершенно довольным и счастливым.
...Этот раненый в голубовато-серой пижаме, цвет которой трудно было различить в кустах, сидел на берегу с удочкой в дальнем, малолюдном и тихом уголке парка.
На вид ему было лет тридцать или тридцать пять, а может быть, и сорок. Его лицо состарившегося мальчика, овальное, с гладкой кожей, полнощекое, но уже обрамленное сединой на висках, принадлежало к тем лицам, по которым трудно определить возраст человека.
Ранен он был в левую руку, сейчас она, перебинтованная, висела у него на ремне, пальцы шевелились, и раненый довольно ловко нанизывал ими червяков на крючок своей удочки.
Он резко вздрогнул, когда под моими сапогами захрустели ветви.
– Счастливого клева. Здравствуйте!
– Напугали меня. Я тут отдыхаю в одиночестве, – сказал раненый, пристально вглядываясь в меня.
– Простите, пожалуйста. Вот смотрю, как здесь красиво, – сказал я, любуясь спокойной водой озера. Оно напоминало гладкую огромную тарелку с голубыми, слегка обломанными краями.
– Главное – тихо! – сказал раненый. Фамилия его была не то Подточийский, не то Предтеченский, точно не помню, в общем, какая-то тягучая, церковно-семинарская. Он долго думал, мялся и медлил с ответом, хотя я и не вынимал блокнот.
– Зачем вам это?
– Просто интересно. Ведь это всех нас интересует: как мы будем жить после войны?
– Я хочу жить в лесу, большом, глухом. Домик себе построю деревянный вдали от железной дороги, от городов. Может быть, женюсь или брата выпишу.
– Вы лесником работали до войны?
– Нет, зачем. Я в Курске, в одном тресте служил старшим экономистом.
– А в армии?
– Техником-интендантом по артснабжению.
– Значит, сейчас потянуло на природу?
– Не в природе дело, а потянуло подальше от людей, чтобы грохота машин не слышать, а только тележный скрип, вот так! И чтобы в небе только птички пели или шмели жужжали, а не самолеты! Тишины хочется, чтобы всюду была тишина, больше ничего не надо.
– Устали вы?
Я спросил это, как-то невольно подстраиваясь под интонацию раненого.
– А что ж вы думали? Сколько мы с вами ужасов насмотрелись, сколько страданий! Устал я, верно. Покоя хочется.
– Но ведь соскучитесь в лесу-то один?
– Почему? Жена, дети со мной будут. От скуки еще никто не умер. А от бомбежки умирают! Правда!
Мне трудно было опровергнуть это наблюдение. Действительно, от бомб умирают, от скуки, во всяком случае, не сразу. Да мне и не хотелось возражать раненому. Пусть человек живет в лесу, и в лесном хозяйстве нужны экономисты.
...Позже, в Уленгорсте, просматривая свои блокноты, я заметил, что из многих воинов, с которыми я беседовал в госпитале, только один человек мечтал об одиночестве, вдали от людей, от шума и кипения большого и яростного мира. Всего лишь – один.
На станции метро
Партийное бюро части заседало в отбитой у гитлеровцев станции метро. Узнав об этом, я решил пробраться к входу в подземную берлинскую железную дорогу.
Сопровождавший меня солдат сказал, что в вестибюле метро идет сейчас прием в партию.
– Почему именно в метро?
– Тихо там. Опять же бомбы, снаряды, или там пуля не достают. Место подходящее.
Через минуту он добавил, что участвовавшие в атаке на метро бойцы и офицеры после боя за эту станцию и подали заявления.
– Так что разбирают их, можно сказать, на месте происшествия, заключил он.
Без провожатого я бы ни за что не нашел входа в метро, издали почти незаметного, заваленного камнями, мотками колючей проволоки и противотанковыми "ежами" – крестообразно сваренными металлическими балками.
Просто мне бы не пришло в голову, что эта яма среди мостовой с разбитыми каменными ступенями, ведущими вниз, с короткими стенами бетонных парапетов, напоминавшими иные московские общественные уборные, что это и есть вход в берлинскую подземку.
Мой провожатый, на всякий случай вскинув на руку автомат, полез по ступенькам вниз, я за ним, пока мы но натолкнулись на труп гитлеровского солдата. Он лежал широко раскинув руки, словно бы пытался закрыть ими узкий проход в метро.
Вдвоем мы оттащили тело в сторону, и мой провожатый пробурчал что-то насчет нерадивости "похоронной команды", не успевавшей убирать трупы на берлинских улицах.
Сказать, что берлинское метро показалось мне скромным сооружением, это значит выразиться мягко. Нет, оно выглядело очень мрачным подземельем с устоявшимися запахами сырости, ржавчины, размокшего цемента, гари и дыма, которые после боя еще не выветрились отсюда.
Лестница вниз оказалась короткой. Вскоре я ступил на серый пол перрона станции, по обеим сторонам которого пролегали пути. Над головой висел сравнительно невысокий купол. У этой станции неглубокого залегания было только одно очевидное преимущество – отсутствие эскалаторов и длинных переходов.
Сейчас на перроне было темновато. Дневной свет проникал сюда со стороны входной лестницы. В потолке зияла еще воронка, пробитая бомбой, через нее тоже сочился свет.
Слева на рельсах стоял пассажирский вагон метро, в него затащили небольшой столик для секретаря, остальные члены бюро сидели на продолговатых диванчиках с одной стороны, с другой, держа автоматы у ног, тесно прижавшись друг к другу, разместились те, кого вызвали для приема.
Вагон освещался переносными электрическими лампами, и, право, казалось, что он вот-вот тронется с места и покатится по рельсам в пугающую глубину темного туннеля, к центру Берлина.
Секретарь партбюро, немолодой майор, подперев ладонью щеку и слегка гладя пальцами свой седеющий висок, слушал сержанта, рассказывающего свою биографию. Она была несложной.
Геннадий Бажуков закончил в Перми семилетку, пошел работать на механический завод, а вечером учился в заочном техникуме. Он хотел со временем стать авиационным инженером. Двадцатого июня он сдал выпускные экзамены, двадцать второго началась война, и Геннадия призвали в армию.
Потом учебный полк, формировка, фронт, госпиталь, опять формировка, опять фронт, и так несколько раз.
Сейчас сержант сильно тер ладонью свой выпуклый шишковатый лоб, стараясь вспомнить еще какие-нибудь выдающиеся факты из своей биографии, но ничего, должно быть, не приходило ему в голову.
– Все обычно, товарищ майор! Биография еще не наросла. Как говорится, только заложил фундамент.
– Ты уралец?
– Точно, – оживился Бажуков и произнес это таким радостным тоном, словно выискал в биографии еще одну свою заслугу – он уралец!
– Расскажи, как участвовал в последних боях? – спросил строгий майор.
Последним боем для Бажукова был бой за эту станцию, и прежде чем начать рассказывать, он оглянулся на перрон, на стены вестибюля, испещренные следами от пуль и осколков.
– У них тут фаустники сидели, товарищ майор, – сказал он и посмотрел в темноту, словно бы мог и сейчас заметить там гитлеровских солдат. – А в туннеле – автоматчики. Мы со света, они из темноты, товарищ майор, следовательно, мы их плохо видим, они нас хорошо.
– Ты рассказывай не мне одному, а всем, – поправил майор сержанта, который смотрел ему в лицо.
– Есть!
Бажуков отступил чуть назад, чтобы видеть всех членов партбюро.
– Конечно, по этой причине были потери с нашей стороны, – закончил он свою мысль.
Я обратил внимание на то, что все сидевшие в этом вагоне участники боя за станцию сейчас слушали сержанта с острым вниманием людей, узнававших что-то необычное и очень интересное. В глазах слушавших постепенно разгорался веселый огонек возбуждения. Конечно, каждый мысленно вспоминал и заново переживал картины только что окончившегося боя.
И Бажуков стал говорить громче, быстрее, энергичнее, порой торопясь и проглатывая окончания слов.
– Сильно били немцы! Мы ползком – по-пластунски.
Да место ровное, не спрячешься. Пулемет наш с мостовой, сверху через воронку стрелял. Мы попросили артиллеристов – вкатите пушку семидесяти шести в метро. По ступенькам ее спустили, а сами за лафетом прятались. Все-таки спустили на руках.
– Понятно, – кивнул майор. – Вот она!
Как это я сразу не заметил орудие в подземном вестибюле! Правда, там было темно, а пушка стояла не на перроне, а ниже, прямо на рельсах. Удивительно, как вообще могли спустить ее в метро наши солдаты, спустить на руках, под огнем пулеметов!
– Ну, значит, из нее ахнули разок, другой. Прямо в туннель. Ох и загрохотало же там! Ровно все метро обвалилось. Потом мы бросились в атаку... – Сержант продолжал рассказывать, как он полз по шпалам с автоматом, как залез в темный туннель и там шаг за шагом, стреляя, продвигался вперед.
Я вышел из вагона, чтобы пройтись по перрону к началу туннеля. Гитлеровцы ловко и многосторонне использовали эти туннели метро. По ним они подбрасывали свежие людские пополнения в окруженные секторы, на станциях создавали сильные опорные пункты.
По туннелям немецкие части выходили из окружения, по ним же выносили раненых и доставляли боеприпасы. А когда наши воины спускались под землю, они попадали в туннели, освещенные прожектором и простреливаемые перекрестным пулеметным огнем.
За каждую станцию, за каждый туннель приходилось вести бой жестокий, упорный и кровопролитный.
Я вернулся к освещенному вагону. Сержант Бажуков, все так же потирая ладонью выпуклый лоб, отвечал на вопросы. Он рассказывал об Уставе партии.
Не знаю, записал ли в протокол майор то место, где проходило заседание. Если бы Гитлер, сидевший неподалеку в подвале имперской канцелярии, узнал, что в берлинском метро идет прием в партию коммунистов? Думается, одна мысль об этом могла бы свести его с ума!
Чувствовали ли члены партийного бюро и принимаемые в партию всю необычность, всю историческую неповторимость этих минут и этого заседания?
Наверняка чувствовали, но не говорили об этом, а лишь внимательно слушали сержанта и полушепотом переговаривались между собой о всяких насущных боевых делах.
...Заседание партийного бюро части на станций берлинского метрополитена продолжалось...
Последние дни
Штаб корпуса генерала Ш. располагался на улице Лагенштрассе, вблизи реки Шпрее. За углом Андреасплац, неподалеку – Силезский вокзал. Это центральный район Берлина, отсюда уже виден шатрообразный массивный купол рейхстага, с пробоинами от снарядов на железных листах крыши.
Кажется, что этот купол тяжел, очень тяжел. Купол давит на высокие, толстые колонны, они изрешечены пулями, осколками мин и снарядов, но чудится издали, что это сам купол своей громадой подкашивает ноги колонн, готовых рухнуть наземь.
Вход в штаб корпуса прямо с улицы в окно полуподвального этажа, где висит на одном гвозде вывеска "Эльза Тоска – колониальные товары" и уже проложена ковровая дорожка, чтобы входящие в окно не поцарапали сапоги об осколки битого стекла.
Мы внесли в маленькую уцелевшую комнатушку нашу аппаратуру и установили микрофон на трехногом, наполовину обгорелом столике. За столик сел генерал-майор, командир корпуса. Казалось, что, если генерал вдруг резко подымется, он выбьет плечами низкий потолок.
Генерал высок, у него богатырская фигура, большие, с узлами вен руки.
Еще до того, как генерал вошел в комнату, его адъютант рассказывал мне, что однажды в доме, который занимал штаб корпуса, разорвалась бомба. Рухнул пол, и куда-то вниз, окутанные дымом и гарью, провалились все находившиеся в комнатах. Первым поднялся генерал, не торопясь и спокойно.
Адъютант так и сказал: "Поднимается и балки с плеч отряхивает!"
По словам адъютанта, в своем корпусе, где насчитывалось немало Героев Советского Союза, генерал отличался особой храбростью и большим самообладанием в бою.
Когда генерал вошел в эту маленькую и, казалось нам, самую тихую комнату, предназначенную для записи, он с любопытством взглянул на микрофон. Я попросил командира корпуса рассказать сначала коротко о положении в городе и на переднем крае сражения.
– Это для записи?
– Пока нет, просто нам для ориентировки.
– Ну, это легче, а то ведь я не редактор. Могу и грубовато выразиться, по-солдатски. А события последних дней очень радостные, – сказал генерал. Вчера мы по радио новость поймали: Гиммлер обратился к союзному командованию с предложением капитуляции Германии перед США, Англией, но не перед СССР. Каков мерзавец! Вот-вот сдохнут они все, а все же пытаются, чертовы фашисты, поссорить союзников, вбить клин между нами. Но ничего не выйдет. Эта капитуляция отклонена.