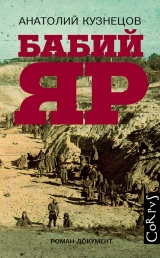
Текст книги "Бабий яр"
Автор книги: Анатолий Кузнецов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но был еще один, самый зловещий аспект Крещатика: обозлить немцев для того, чтобы, озверев, они сняли чистые перчатки в обращении с народом. Госбезопасность СССР провоцировала немцев на беспощадность. Благо, в беспощадности они были хорошими учениками.
И немцы на это клюнули. Свой ответ на Крещатик они обнародовали тоже спустя пять дней, а именно – 29 сентября 1941 года.]
Нет, они официально в связи с Крещатиком ничего не объявили и никого не казнили публично. [Но они стали мрачны и злы, начисто исчезли улыбки. На них, закопченных и озабоченных, жутковато было смотреть, и похоже, они к чему-то готовились.]
ПРИКАЗ
Утром 28 сентября к нам вдруг явился Иван Свинченко из села Литвиновки. Он шел домой из окружения.
Это был добрый, простодушный и малограмотный крестьянин, великий труженик и отец большой семьи. До войны, приезжая из деревни в город на базар, он ночевал у деда с бабкой. Никогда не забывал для меня какой-нибудь немудрящий деревенский гостинец, только я его дичился, может, потому, что у него был дефект речи: иногда в разговоре он захлебывался, и тогда слышалось одно невнятное бормотание «бала-бала». Очень странный дефект.
Как все окрестные колхозники, он и раньше вечно был в каком-то тряпье, грязен. Но сейчас он явился такой уж оборванный, такой страшный, что его трудно было узнать. Где-то он сменял свою военную форму на это тряпье.
Вот что с ним произошло.
Вместе со своей частью Иван Свинченко защищал Киев, потом пришел приказ отступать, и они перешли через Днепр на левый его берег, в Дарницу. Там они долго и бессмысленно кружили по лесам и проселкам, их бомбили, косили пулеметами с воздуха, никто из командиров понятия не имел, что делать. Потом командиры вообще куда-то исчезли, и все стали кричать, что надо идти по домам. У всех было ощущение, что войне конец.
Но в глухом лесу наткнулись на партизан. Ими руководили энкаведисты, и партизаны были хорошо экипированы, с возами, продовольствием, имели много оружия, они пугали немцами и звали к себе. Иван эмкаведистов ненавидел, и он затосковал.
– То я подождав, бала-бала, ночи – и утик! – объяснил он.
Несколько дней он шел полями и лесами, и повсюду брели такие же, не хотевшие воевать. А за что, спрашивается – за колхозы, за колымские лагеря, за нищету? А вокруг была родная Украина, и совсем, недалеко где-то – хата, жена и дети. Украинцы шли по домам, русские, чьи дома были у Советов, брели сами не зная куда, или искали немцев, чтобы сдаться в плен.
Иван наткнулся на колонну, сотни в две, таких сдавшихся. Их вели всего двое немцев, да и то, повесив на плечо явно ненужные винтовки. Ивана присоединили. Мужики приняли Ивана с хохотом и свистом, они были рады, что отвоевались и идут отдыхать в плен. Но этот чудак Иван не хотел отдыхать, а все думал о семье.
– То я пройшов трошки, бала-бала, сховався в яму – и утик!
Бабка кормила оголодавшего Ивана, сердобольно ахала. Дед по какому-то делу пошел было на улицу, но почти тотчас затопотал ногами по крыльцу и ввалился в комнату:
– Поздравляю вас! Ну!.. Завтра в Киеве ни одного жида больше не будет. Видно, правду говорят, что это они Крещатик сожгли. Слава тебе. Господи! Хватит, разжирели на нашей крови, заразы. Пусть теперь едут в свою Палестину, хоть немцы с ними справятся. Вывозят их! Приказ висит.
Мы стремглав побежали все на улицу. На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи:
Все жиды города Киева и его окрестностей
должны явиться в понедельник 29 сентября 1941
года к 8 часам утра на угол Мельниковской и
Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой
документы, деньги, ценные вещи, а также теплую
одежду, белье и проч.
Кто из жидов не выполнит этого распоряжения
и будет найден в другом месте, будет расстрелян.
Кто из граждан проникнет в оставленные жидами
квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.*
*) Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва. Фонд 7021, опись 65, единица хранения 5.
Ниже следовал этот же текст на украинском языке, еще ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трехэтажная.
Я перечитал ее два раза, и почему-то холодок прошел по коже. Уж очень жестоко, с какой-то холодной ненавистью написано. Да еще день был холодный, ветренный, на улице пустынно. Я не пошел в дом, а взволнованный, сам не зная почему, побрел к базару.
Через три двора от нас – большой двор коллективного огородного хозяйства. Там одна к одной лепились мазанки, сарайчики, коровники, и там жило и работало много евреев, убогие, темные, такие уж жалкие... Я заглянул – у них во дворе стояла тихая паника, они метались из халупки в халупку, таскали вещи.
Афишки висели и в других местах. Я останавливался, перечитывал, все равно чего-то не понимая.
Во-первых, если евреев решили вывезти, действительно, в отместку за Крешатик, то при чем здесь все? Может, взрывали какие-нибудь десять человек, а остальные за что должны, страдать? Правда, понять можно: немцы не могут выявить поджигателей, и тогда они решили просто вывезти всех. Жестоко, но верно?
Во-вторых, улиц Мельниковской и Дохтуровской в Киеве нет, но есть улицы Мельникова и Дегтяревская, – приказ явно сочиняли сами немцы и с плохими переводчиками. Эти улицы действительно возле русского и еврейского кладбищ на Лукьяновке, а поблизости – товарная станция Лукьяновка. Значит, их повезут? Но куда? Неужели в Палестину, как предполагает дед?
Но опять это жестоко: выгонять силой тысячи людей из родных мест, везти туда, где у них ни кола, ни двора, а сколько их заболеет и умрет в дороге! И все из-за того, что несколько из них оказались поджигателями?
Это значит, что и Шурка Маца поедет? Но его мать – русская, и она с отцом разошлась, и Шурка давно не знает своего отца, как и я. Значит, Шурку повезут одного? Мать останется, а он поедет? Мне стало жалко его, жалко навсегда с ним расставаться.
И вдруг – неожиданно для самого себя, прямо как-то стихийно – я подумал словами деда, даже с его интонацией и злобой: «А! Ну и что? Вот пусть и едут в свою Палестину. Хватит, разжирели! Здесь Украина, а они, видите ли, расплодились, расселись, как клопы. И Шурка Маца – тоже жид пархатый, хитрый, вредный, сколько книг у меня зажилил! Пусть уезжают, без них будет лучше, дед мой умный, дед прав».
Так размышляя, я дошел до Куреневского отделения милиции, где когда-то служил мой батя. Теперь здесь была полиция. В окне они выставили портрет Гитлера. Гитлер смотрел строго, почти зловеще, он был в разукрашенном картузе. И картуз этот был надвинут на самые глаза.
Конечно, я не мог пропустить такое невероятное зрелище, как вывоз евреев из Киева. Дождавшись рассвета, я выскочил на улицу.
Они выходили еще затемно, чтобы оказаться пораньше у поезда и занять места. С ревущими детьми, со стариками и больными, плача и переругиваясь, выползло на улицу еврейское население огородного колхоза. Перехваченные веревками узлы, ободранные фанерные чемоданы, заплатанные кошелки, ящички с плотницкими инструментами... Старухи несли, перекинув через шею, как гигантские ожерелья, венки луку – запас провизии на дорогу...
Понимаете, когда всё нормально, всевозможные калеки, больные, старики сидят дома, и их не видно. Но здесь должны были выйти все – и они вышли.
Меня потрясло, как много на свете больных и несчастных людей.
Кроме того, еще одно обстоятельство. Здоровых мужчин мобилизовали в армию, остались одни инвалиды. Кто мог эвакуироваться, у кого были деньги, кто мог уехать с предприятием или используя блат, те уезжали.
[Один куреневский продавец по фамилии Клоцман сумел уехать вместе с семьей, уже когда Киев был окружен. Не знаю, правда ли, но говорят он заплатил баснословные деньги каким-то летчикам, и те погрузили его с вещами в самолет. (И после войны он явился на Куреневку живой и здоровый).]
А осталась в городе самая настоящая шолом-алейхемовская беднота, и вот она выползла на улицы.
«Да зачем же это? – подумал я, сразу начисто забыв свой вчерашний антисемитизм. – Нет, это жестоко, несправедливо, и очень жалко Шурку Мацу; зачем это вдруг его выгоняют, как собаку?! Пусть он книжки зажиливал, так это потому, что он забывчивый, а я сам – сколько раз его несправедливо лупил?»
В судорожном возбуждении я шнырял от кучки к кучке, прислушивался к разговорам, и чем ближе к Подолу, тем больше людей становилось на улицах. В воротах и подъездах стояли жители, смотрели, вздыхали, посмеивались или кричали евреям ругательства. Одна злобная старуха в грязном платке вдруг выбежала на мостовую, вырвала у старухи-еврейки чемодан и побежала во двор. Еврейка закричала, но в воротах ей заступили дорогу здоровенные усатые мужики. Она рыдала, проклинала, жаловалась, но никто за нее не заступился, и толпа шла мимо, наклоняя головы. Я заглянул в щелку и увидел, что во дворе лежит уже целая куча отнятых вещей.
Краем уха услышал разговоры, что где-то тут извозчик, специально нанятый, вез багаж нескольких семей. Он хлестнул коня и погнал в переулок – и его не догнали.
По Глубочице поднималась на Лукьяновку сплошная толпа, море голов, шел еврейский Подол. О, этот Подол!.. [Этот самый вопиющий район Киева можно было узнать по одному тяжкому воздуху – смеси гнили, дешевого жира и сохнущего белья. Здесь испокон веков жила еврейская нищета, голь перекатная: сапожники, портные, угольщики, жестянщики, грузчики, шорники, спекулянты, воры... Дворы без зелени, зловонные мусорные ямы, покосившиеся сараи, полные огромных жирных крыс, уборные с выгребами и роями мух, пыльные и грязные улички, разваливающиеся дома и сырые подвалы – таким был этот галдящий, плодючий и разнесчастный Подол.]
От шума и галдения у меня голова лопалась. Сплошь разговоры: куда повезут, как повезут?
В одной кучке только и слышалось: «Гетто, гетто!» Подошла взволнованная немолодая женщина, вмешалась: «Люди добрые, это смерть!» Старухи заплакали, как запели. Разнесся слух, что где-то тут прошли караимы (я первый раз слышал это слово, оказывается, это такая маленькая семитская народность) – древние старики шли в хламидах до пят, они всю ночь провели в своей караимской синагоге, вышли и проповедовали: «Дети, мы идем на смерть, приготовьтесь. Примем ее мужественно, как принимал Христос».
Кто-то возмущался: как можно так сеять панику! Но уже было известно, что какая-то женщина отравила своих детей и отравилась сама, чтобы не идти. У Оперного театра из окна выбросилась девушка, лежит, накрытая простыней, и никто ее не убирает.
Вдруг все заволновались, заговорили, что впереди, на улице Мельникова, стоит оцепление, туда впускают, а обратно нет.
Тут я испугался. Я устал, у меня гудела голова от всего этого, и я испугался, что не выберусь обратно и меня увезут. Стал проталкиваться против толпы, выбрался, потом долго шел по опустевшим улицам – по ним почти бегом спешили редкие опоздавшие, из ворот им свистели и улюлюкали вдогонку.
Придя домой, увидел деда. Он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе, поднял палец.
– А ты знаешь, – сказал он потрясенно, – ведь их не вывозят. Их стреляют.
И тут до меня дошло.
Из Бабьего Яра неслись отчетливые, размеренные выстрелы из пулемета: та-та-та, та-та...
Тихая, спокойная, размеренная стрельба, как на учениях. Наш Бабий Яр лежит между Куреневкой и Лукьяновкой, чтобы попасть на кладбища, стоит только перейти его. Их, оказывается, гнали оттуда, с Лукьяновки, в этот наш овраг.
Дед выглядел озадаченным и испуганным.
– Может, это стрельбище? – предположил я.
– Какое стрельбище! – жалобно закричал дед. – Вся Куреневка уже говорит, на деревья лазили – видели. Виктор Македон прибежал – жену-еврейку провожал, едва спасся, Матерь Божья, Царица Небесная, что же это, да зачем же это их?
Мы пошли в дом, но сидеть там было невозможно. Стрельба, стрельба.
Дед пошел к Македону узнавать, там сидело много народу, и этот парень (он женился перед самой войной) рассказывал, что там смотрят паспорта и бросают их в костер, а он закричал: «Я русский!», тогда от него жену оторвали и повели в Яр, а его полицейский выгнал...
На дворе было холодно, все так же дул пронзительный ветер, как и вчера.
Я все выбегал, прислушивался. Бабка вынесла мне пальто и шапку, слушала сама, заламывала руки, бормоча: «Боже, и бабы там, и деточки маленькие...» Мне показалось, что она плачет. Обернулся – она крестилась, стоя лицом к Бабьему Яру:
– Оченаш, жои си... на небеси
На ночь стрельба прекратилась, но утром поднялась снова. По Куреневке говорили, что за первый день расстреляно тридцать тысяч человек, остальные сидят и ждут очереди.
Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор огородного хозяйства прибежал четырнадцатилетний мальчик, сын конюха колхоза, рассказывает ужасы: что там всех раздевают, ставят над рвами по нескольку человек в затылок, чтобы одной пулей убивать многих; положат штабель убитых, присыпают, потом снова кладут, а много недобитых, так что земля шевелится, и некоторые выползают, их бьют по голове и, снова запихивают в землю. А его не заметили, он выполз и прибежал.
– Его надо спрятать! – сказала мама. – В окоп.
– Сынок, – воскликнула бабка, – беги скоренько, покличь его, накормим да сховаем.
Я поспешил в огородное хозяйство.
Но было уже поздно. У ворот стояла телега, запряженная понурым коньком, на ней сидел немецкий солдат с кнутом. Другой солдат, с ружьем под мышкой, вел из ворот бледного мальчишку. Собственно, он даже не вел, а они как-то вышли рядом.
Они подошли к телеге, сели на нее с двух сторон, и солдат даже сдвинул сено, чтобы мальчишке было удобнее. Он положил ружье в сено, а мальчишка лег боком, опершись на локоть. Его большие карие глаза спокойно и безразлично скользнули по мне.
Солдат взмахнул кнутом, чмокнул, и телега тронулась – так просто и буднично, словно они поехали на луг косить сено.
Бабы во дворе громко спорили, я подошел и послушал. Одни возмущались, другие возражали:
– Она правильно сделала. Всех их подушить. Это им за Крещатик!
В колхозе жила одинокая женщина-русская, работала скотницей. Мальчишка из Яра прибежал в свою квартиру. Она его увидела, разохалась, выслушала его повесть, поставила на стол кувшин с молоком, велела сидеть тихо, не выходить, чтобы никто не увидел, затем пошла в полицию – и заявила. Да еще, вернувшись, постерегла, пока не приехала подвода с немцами.
Из самого оврага Бабий Яр в те дни спаслась женщина, мать двоих детей, актриса Киевского театра кукол Дина Мироновна Проничева. Это – единственный свидетель, вышедший оттуда. Привожу ее рассказ, записанный лично мною с ее слов, не добавляя ничего.
БАБИЙ ЯР
Она ходила читать приказ, быстро прочла и ушла: у листков с приказом вообще никто долго не задерживался и разговоров не возникало.
Весь день и вечер шли обсуждения и предположения. У нее были отец и мать, дряхлые уже, мать перед приходом немцев вышла из больницы после операции, вот все думали: как же ей ехать? Старики были уверены, что на Лукьяновке всех посадят в поезд и повезут на советскую территорию.
Муж Дины был русским, фамилия ее русская, кроме того, и внешность совсем не еврейская. Дина была скорее похожа на украинку и знала украинский язык. Спорили, гадали, думали и решили, что старики поедут, а Дина их проводит, посадит в поезд, сама же останется с детьми – и будь, что будет.
Отец был стекольщиком, они с матерью жили на Тургеневской, дом 27. Дина с детьми – на Воровского, дом 41.
Она пошла домой поздно, пыталась заснуть, но так и не спала в ту ночь. По двору все время бегали, топотали: ловили одну девушку из этого дома. Эта девушка спасалась на чердаке, потом пыталась спуститься по пожарной лестнице, мужские голоса кричали: »Вон она!»
Дело в том, что перед приходом немцев эта девушка говорила:
– Они ни за что не войдут в Киев, а если войдут, я оболью дом керосином и подожгу.
Так вот теперь жена дворника вспомнила это и, боясь, как бы она в самом деле не подожгла, заявила немцам, и как раз в эту ночь ее ловили.
Это была муторная, напряженная, жуткая ночь. Дину всю трясло. Она так и не поняла, схватили ту девушку, или нет.
Когда стало светать, она умылась, причесалась, взяла документы и пошла к старикам на Тургеневскую – это рядом. На улицах было необычно много народу; все куда-то деловито спешили с вещами.
У родителей она была в седьмом часу утра. Весь дом не спал. Уезжающие прощались с соседями, обещали писать, поручали им квартиры, вещи, ключи.
Старики много нести не могли, ценностей у них не было, просто взяли необходимое и еду. Дина надела на спину рюкзак, и в восьмом часу утра они вышли.
По Тургеневской шло много людей, но на улице Артема уже было сплошное столпотворение. Люди с узлами, с колясками, разные двуколки, подводы, изредка даже грузовики – все это стояло, потом подвигалось немного, снова стояло.
Был сильный говор, гул толпы, и было похоже на демонстрацию, когда улицы так же запружены народом, но не было флагов, оркестров и торжества.
Странно с этими грузовиками: откуда их добывали? Было, что целый дом складывался и нанимал под вещи транспорт, и так уж они все держались по бокам своей подводы или грузовика. Среди узлов и чемоданов лежали больные, гроздьями сидели детишки. Грудных детей иногда везли по двое, по трое в одной коляске.
Очень много было провожающих: соседи, друзья, родственники, украинцы и русские, помогали нести вещи, вели больных, а то и несли их на закорках.
Все это шествие двигалось очень медленно, а улица Артема очень длинная. У одних ворот стояли немецкие солдаты, смотрели, особенно на девушек. Видимо, Дина им понравилась, они стали звать ее во двор, показывая, что, мол, нужно вымыть полы:
– Ком вашен!
Она отмахнулась. Очень, очень долго, до одури долго длилось это гудящее шествие, эта «демонстрация» с толкотней, разговорами и детским плачем. Дина была в меховой шубке, ей стало жарко.
Лишь где-то после обеда дошли до кладбищ. Она помнит, что направо была длинная кирпичная стена еврейского кладбища с воротами.
Здесь поперек улицы было проволочное заграждение, стояли противотанковые ежи – с проходом посредине, и стояли цепи немцев с бляхами на груди, а также украинские полицаи в черной форме с серыми обшлагами.
Очень рослый деятельный дядька в украинской вышитой сорочке, с казацкими висящими усами, очень приметный, распоряжался при входе. Толпа валила в проход мимо него, но обратно никто не выходил, только изредка с криками проезжали порожняком извозчики: они уже где-то там сгрузили вещи и теперь перли против толпы, орали, размахивали кнутами, это создавало толкучку и ругань.
Все было очень непонятно. Дина посадила стариков у ворот кладбища, а сама пошла посмотреть, что делается впереди.
Как и многие другие, она до сих пор думала, что там стоит поезд. Слышалась какая-то близкая стрельба, в небе низко кружил самолет, и вообще вокруг было тревожно-паническое настроение.
В толпе обрывки разговоров:
– Это война, война! Нас вывозят подальше, где спокойнее.
– А почему только евреев?
Какая-то бабушка весьма авторитетным голосом предполагала:
– Ну потому, что они – родственная немцам нация, их решили вывезти в первую очередь.
Дина с трудом проталкивалась в толпе, все больше беспокоясь, и тут увидела, что впереди все складывают вещи. Разные носильные вещи, узлы и чемоданы в кучу налево, все продукты – направо.
А немцы направляют всех дальше по частям: отправят группу, ждут, потом через какой-то интервал опять пропускают, считают, считают... стоп. Как бывает, в магазин за ситцем пропускают очередь десятками.
Опять разговоры в шуме и гаме:
– Ага, вещи идут, конечно, багажом: там разберемся на месте.
– Какое там разберемся, такая пропасть вещей, их просто поровну между всеми поделят, вот вам и не будет богатых и бедных.
Дине стало жутко. Ничего похожего на вокзал железной дороги. Она еще не знала, что это, но всей душой почувствовала, что это не вывоз. Все что угодно, только не вывоз.
Особенно странными были эти близкие пулеметные очереди. Она все еще не могла и мысли допустить, что это расстрел. Во-первых, такие огромные массы людей! Так не бывает. И потом – зачем?!
Можно уверенно предположить, что большинство чувствовало то же, что и Дина, чувствовало неладное, но продолжало цепляться за это «нас вывозят» вот еще по каким причинам.
[Когда вышел приказ, девять евреев из десяти слыхом не слыхали о каких-то фашистских зверствах над евреями.
До самой войны советские газеты лишь расхваливали да превозносили Гитлера – лучшего друга Советского Союза и ничего не сообщали о положении евреев в Германии и Польше. Среди киевских евреев можно было найти даже восторженных поклонников Гитлера как талантливого государственного деятеля.
С другой стороны,] старики рассказывали, как немцы были на Украине в 1918 году, и тогда они евреев не трогали, наоборот, весьма неплохо относились к ним, потому что – похожий язык и все такое...
Старики говорили:
– Немцы есть разные, но в общем это культурные и порядочные люди, это вам не дикая Россия, это Европа – и европейская порядочность.
Или такой – уже совсем свежий – факт. Два дня назад какие-то люди на улице Воровского захватили квартиру эвакуированной еврейской семьи. Оставшиеся в доме родственники пошли в штаб ближайшей немецкой части и пожаловались. Тут же явился офицер, строго приказал освободить квартиру и любезно поклонился евреям: «Пожалуйста, всё в порядке». Это было буквально позавчера, и все это видели, и об этом сразу разнеслись слухи. А ведь немцы очень последовательны и логичны, уж чем-чем, а последовательностью они отличались всегда.
Но если это не вывоз, то что же тут делается?
Дина говорит, что в этот момент она чувствовала только какой-то животный ужас и туман – состояние, ни с чем не сравнимое.
С людей снимали теплые вещи. Солдат подошел к Дине, быстро и без слов ловко снял с нее шубку.
Тут она кинулась назад. Отыскала стариков у ворот, рассказала, что видела. Отец сказал:
– Доченька, ты нам уже не нужна. Уходи. Она пошла к заграждению. Тут довольно много людей добивались, чтобы их выпустили назад. Толпа валом валила навстречу. Усач в вышитой сорочке все так же кричал, распоряжался. Все называли его «пан Шевченко». Может, это была его подлинная фамилия, может, кто-то назвал его так за усы, но звучало это довольно дико, как «пан Пушкин», «пан Достоевский». Дина протолкалась к нему и стала объяснять, что вот провожала, что у нее остались в городе дети, она просит, чтобы ее выпустили.
Он потребовал паспорт. Она достала. Он посмотрел графу «национальность» и воскликнул:
– Э, жидивка! Назад!
Тут Дина окончательно поняла: это расстреливают.
Судорожно она стала рвать паспорт на мелкие кусочки. Она бросала их под ноги, налево, направо. Пошла обратно к старикам, но ничего им не сказала, чтобы не волновать преждевременно.
Хотя она была уже без шубки, ей стало очень душно. Вокруг было много народу, плотная толпа, испарения; ревут потерявшиеся дети; некоторые, сидя на узлах, обедают. Она еще подумала: «Как они могут есть? Неужели до сих пор не понимают?»
Тут стали командовать, кричать, подняли всех сидевших, подвинули дальше, и задние напирали – получалась какая-то немыслимая очередь. Сюда кладут одни вещи, туда – другие вещи, толкаются, выстраиваются. В этом хаосе Дина потеряла своих стариков, высматривала, увидела, что их отправляют в группе дальше, а перед Диной очередь остановилась.
Стояли. Ждали. Она вытягивала шею, чтобы понять, куда повели отца и мать. Вдруг подошел огромнейший немец и предложил:
– Иди со мной спать, а я тебя выпущу.
Она посмотрела на него, как на ненормального, он отошел. Наконец, стали пропускать ее группу.
Говор затих, все умолкли, словно оцепенели, и довольно долго молча шли, а по сторонам стояли шеренгами фашисты. Впереди показались цепи солдат с собаками на поводках. Позади себя Дина услышала:
– Дети мои, помогите пройти, я слепой. Она обхватила старика за пояс и пошла вместе с ним.
– Дедушка, куда нас ведут? – спросила она.
– Детка, – сказал он, – мы идем отдать Богу последний долг.
В этот момент они вступили в длинный проход между двумя шеренгами солдат и собак. Этот коридор был узкий, метра полтора. Солдаты стояли плечом к плечу, у них были закатаны рукава, и у всех имелись резиновые дубинки или большие палки.
И на проходящих людей посыпались удары.
Спрятаться или уклониться было невозможно. Жесточайшие удары, сразу разбивающие в кровь, сыпались на головы, на спины и плечи слева и справа. Солдаты кричали «Шнель! Шнель!» и весело хохотали, словно развлекались аттракционом, они исхитрялись как-нибудь покрепче ударить в уязвимые места, под ребра, в живот, в пах.
Все закричали, женщины завизжали. Словно кадр в кино, перед Диной промелькнуло: знакомый парень с ее улицы, очень интеллигентный, хорошо одетый, рыдает.
Она увидела, что люди падают. На них тотчас спускали собак. Человек с криком подхватывался, но кое-кто оставался на земле, а сзади напирали, и толпа шла прямо по телам, растаптывая их.
У Дины в голове от всего этого сделался какой-то мрак. Она выпрямилась, высоко подняла голову и шла, как деревянная, не сгибаясь. Ее, кажется, искалечили, но она плохо чувствовала и соображала, у нее стучало только одно: «Не упасть, не упасть».
Обезумевшие люди вываливались на оцепленное войсками пространство – этакую площадь, поросшую травой. Вся трава была усыпана бельем, обувью, одеждой.
Украинские полицаи, судя по акценту – не местные, а явно с запада Украины, грубо хватали людей, лупили, кричали:
– Роздягаться! Швидко! Быстро! Шнель!
Кто мешкал, с того сдирали одежду силой, били ногами, кастетами, дубинками, опьяненные злобой, в каком-то садистском раже.
Ясно, это делалось для того, чтобы толпа не могла опомниться. Многие голые люди были все в крови.
Со стороны группы голых и куда-то уводимых Дина услышала, как мать кричит ей, машет рукой:
– Доченька, ты не похожа! Спасайся!
Их угнали. Дина решительно подошла к полицаю и спросила, где комендант. Сказала, что она провожающая, попала случайно.
Он потребовал документы. Она стала доставать из сумочки, но он сам взял сумочку, пересмотрел ее всю. Там были деньги, трудовая книжка, профсоюзный билет, где национальность не указывается. Фамилия «Проничева» полицая убеждала. Сумочку он не вернул, но указал на бугорок, где сидела кучка людей:
– Сидай отут. Жидив перестреляем – тоди выпустым.
Дина подошла к бугорку и села. Все тут молчали, ошалелые. Она боялась поднять лицо: а вдруг кто-нибудь ее здесь узнает, случайно совершенно, и закричит: «Она – жидовка!» Чтобы спастись, эти люди ни перед чем не остановятся. Поэтому она старалась ни на кого не смотреть, и на нее не смотрели. Только сидевшая рядом бабушка в пушистом вязаном платке тихо пожаловалась Дине, что провожала невестку и вот попала... А сама она украинка, никакая не еврейка, и кто бы мог подумать, что выйдет такое с этим провожанием.
Здесь все были провожающие.
Так они сидели, и прямо перед ними, как на сцене, происходил этот кошмар: из коридора партия за партией вываливались визжащие, избитые люди, их принимали полицаи, лупили, раздевали – и так без конца.
Дина уверяет, что некоторые истерически хохотали, что она своими глазами видела, как несколько человек за то время, что раздевались и шли на расстрел, на глазах становились седыми.
Голых людей строили небольшими цепочками и вели в прорезь, наспех прокопанную в обрывистой песчаной стене. Что за ней – не было видно, но оттуда неслась стрельба, и возвращались оттуда только немцы и полицаи, за новыми цепочками.
Матери особенно копошились над детьми, поэтому время от времени какой-нибудь немец или полицай, рассердясь, выхватывал у матери ребенка, подходил к песчаной стене и, размахнувшись, швырял его через гребень, как полено.
Дину словно обручами схватило, она долго-долго сидела, втянув голову в плечи, боясь взглянуть на соседей, потому что их все прибывало. Она уже не воспринимала ни криков, ни стрельбы.
Стало темнеть.
Вдруг подъехала открытая машина, и в ней – высокий, стройный, очень элегантный офицер со стеком в руке. Было похоже, что он здесь главный. Рядом с ним был русский переводчик.
– Кто такие? – спросил офицер через переводчика у полицая, указывая на бугорок, где сидело уже человек пятьдесят.
– Цэ наши люды, – ответил полицай. – Нэ зналы, треба их выпустыть. Офицер как закричит:
– Немедленно расстрелять! Если хоть один отсюда выйдет и расскажет по городу, завтра ни один жид не придет.
Переводчик добросовестно перевел это полицаю, а люди на бугорке сидели и слушали.
– А ну, пишлы! Ходимо! Поднимайсь! – закричали полицаи.
Люди, как пьяные, поднялись. Время было уже позднее, может, потому эту партию не стали раздевать, а так и повели одетыми в прорезь.
Дина шла примерно во втором десятке. Миновали коридор прокопа, и открылся песчаный карьер с почти отвесными стенами. Было уже полутемно. Дина плохо разглядела этот карьер. Всех гуськом, быстро, торопя, послали влево – по очень узкому выступу.
Слева была стена, справа яма, а выступ, очевидно, был вырезан специально для расстрела, и был он такой узкий, что, идя по нему, люди инстинктивно жались к песчаной стенке, чтобы не свалиться.
Дина глянула вниз, и у нее закружилась голова – так ей показалось высоко. Внизу было море окровавленных тел. На противоположной стороне карьера она успела разглядеть установленные ручные пулеметы, и там было несколько немецких солдат. Они жгли костер, на котором варили, похоже, кофе.
Когда всю цепочку загнали на выступ, один из немцев отделился от костра, взялся за пулемет и начал стрелять.
Дина не столько увидела, сколько почувствовала, как с выступа повалились тела и как трасса пуль приближается к ней. У нее мелькнуло: «Сейчас я... Сейчас!» Не дожидаясь, она бросилась вниз, сжав кулаки.
Ей показалось, что она летела целую вечность, вероятно, было действительно высоко. При падении она не почувствовала ни удара, ни боли. Сначала ее обдало теплой кровью, и по лицу потекла кровь, так, словно она упала в ванну с кровью. Она лежала, раскинув руки, закрыв глаза.
Слышала какие-то утробные звуки, стоны, икоту, плач вокруг и из-под себя: было много недобитых. Вся эта масса тел чуть заметно пошевеливалась, оседая, уплотняясь от движения заваленных живых.
Солдаты вошли на выступ и стали присвечивать вниз фонариками, постреливая из пистолетов в тех, кто казался им живым. Но недалеко от Дины кто-то по-прежнему сильно стонал.
Она услышала, как ходят рядом, уже по трупам. Это немцы спустились, нагибались, что-то снимали с убитых, время от времени стреляя в шевелящихся.








