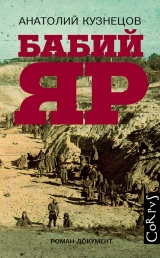
Текст книги "Бабий яр"
Автор книги: Анатолий Кузнецов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Поскольку мать моя, учительница, работала в школе по две смены да еще оставалась после уроков, я полностью вырос при бабке. Она меня будила, умывала, кормила, лупила, забавляла украинскими «казочками», и все она топала, варила, мешала, толкла, делала пойло поросенку, гоняла кота, гнулась на грядках, колола дрова, и у нее постоянно болела поясница, так что она время от времени ложилась, тихо стонала, потом поднималась и опять бралась за работу.
Она была мягкая, рыхлая, с грубым деревенским лицом, всегда в сером ветхом платке или косынке в горошек.
Как и деда, ее не восхищали ни самолеты, ни дирижабли, которые тогда летали, наоборот, они ее пугали. Укладывая меня на печи спать, она рассказывала:
– Так, когда я маленькой была, забьемся мы на печку, один к одному лепимся, голенькие, босенькие, голоднючие, как черва, а бабуся наша покойная пугает: вы сидите тихо, это еще хорошо, а придет время, страшное время, когда по земле пойдет враг, и всю землю опутают проволоками, а в небе будут летать железные птицы и клювами своими железными будут клевать людей, и то уже будет перед концом света...
А мы стучим зубенятами от страха и молимся: не приведи, Господи, дожить до того... Не внял Господь, дожили мы. Все так вышло, как предсказывала бабуся: и проволоки, и птицы железные, и скоро, видно, конец света...
Вероятно, в ожидании его бабка совершенно не заботилась о материальном «добре», а очень много раздавала ради спасения души. Может, мы и жили бы чуточку лучше, но бабка могла сама не съесть, а другому отдать. Несла она копейки на церковь, нищим, то вдруг готовила какие-то передачи в больницы, знакомым, соседям.
Дед выходил из себя, вопил: «Злыдни! Кого ты кормишь, мы сами голодные». Но бабка только рукой махала. Пряталась от него, и «злыдни» прятались по всем углам, когда дед с работы являлся. Чтобы не ругаться и не впадать в грех, бабка становилась на колени и молилась.
У нее было много икон. Целый иконостас в углу комнаты, с таинственно теплящейся лампадкой, щепотками ладана, пучками трав, двумя деревянными крестиками – для деда и для нее, чтобы вложить в руки в гробу, – и книжечками-«граматками», куда я под ее диктовку вписывал многочисленные имена родственников «во здравие» и «за упокой».
В центре находилась строгая, измученная, с фанатическим взглядом Богоматерь. Даже младенец у нее походил на маленького сердитого старичка, который говорит: «Нельзя, нельзя!» У них были такие выразительные взгляды, что если долго смотреть – морозшел по коже. Икона была в футляре под стеклом, с богатым позолоченным окладом: какие-то невиданные цветы с пупырышками, гроздья металлических ягод... И мне ужасно хотелось потрогать эти ягоды, но под стеклом они были недосягаемы. Когда бабка уходила на базар, я подставлял табуретку и готов был часами разглядывать эти ягоды, мечтая, что когда бабка умрет, я-то уж до них доберусь.
Был там ласковый Николай-Угодник с белокурой бородкой, храбрый Георгий-Победоносец, а сбоку стояла еще одна Богоматерь – с золотистыми волосами и нежным, до удивления знакомым лицом. Она улыбалась, и мальчишка у нее на коленях был пухленький, очень довольный жизнью, с ямочками на голом тельце.
И хотя она была без украшений, я в эту икону был по-настоящему влюблен. У нас на Куреневке много таких девушек – белокурых, мягких и нежных. Они идут за первых красавиц; выйдя замуж, рожают вот таких пухленьких детей с ямочками, но, к сожалению, быстро блекнут и старятся. Моей самой первой детской любовью был образ такой женщины с бабкиной иконы, а когда потом, после войны, я уж совсем вырос, я первым делом влюбился в живую именно такую девушку.
Отец мой был революционер и коммунист, мама – учительница. Поэтому, когда я родился, о крещении не могло быть и речи.
Но однажды, когда родители ушли на службу, бабка закутала меня в платок, отнесла в церковь Петра и Павла, и там меня бултыхнули в купель. Бабка не могла допустить, чтобы я остался без рая после смерти. Тайну эту она открыла, лишь когда мне минуло десять лет, и вспоминала, что я протестовал и хватал попа за бороду:
«Вот же вылупок, такое маленькое, а уже заодно с нынешними антихристами...»
Под руководством бабки, однако, я лет до шести был религиозным человеком. Она водила меня в церковь Петра и Павла, причащала, ставила перед иконами, брала мою руку своей коричневой, изъеденной морщинами рукой, учила креститься и произносить магические слова, которых, по-моему, сама не понимала. Потому что вот как у нее звучало и как я выучил на всю жизнь:
– Оченаш жои си на небеси. Да светится имя твое, да прииде царство твое. Я – ко на неби. Та – ко на земли. Хлеб наш насушный даж нам несь. Да не прости нам долги наши, да не избави нас от лукавого...
Бабке, видимо, не было известно, что таинственное «Оченаш» – это «Отче наш». Я же решил, что Оченашем зовут Бога, что это имя светится в темноте, что бабка просит сухарей – «хлеба насущного», и автоматически повторял за ней это «не прости нам» и «не избави».
Но вот заметил это отец, пришел в ужас и велел матери срочно вырвать меня из когтей «религии – опиума для народа». Мама, которой я очень верил, повела со мной беседы и, главное, сказала:
– Бога нет. Летчики летают в небе и никакого Бога не видели.
Это меня потрясло. Я немедленно сообщил бабке этот убийственный довод. Она огорчилась и возразила, что таким безбожникам, как летчики, Бога видеть не дано. Я размышлял и пришел к заключению, что лучше бы Бог показался им, ну, не всем, но хотя бы самым храбрым и знаменитым на весь мир летчикам Чкалову или Байдукову, они бы спустились, рассказали всем, что Бог есть, и споры прекратились бы. Если он есть и сидит там на тучах, так почему он прячется, почему вообще позволяет летать неугодным безбожникам, какой же он всемогущий?
У нас с бабкой начались богословские споры, они ни к чему не привели, она осталась при своем мнении, я при своем, но в церковь за ней шел все неохотнее, а когда в школу пошел, так и вовсе перестал.
Спрашивал деда, но он в божественных вопросах занимал осторожную позицию. Он вспоминал, что когда в 1890 году он батрачил и его призвали в солдаты, он очень молился, чтобы не взяли, все иконы в церкви перецеловал, а все равно взяли. Опять же таки, двадцать лет молится, чтобы большевиков дьявол забрал, а они все есть. И довод с летчиками он признавал убедительным, но, когда запутывался в долгах, хотел достать комбикорм, или просто некому было пожаловаться, он подолгу стоял на коленях, бился лбом о пол, подметал его бородой – и убеждал иконы, молил их, канючил, клянчил хоть какую-нибудь удачу.
В отличие от деда, у бабки не было ни единого врага, а по всей улице были только друзья. К ней бежали с бедой, с нуждой, она всем советовала, одалживала, улаживала семейные конфликты, присматривала за грудными детьми, всех лечила травами от желудка, выгоняла глистов.
[Она видела таинственные и непонятные вещи, верила в чудеса, которых советская власть не признает. Я тоже верю в чудеса. Одно я видел.
Мне было лет десять. Бабка поздно вечером вышла во двор, тотчас вернулась и закричала: «Скорее, идите. Бог на небе!»
Мама засмеялась и принципиально не пошла, а мы с дедом побежали. На черном звездном небе светилась людская фигура, похожая на Николая-Угодника. Вернее, она как бы состояла из контуров, прочерченных едва различимыми точками-звездочками. Почему-то меня охватил такой ужас, что я кинулся в сени и спрятался за дверь. Бабка радостно звала: «Не бойся, иди скорее, перекрестись». Но я только, задыхаясь от ужаса, выглядывал из-за двери, а дед и бабка посредине двора, подняв лица, крестились на небо. Потом видение померкло, они пошли в хату, и весь вечер бабка была просветленная, неземная, а дед – задумчив, крайне озабочен.
Я не знаю до сих пор, что это было, и как объясняется.]
Бабка умела знахарствовать. Очень хорошо она снимала сглаз. Это болезнь без причин, просто потому, что кто-то на тебя посмотрел дурным глазом. В детстве я этому был сильно подвержен.
Вот мне стало нехорошо, поднялся жар, затошнило, заныли суставы... Бабка посмотрела, как я маюсь, налила в чашку святой воды из бутылки, бросила туда угольки из печи, смотрела, какие тонут, какие нет. Угольки показали, что меня сглазили карие глаза. Мы выходим под чистое небо, бабка держит руки на моей голове и что-то шепчет. Я запомнил только из этих формул: «От карих глаз сойди беда, как с гуся вода». И вдруг мне становится хорошо, спокойно, блаженство разливается по телу, болезни как не бывало.
Бабка излечивала малярию-«пропасницу», или еще, как говорят на Украине, «трясцю», излечивала экзему. Только свою поясницу вылечить не могла.
КУЗНЕЦОВА Мария Федоровна, моя мать, была единственной дочкой у деда и бабки, и вот ей-то революция дала много. Быть бы ей прислугой или прачкой, да открылись курсы, она закончила их в 1923 году, стала учительницей первых – четвертых классов, и преподавала она потом всю жизнь.
Была она очень красивой, начитанной, способной, пела и играла в самодеятельности Народного дома, и вот стал дед замечать, что к нему придирается милиция.
Участковый милиционер Вася Кузнецов все приходит да приходит: то улица плохо подметена, то домовой номер надо сменить. Короче говоря, когда Василия избрали членом Киевского горсовета, дед решил, что такой зять вполне подходит: они, горсоветчики, для себя все достанут.
Как же он ошибся!
Это была одна из крупнейших ошибок деда в жизни. Он потом до самой смерти не мог простить зятю того, что он ничего в дом не нес, и даже когда дед ходил в милицию на перерегистрацию подворной книги, ему приходилось сидеть в очереди на прием к своему зятю, как и всем прочим. Василий Кузнецов был большевик.
[И он тогда был честный большевик. Таких, как он, в 1937 году отправляли в лагеря либо на тот свет под их же ошалелые крики «Да здравствует Сталин»!]
Он был настоящий русак, курский, в 1917 году стоял у станка, когда подошел дружок: «Васька, вон записывают в Красную гвардию. Пишемся?» – «Пишемся!» – сказал Василий и пошел.
Он громил буржуев, вступил в партию в 1918 году, партизанил на Украине, стал командиром пулеметчиков и под командой Фрунзе брал Каховку, брал Перекоп и сбрасывал Врангеля в Черное море.
Он казался мне необыкновенным человеком, [и слово его было для меня свято. Однажды мама решила учить меня английскому языку. Мы сидели за столом, когда вошел отец. Посмотрел, как я заучиваю «мазе», «фазе», говорит возмущенно матери: «Это что такое? Буржуйскому языку ребенка учишь? Прекратить!» И прекратили.]
Иногда он очень здорово пел красивым баритоном, хохотал, но почему-то никогда ничего всерьез не рассказывал.
– Ну, как же вы там в Крыму босяковали? – спрашивал дед.
– А что? – смеялся отец. – В Крыму хорошо, вина много. Прогнали Врангеля и буржуев, все винзаводы – открыты. Мы к чанам. Гляжу: один уже плавает в вине по уши, как есть – с пулеметными лентами и в сапогах. Тут я с братвой поспорил на маузер, что выпью четверть портвейна.
– Три литра? – ахал дед.
– И выпил.
– Ну вот, что от них, пропойц, ждать? – плевался дед. – Пропили Россию. Ты скажи, что тебе твоя революция дала, голодранцу?
– А меня представили к ордену Красного Знамени, – хвастался отец. – Это были самые первые ордена, только ввели, Фрунзе представили и еще кое-кого. А мы в то время гор-рячие были, непримиримые. Шумим: «При царе были ордена, а теперь опять эти висюльки? Может, и погоны введете? Мы не за висюльки кровь свою проливаем». Я взял и отказался. Мне комиссар говорит: «Из партии погоним». Я в бутылку: «Пошли вы к такой матери, значит, если вы такая партия». И исключили.
– Господи! А как же ты сейчас партеец?
– А я потом обратно заявление подал. Восстановили. А орден уже не дали.
– Ох, дурак! – всплескивал руками дед. – Ты б по нему деньги получал. А так что у тебя есть, одни единственные штаны милицейские.
Отец, действительно, вышел из гражданской войны гол, как сокол. [Демобилизовав, его направили в Киев, служить в милиции. По пути в поезде он крепко выпил и сел играть в очко. Не доезжая километров сто до Киева, он проиграл все, проиграл свою командирскую форму и остался в одних кальсонах. Сердобольный дежурный на каком-то полустанке пожертвовал ему ветхое тряпье с лаптями в котором бывший командир пулеметчиков и предстал перед начальством в Киеве. Ему выдали форму, и начал Василий бороться против спекуляции и за чистоту улиц.]
Мама и бабка любили его, заботились наперебой, у них он скоро отъелся, похорошел, и наконец общими силами справили ему первый костюм, которым дед его при всяком удобном случае попрекал.
У отца было два класса приходской школы образования. Он пошел на рабфак, закончил его вечерами, бросил милицию и поступил в Политехнический институт.
Ночами он сидел над чертежами. Его надолго оторвали – послали под Умань проводить коллективизацию. Мама ездила к нему и возвращалась в ужасе. Потом он защищал диплом и взял меня на эту защиту. Когда он кончил, ему аплодировали. Он стал инженером-литейщиком.
Тут они стали срезаться с дедом всерьез. Отец гремел:
– Зарываешься, тесть, бузу мелешь, оскорбляешь революцию! Ты посмотри: твоя дочка выучилась, зять выучился, работа есть, спекуляции нет, конкуренции, обмана, а то ли еще будет.
– Ты разу-умный, – ехидничал дед. – А ты позволь мне десять коров держать и луг дай под выпас.
– Луг колхозный. Любишь коров – иди в колхоз.
– Да-да! Сам иди в свои каторжные колхозы!
К этому времени вовсю пошли и нелады отца с матерью. Там была другая причина – ревность. Мама была очень ревнивая. Я тогда ничего не понимал, ощущал только, что характеры у папы и мамы ого-го. В доме начались сплошные споры да слезы.
И вдруг я от бабки узнал, что отец с матерью уже давно съездили в суд и развелись, только расстаться никак не могут. Наконец, отец взял под мышку свои чертежи и уехал работать на Горьковский автозавод, где вскоре женился.
[Это случилось как раз в 1937 году, и я много думал потом, почему моего отца, такого непримиримого, миновала чаша та. Член партии в те времена мог избежать ее только двумя путями: либо молчать, либо доносить на других. А отец вдруг стал на ГАЗе начальником литейного цеха, получил квартиру, машину... Но это из писем. Такого отца я уже не знал.] Мама [запрещала с ним переписываться, но] продолжала любить его всю жизнь и никогда больше замуж не вышла.
Когда началась война и стало ясно, что немцы войдут в Киев, мать, однако, послала отцу несколько отчаянных телеграмм, чтобы он принял нас. Но ответа на них не пришло.
Мать истерически плакала по ночам. Бабка утешала:
– Да ничóго, ничóго, Маруся, проживем и при немцах.
– Что я буду делать при немцах? – говорила мать. – Учить детей славить Гитлера? То учила славить Сталина – то Гитлера? Возьму Толика и поеду, будь что будет.
– Мы ж без тебя пропадем... – плакала бабка. Это верно, вся семья держалась на маминой зарплате. Она была гордая, не хотела подавать на алименты на отца, лишь незадолго перед войной дед ее все-таки донял, и нам стали приходить переводы из бухгалтерии ГАЗа, война их оборвала.
Мама вела два класса в обычной школе, но часто ей удавалось подрабатывать еще и в вечерней для взрослых. Ей разрешали, потому что она была старательной, талантливой учительницей. [Много раз ее собирались наградить, но никогда даже самой крохотной премии ей не дали, как беспартийной. Только на словах хвалили да подгоняли. Знакомые же ее учительницы, вступившие в партию, и на курорт бесплатно ездили, и орденами сверкали. Иная уде такая бездарь, бревно-бревном, класс развалила, ничему детей научить не может – а ее в депутаты, в президиумы... А класс отдают матери, чтоб восстановила, и мать сидит дни напролет с детьми, сидит ночи над тетрадями. Но в партию она не пошла, для нее это было просто дико.
Детям она отдала всю жизнь, а к себе относилась, как монахиня.] Иногда ее ученики-вечерники, взрослые усатые дяди, рабочие, приходили к нам женихаться. Дед их очень любил, потому что они приносили колбасу, консервы, выпивку, он с ними толковал, заказывал достать гвоздей или белил, а мама сердито сидела минуту-другую и уходила спать. Женихи скисали и исчезали.
Последнее время мать дежурила в пустой школе возле телефона – на случай воздушных тревог, зажигательных бомб. Учителей в организованном порядке не эвакуировали, мы сидели на чемоданах, но уехать так и не смогли, и мать встретила немцев с ужасом, не ожидая ничего хорошего.
Кот ТИТ – мой верный друг и товарищ, с которым прошло все мое детство. Я подумал и решил, что погрешу против правды, если не упомяну и его как члена нашей семьи. По крайней мере для меня он таковым был всегда, и он сыграл в моей жизни немаловажную роль, о чем будет сказано дальше.
Кот Тит был старый, душевно ласковый, но внешне весьма сдержанный и серьезный. Фамильярностей не любил и очень чутко различал, кто к нему относится действительно хорошо, а кто только сюсюкает и подлизывается.
Бабка его любила, а дед ненавидел лютой ненавистью – за то, что он дармоед.
Однажды дед посадил Тита за пазуху и повез в трамвае на четырнадцатую линию Пущи-Водицы, это примерно пятнадцать километров, и все лесом. Он выпустил его там, в лесу, и пугнул.
Тит явился домой через неделю, очень голодный, запуганный и несчастный.
Дед пришел в ярость, посадил Тита в мешок, повез через весь город на Демиевку и выкинул там в Голосеевском лесу.
Оттуда Тит явился только через три месяца, с оторванным ухом, перебитой лапой – ему ведь пришлось идти через весь огромный город. Но после этого озадаченный дед оставил его в покое.
Когда потом мне попалась потрясающая повесть Сетона-Томпсона о кошке, которая через города и реки упрямо идет к тому мусорному ящику, где когда-то родилась, я верил каждому слову. Кошки умеют это.
Наш Тит, хотя и приучился прятаться от фашистских самолетов в окопе, все же в политике не разбирался совершенно. Он был, так сказать, самым аполитичным из всех нас, а напрасно, потому что новая жизнь существенно касалась и его.
Вот такими мы были к приходу фашизма и вообще к приходу войны: незначительные, невоеннообязанные, старики, женщина, пацаненок, то есть те, кому меньше всего нужна война и которым, как назло, как раз больше всего в ней достается.
Но ни в коем случае я не собираюсь дальше показывать: вот, мол, смотрите, как от войны страдают женщины, дети и старики. Хотя бы потому, что доказывать это никому не нужно. Конечно, я рассказываю много личного, но меньше всего, – подчеркиваю, – меньше всего здесь ставится цель рассказывать о всяких личных передрягах.
Эта книга – совсем о другом.
– Что это за медали? – спросил дед, разглядывая газету.
Целую полосу занимала «Борьба украинского народа» – исторический обзор с портретами-медальонами князя Святослава, княгини Ольги, Владимира Крестителя, Богдана Хмельницкого, Мазепы, Шевченко, Леси Украинки и Симона Петлюры.
[Сочетание было невероятное, на что я, мальчишка, и то вытаращил глаза. Святослав, Ольга и Владимир – основатели Руси, тогда не было Украины и России, а просто Киевская Русь. Ладно, тут все в порядке. Святые предки у украинцев и русских общие.
Но дальше... Хмельницкий Украину к России присоединил.
Мазепа хотел оторвать. Тарас Шевченко и Леся Украинка – поэты, которых превозносила советская власть.
А Петлюра боролся в революцию за независимую Украину, и всех петлюровцев постреляли и сгноили в советских лагерях.]
– И Богдан у них великий? – удивился дед.
– Да.
– Чудно! Мазепа... Петлюра... – Дед озадаченно погладил бороду. – Насчет того черта не знаю, давно было, при Петре Первом, а Петлюру сам видел – и паразит, и горлохват. Что они только тут творили!..
Мать в другой комнате перешивала мне пальто к зиме. Она вышла, глянула в газету.
– Не верю я ничему, – пробормотала она. – Кошмар какой-то. Не было хороших царей. Убивали все от Святослава до Сталина.
– Про Сталина забудь, дурная! – весело сказал дед. – И ныне, и присно, и во веки веков. Будет хороший царь.
– Нет, – сказала мать. – Может где-нибудь на Мадагаскаре, в Америке, в Австралии, только не в России. В России – нет.
Я принялся читать подробности возрождения церкви на Холмщине и бурного роста искусства в Житомире. Дед выслушал с большим удовольствием, солидно кивая головой.
– Очень хорошо, – сказал он. – Немцы знают, что делают. Вот послушай: когда я был молодой и работал у немецких колонистов, я уже тогда понял, что немцы – это хозяева. Они работу любят, а ленивых ненавидят: что ты заработал, то и получай. А воровства у них нет: уходят из дому, дверь палочкой подопрут – и никаких замков. А если, случись, поймают вора – так уж бьют его, бьют, пока не убьют. Вот теперь ты сам посмотришь, какая будет справедливая жизнь. Рай на земле!
– Ничего не будет, – сказала мама как-то странно. – И большевики еще вернутся.
Мы не стали с ней спорить, потому что знали, о чем она думает, только не говорит: что, может, вернется когда-нибудь отец, которого она любит и будет любить до самой смерти.
– Ах, ты счастливый, – сказал дед. – К нам с бабкой вот только на старости пришла новая жизнь. Маруся ничего не понимает. А ты счастливый, ты молодой, ты еще так поживешь!
Я подумал: вот черт возьми! Я ведь в самом деле молодой, и сразу так повезло: вот пришли хозяева-немцы, даже воров и замков не будет. И от предчувствия грядущего счастья стало мне тревожно и удивительно.
– Ладно, шут с ним, пускай хоть Петлюра, хоть черт, хоть дьявол с рогами висит у них иконой, – с внезапной ненавистью сказал дед, – лишь бы не тот Сталинюга, сапожник проклятый, грузин недорезанный, убийца усатый с его босячней! Боже, Боже, такую страну довести до разорения. За несчастным ситцем тысячи душатся в очередях, да я при царе последний батрак был, а этого ситцу мог штуками покупать.
– Що старэ, що малэ... – вздохнула бабка у печи. – Много ты его напокупал?
– Мог! Мог купить. Потому что он был. Все было! Я батрак, а ты прачка – а мы, себе дом построили. Попробуй сейчас построй. Раньше, бывало, один муж в семье работает, семья семь душ, он один кормит всех. А при этих большевиках и муж работает, и жена работает, и дети работают, и все равно не хватает. Это для того царя скинули?
– При царе было плохо! – воскликнул я.
– Да, вас теперь так в школах учат. А ты видел?
– Царь людей в тюрьмы сажал и в ссылки ссылал.
– Дурачок ты, дурачок, – сказал дед. – Людей сажают и ссылают во все времена. Ленин больше народу загубил, чем все цари до него. А уж того, что Сталин натворил – никаким царям, никаким кровопивцам не снилось. Были у нас и Грозные, и Петры, да такого Сталина Бог, видно, перед концом света на нас послал. Дожились до того, что самой тени своей боишься. Одни стукачи кругом, слова не скажи. Только одну «славу партии» можно кричать. Да милиция тебе штраф влепит, если флаг на ворота не прицепишь на их праздник да на их проклятущие выборы. С утра, чуть свет – уже тарабанят в окна: «К шести часам на выборы, все как один, всенародный праздник, стопроцентное голосование!» Ах, чтоб вы подавились моим голосованием!
Сами себя выставляют, сами себя назначают, сами меж собой делят – а мне говорят, что это я их выбрал! Это ж кракамедия сплошная. Кто живет при советской власти? Кто горластый подлец. Разевает пасть: «Наш великий, гениальный, мудрый вождь, солнце ясное в небе, наша родная партия, под водительством!» Тра-та-та! За это и получает, и жрет, злыдень. Развели одних паразитов. Один работает, трое присматривают, шестеро караулят. Да жрут, как гусенъ, да в автомобилях разъезжают. Буржуев свергли – сами буржуями похлеще заделались. Благодетели!..
– От язык без костей, – испуганно сжалась бабка у печки. – Шо ты кричишь, на всю улицу слышно!
– Вот? Я ж говорю: мы привыкли уже только шепотом говорить. Пусть слышно! Я хочу хоть перед смертью вголос поговорить. Нет их власти больше, нету их ГПУ, драпанули распроклятые энкаведисты. Чтоб он сдох, тот Сталин! Чтоб она сдохла, их партия! Вот! И никто меня больше не арестует. Это ж я при проклятых буржуях последний раз мог вголос говорить. Двадцать лет как воды в рот набрали. Добрые люди, пусть лучше Гитлер, пусть царь, пусть буржуи, турки, только не те а-ди-о-ты, бандиты с большой дороги!
– Да, турки много тебе добра дадут... И при буржуях много ты его видел, – вздохнула бабка. – Забыл уже про батыгов курень? Тебе советская власть пенсию дала, хоть бы за то спасибо сказал. А буржуи бы тебе дулю дали.
– Буржуй – сволочь! – закричал дед («Ну, началось, – подумал я, – теперь опять до вечера скандал».) – Буржуй – сволочь, но он хоть дело знал. Большевики буржуев постреляли – а сами что развели? Несчастная Россия, не было в ней добра – и не будет с такими босяцкими порядками. И сами мы, видать, того стоим. Быдло мы, батогом нами управлять. Вот нам немцы нужны, пусть нас поучат. Эти кракамедиями заниматься не станут. Хочешь честно работать? Работай. Не хочешь – иди к растакой матери. А этих, которые языком чесать привыкли да жопу Сталину лизать – этих немцы в два счета выведут... Господи, слава тебе за то, что живыми пережили мы твое испытание, эту большевистскую чуму!.. А ну, сынок, читай, что там еще пишут?
Я покопался в газете и нашел объявление, подтверждающее слова деда. В нем говорилось, что «некоторые безработные мужчины, от 16 до 55 лет, УКЛОНЯЮТСЯ ОТ РАБОТЫ». Им предлагалось немедленно явиться на регистрацию.
– Ага. Вот! – с торжеством сказал дед, поднимая палец.
ОТ АВТОРА
Ребята рождения сороковых, пятидесятых и далее годов, не видевшие всего этого и не пережившие.
Для вас, естественно, то, что я рассказываю, – чистой воды история.
Вы не любите сухую школьную историю. И я ее не люблю.Иногда она кажется скоплением царств, дат,идиотских битв, которыми я зачем-то должен восхищаться. Да еще – книжных ужасов,подлости на подлости, глупости на юродстве, так что становится стыдно: и это-то есть история цивилизации?
Иные занятные старики не устают твердить о том, что ваше счастье в том, что ваша юность пришлась на мирное время. Что ужасы войн существуют для вас только в книгах. Вы слушаете и не слушаете. Говорите: надоело. Говорите: а пошли вы с вашими войнами, с вашим хаосом в мире, который вы же натворили и в котором сами не можете разобраться, – а пошли вы, к чертовой матери.
Хорошо сказано. Вас понял.
Ну, а если я [из своего слухового окошка каркну] вам: «Осторожно!» – вы меня поймете? [Выдвигаю антенны, перехожу на прием.
Слышу много музыки, слышу пенье, звон разбиваемых бутылок и стекол, рев мотоцикла, и вдруг хором скандируемое «Мао». Вежливый голос полицейского: он просит хиппи подвинуться, у фонтана на Пикадилли идет уборка.]
Все-таки как это хорошо: плевать на всю и всяческую политику, танцевать, любить, пить вино, спать, дышать. Жить. О, дай вам Бог!
Только [из своего слухового окошка смотрю я и вижу, как, пока одни любят и спят, другие деятельно штампуют для них наручники. Зачем? А вот это вопрос. В мире такая пропасть благодетелей. И все хотят непременно облагодетельствовать целый мир. Никак не меньше. Для этого нужно немного: мир должен уложиться в схему, которая Бог весть как формируется в их малосильных, измученных комплексами мозгах.
Они не плюют на политику, они ее делают. Строгают свою дубину. Потом опускают дубину на чужие головы, проводя таким образом свою политику в жизнь.
Осторожно, люди!]
На основании своего, чужого, всеобщего опыта, на основании многих мыслей, поисков, тревог и расчетов говорю вам: ГОРЕ СЕГОДНЯ ТОМУ, КТО ЗАБЫВАЕТ О ПОЛИТИКЕ.
Я не сказал, что люблю ее. Я ее ненавижу. Презираю. Не призываю вас любить ее или уважать. Только говорю вам:
НЕ ЗАБУДЬТЕ.
Если вы уже взяли в руки эту книгу, и у вас хватило терпения дочитать до этих строк, я вас поздравляю, и я вас попрошу: пожалуйста, в таком случае не бросайте ее и дочитайте до конца.
Ведь я вам предлагаю все-таки не обычный роман. Это документ, точная картина того, что было. А представьте себе, что, родись вы на одно историческое мгновение раньше, – и это уже была бы ваша жизнь, а не книжное чтиво. Судьба играет нами, как хочет, – малыми микробами, ползающими по земному шару. Вы могли быть мною, родиться в Киеве, на Куреневке, а я вот в этот момент мог быть вами и читать эту страницу.
Я приглашаю вас: войдите в мою судьбу, вообразите, что вы живете в моей оболочке, и другой у вас нет, и вам двенадцать лет, а в мире идет война, и неизвестно, что будет дальше. Только что вы держали в руках газету с объявлением об уклоняющихся от работы. Только что. Сейчас.
Теперь пойдем на улицу. Над цитаделью развевается немецкое военное знамя. Советской власти нет. Теплый осенний день, хорошая погода.








