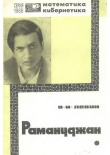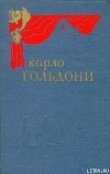Текст книги "Осуждение Паганини"
Автор книги: Анатолий Виноградов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Когда Паганини, непосредственно после «Карманьолы», заиграл эту песню марсельских моряков, как он ее назвал, Ньекко взволнованно вскочил с кресла и заходил большими шагами по комнате. Никколо впервые видел его таким. Синьор Ньекко достал из стенного шкафчика и показал мальчику серые клочки французских прокламаций генерала Бонапарта, разбросанных в Северной Италии. Тайна лесных братьев раскрылась. Тяжелый груз угля, таящего пламя, стал понятен маленькому Паганини.
Работа карбонарского братства захватила воображение мальчика, а налет тайны на всех этих разговорах с учителем имел к тому же особую прелесть. У Паганини началась своя, не мальчишеская жизнь. Ему стало даже легче сносить побои и попреки отца. Он спокойно присутствовал при долгих перебранках между сестрами, старшим братом, отцом и матерью. У него появилась своя жизнь, появились свои жизненные планы.
Носовой платок Паганини, покрытый красными пятнами, внушил синьору Ньекко первые подозрения о состоянии здоровья его ученика. Через посредство друзей синьор Ньекко навел справки о семье Никколо. Осторожно, чтобы не обидеть своего ученика, он приглашал его завтракать вместе с собой, задерживая на лишний час. Однако вскоре против этих задержек маленький Паганини решительно восстал. Синьор Ньекко убедился в его правоте, как только увидел кровоподтеки на лице своего ученика: отец не разрешал удлинять уроки.
Ученику хотелось изыскать способ хоть как-нибудь растягивать время пребывания у синьора Ньекко в предчувствии скорого отъезда своего любимца. Но для этого пришлось бы обманывать зорко следившего за ним отца.
Ньекко, сам участник карбонарской конспиративной работы, имел навыки внимательного и зоркого наблюдателя. В эти годы Ньекко был единственным, кто точно представлял себе все значение бурного вторжения легенды в жизнь маленького скрипача. В то время как синьор Антонио Паганини, со всей толпой своих коммерческих друзей и врагов, и синьора Тереза, его супруга, со всей озлобленной сворой родных и двоюродных Боччарди, терялись в догадках о происхождении ранней одаренности Никколо и строили предположения о сверхъестественном вмешательстве, видя в этом вмешательстве то страшную демоническую, то благодатную ангельскую основу, Ньекко боялся за судьбу мальчика, хрупкость которого внушала ему самые серьезные опасения, Ньекко боялся, что могущество этого всеподавляюшего таланта превратится в огонь, который сожжет и очаг и дом.
Временами же ему казалось, что этот мальчик, при всей своей хрупкости, обладает железным здоровьем. если выносит колоссальную тяжесть, взваленную синьором Антонио на его плечи.
У насмешливого, веселого Ньекко туманились глаза в минуты, когда, подняв брови, Паганини без всякой аффектации рассказывал ему о долгих упражнениях в семилетнем возрасте, когда, не будучи в силах держать скрипку в обычной позитуре, ребенок изучал игру на этом инструменте, ставя его, как виолончель, между маленькими угловатыми коленями. Слушая его, Ньекко не мог смотреть в глаза мальчику. Ему казалось, что перед ним раскрывается какая-то черная яма человеческих бед.
Синьор Ньекко вздрагивал, перечитывая страницы Миланской хроники, на которых старинный повествователь рассказывал о ломбардских крестьянах, намеренно уродовавших своих детей, чтобы потом продать их в качестве придворных шутов герцогу Сфорца. «Новые птицы, новые песни, – думал Ньекко. – Это удивительное творение находится в руках чудовища, которое может изуродовать его талант, сделав из мальчика дешевого ярмарочного жонглера...»
Была еще одна тема для размышлений синьора Ньекко о судьбе Никколо. Он убеждался, что церковная музыка чужда его маленькому ученику. Ньекко наблюдал, что, покрывая соборные хоралы могучими звуками своей скрипки, маленький Паганини оставался по-прежнему незатронутым, и все навязчивые, вкрадчивые притязания католической клики оставляли холодной душу ребенка нового века. Когда же синьор Ньекко говорил с ним о свободе Италии, о живой и яркой работе карбонариев, щеки мальчика покрывались румянцем возбуждения.
Эта холодность к церковной музыке была безотчетной, вражды и неприязни к церкви не было в маленьком Паганини. И, однако, синьор Ньекко ловил себя на мысли об удобстве позднего католического причастия. Исповедь Никколо у священника в те дни могла бы принести большие неприятности синьору Ньекко. Местный кардинал-легат сурово требовал от священников, чтобы на исповеди они тщательно выпытывали образ мыслей сынов и дочерей церкви. Он сам еженедельно давал сведения представителю апостольской римской курии в городе Генуе. Оттуда эти сведения шли в Рим, а иногда и в Вену, где министр полиции его апостолического величества короля и императора делал соответствующие выводы и набрасывал на карту возможные очаги будущих восстаний.
Затаенность и молчание мальчика, его успокоенность возбудили подозрения синьора Антонио. Он переговорил об этом со своей супругой, супруга имела разговор с духовником. Но священник местной церкви благосклонно отнесся к маленькому Паганини. Он утешил синьору Терезу и сказал, что мальчик на хорошем пути, три раза в неделю он выступает в церковных концертах, его выступления привлекают толпу молящихся, молящиеся охотно отзываются на кружечный сбор, – таким образом, можно рассматривать Никколо Паганини с его скрипкой как явление, угодное богу.
После этого синьор Паганини успокоился. Он не стал возражать, когда, по инициативе синьора Ньекко, маленький скрипач был приглашен к участию в концерте светской музыки.
Италия тогдашнего времени еще увлекалась выступлениями сопранистов. Знаменитый кастрат Маркези, выступая в день своего бенефиса, в тысячный раз удивлял и восхищал простодушную генуэзскую публику серебряной чистотой своего тончайшего дисканта.
Паганини с любопытством маленького зверька украдкой смотрел на Маркези, когда тот выводил дискантовые рулады перед упоенным зрительным залом. Ни восхищения, ни удивления не вызвало у него искусство мужчины, поющего женским голосом.
Маленький Паганини играл после пения Маркези, после пения знаменитой певицы Альбертинетти. Часть публики, сидевшая в верхних ярусах, была наслышана о выступлениях маленького скрипача в церкви, но большинство собравшихся в этот день в огромном театре ничего не знало о чудесном ребенке.
Доброкачественные буржуа, офицеры, священники, жены биржевиков, купцы, нотариусы, маклеры, моряки старинных фамилий с одряхлевшими титулами, обедневшие дворяне, разорившиеся графы – все это зашумело, закивало головами, когда на авансцене появился мальчик со скрипкой. Робкой походкой, с таким видом, будто у него на ногах деревянные башмаки, вышел хилый мальчик с впалой грудью, угловатыми плечами и руками, достававшими почти до вывороченных наружу коленных чашечек. Легкий шум досады прошел по рядам, замелькали улыбки. Никколо играл впервые перед такой большой аудиторией. И если дикая легенда о маленьком скрипаче не выходила до этого за пределы родного переулка, то теперь эта легенда раскинула свои крылья и полетела по городу, над морем, по всему Лигурийскому синему заливу.
Любопытство сменилось удивлением. Мальчик извлекал из огромной для его роста скрипки непомерной силы и поразительной красоты звуки. Вот вступает оркестр, вот волны хорала покрываются звучанием сотни инструментов, но над всеми этими звуками рассыпаются колокольчики, и кажется – запела не одна, а десять скрипок. Широкая волна кантилены покрыла хор и оркестр, и вот, заканчивая последние такты, певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе. Она висит и не обрывается минуту, две... Публика встает, шелест побежал по залу, головы качаются, как колосья. Зрительный зал не отрывает глаз от мальчика. Удивление уступает место восторгу, а на многих лицах можно видеть выражение, близкое к суеверному испугу.
Бледный молодой семинарист Нови, с горящими глазами, полными ненависти, шепчет что-то во втором ряду своему соседу. Это змеиное шипение слышит синьор Ньекко. Нови говорит, что здесь сказалось проявление нечистой силы, ибо без помощи дьявола не может человек, да к тому же почти еще ребенок, одержать такую победу над куском мертвого дерева.
И буря аплодисментов не заглушает отдельных голосов.
– Даже я, – восклицает священник, – всегда обращенный к небу, даже я почувствовал трепетное волнение в крови и всю прелесть этой греховной земной жизни, когда слушал звуки, извлекаемые из скрипки смычком этого одержимого ребенка.
Иезуит переглядывается многозначительно с представителем святейшей инквизиции, одетым в светское платье. Тот отвечает равнодушным взглядом. Он смотрит рыбьими глазами на эстраду, качает головой и, подойдя к священнику, говорит:
– Отец и мать – верные слуги церкви, мальчик играет в храме. Эта музыка – от бога.
Ночью у маленького Паганини началась лихорадка. Утром он так и не мог вспомнить, снилась ему или на самом деле происходила ссора между отцом и матерью. Обрывки случайных фраз, долетевших до мальчика, мучили его. Отец говорил о необходимости «хорошо питать перед дальней дорогой». Мать часто повторяла слово «рано», отец бранился и говорил: «Пора». Сопоставляя отрывки фраз, Никколо понял, что речь шла о затее отца предпринять круговую поездку по городам Лигурийского побережья с концертами маленького скрипача.
Как только отец ушел на биржу, мальчик сорвался с места, быстро оделся и побежал к синьору Ньекко. Как раз в тот момент, когда он хотел взяться за ручку двери, он увидел, как синьор Ньекко отворяет эту дверь, и под лучами солнца, падающими сквозь окна лестницы, из двери синьора Франческо со звонким смехом появляется девушка... Улыбка сбежала с ее лица, оно стало серьезным, как только она увидела маленького Паганини.
– Вот ваш маленький скрипач, – сказала она, оборачиваясь к синьору Ньекко. – Итак, я вас жду.
Стуча каблуками, она шла по лестнице, быстро, на ходу повязывая вуаль вокруг шеи. Не зная сам почему, Паганини почувствовал, как тонкая ледяная иголочка вошла к нему в сердце, сломалась и оставила в нем острие.
Синьор Ньекко поднял маленького Паганини на воздух, покружился с ним по комнате, поцеловал его в лоб и с размаху опустил на пол.
– Поздравляю! – сказал он. – Как жаль, что я не могу взять тебя с собой. Завтра я уезжаю.
Паганини бросился в кресло, слезы ручьем побежали из глаз. Весь успех вчерашнего концерта, все ликование мальчишеского самолюбия – все исчезло перед липом огромного, неожиданного горя.
Глава девятая
Отрочество
Антонио Паганини был несколько встревожен тем шумом, который поднялся вокруг концерта маленького скрипача.
Однажды утром, когда Тереза Паганини мирно спала, когда лучи солнца только что начали золотить верхушки памятников на генуэзском кладбище, а песок на морском берегу был еще закрыт тонкой пеленой быстро убегающего под утренним ветром тумана когда только чириканье птиц оглашало одинокие генуэзские улицы, маленький Паганини, с тростью, перекинутой через плечо и узелком за спиною, семенил ногами, стараясь поспеть за большими шагами отца. Старик суетливо перекладывал из кармана в карман бумажник, кошелек, билеты «Итальянского мессаджера». Через час уже были в Фоче, потом в Нерви, потом увидели на открытом морском берегу Рекко, потом ехали в гору и, когда солнце стояло уже высоко, по дороге, прибитой дождем, въехали в лес. Так доехали до Киавари. В Киавари остановились у дешевого трактира. Только здесь маленький скрипач узнал, что мать не будет тревожиться, ей оставлено письмо. Синьор Антонио был неожиданно ласков с Никколо. Он даже потрепал сына по щеке и сказал:
– Знаешь, я совсем разорен, теперь в твоих руках спасение семьи. Играй, играй всюду. Соберем деньги, тогда заживем хорошо.
Из Киавари, где Никколо впервые пришлось играть в трактире, выехали на юг. Два раза мальчик играл в Специи. Потом пошел концерт за концертом – в церквах, в трактирах, в гостиницах. Жажда наживы гнала старика из города в город. К Антонио Паганини как бы вернулись юношеские силы, бодрость; он не давал сыну ни минуты отдыха, не щадил и самого себя. Откуда-то взялась ловкость самого настоящего импрессарио. То, что не удавалось маклеру, вдруг удалось антрепренеру.
В маленькой типографии Массы, ради дешевизны работы, были заказаны афиши. Скрываясь под маской дальнего родственника, Антонио Паганини отчаянно рекламировал сына. Предметом наибольших надежд были Лукка, Пиза, Флоренция, потом он хотел ехать в Болонью, Модену, Реджио, Парму, Пьяченцу, Павию и Алессандрию, затем опять на юг, дать концерт в Нови и горной дорогой вернуться в Геную. Таким образом, все побережье Ривьеры ди Леванте сделалось ареной действий этого старого пирата.
Между выступлениями в больших городах старик не брезговал ничем, заставляя ребенка играть на постоялых дворах, выпрашивая байокки, ченттезими и сольди у погонщиков мулов, у бродячих артистов, семинаристов, сидевших за кружкой вина и уничтожавших фрутти ди маре.
Так доехали до Ливорно. Перед первым концертом в этом городке старик раскрыл самый тяжелый сверток. Там лежали серая куртка, панталоны, новые чулки и туфли, серая огромная шляпа с перьями. Все это было неуклюже, не по росту, но сделано из дорогого материала. Белый кружевной воротник стоил несколько лир, и маленький скрипач еще раз почувствовал, что для синьора Антонио его существование имеет новую, ранее неизвестную мальчику цену.
Пестрота ливорнской публики не помешала успеху концерта. Отец сам следил за выручкой и принял все меры к тому, чтобы его не обсчитали ни на один байокко. А вечером, после очень сытного ужина, старик позволил себе большую роскошь. Он поставил луидор в ливорнском ридотто и выиграл в этот же вечер тысячу франков. Выигрыш ударил ему в голову, как хмель. Старик подошел к стойке, залпом выпил бокал можжевеловой водки и вновь вернулся к игре, ни на секунду не отпуская от себя сына, словно боясь, что мальчик может выдать какой-то секрет, если останется один. А быть может, он смутно почувствовал, как тяжело переживает Никколо страшную тоску по дому, о которой намекнул отцу маленький Паганини после успешного концерта.
Через три часа все, что было выручено на концерте, и весь выигрыш этого удачного вечера – все было проиграно, и последнюю двадцатипятифранковую кредитку старик снес в морской притон на берегу.
Под утро вернулись в гостиницу. Старый Паганини брюзжал и ругался. Ложась спать, заявил, что завтра будет повторение концерта.
Утром, проснувшись, маленький скрипач заметил, что рукав новой серой куртки разорван. Он не помнил, как это случилось, но знал, что ему не миновать побоев, да и выступать вечером будет не в чем.
Отец спал. Мальчик глядел на рваную куртку с таким ощущением, как будто это была рана, разорвавшая его собственную кожу. Держа куртку в руках, он осторожно вышел из комнаты, У дверей он застал служанку и коридорного лакея. Служанка локтем отталкивала пристающего к ней усатого лакея, но как только тот заметил, что отворилась дверь, он сам отскочил в сторону. Горничная хотела убежать. Мальчик остановил ее, попросив иголку с ниткой. Заливаясь слезами, он по совету служанки пошел на чердак. Ветер гулял на чердаке. Было холодно, сквозняк поднимал тонкую едкую пыль с деревянных балок и стропил. Маленький Паганини бранил себя за то, что не хватило мужества упросить служанку заштопать куртку. Но тотчас трезвое соображение, что за это пришлось бы платить деньги, удовлетворило его.
В это время Паганини услышал громкое пение продавца овощей. Голос чистый и отчетливо ясный прорезал воздух улицы. Мальчик наклонился, опираясь на подоконник, и выглянул в окно. Порывом ветра у него вырвало куртку из рук, и пока он бежал по лестнице, куртку кто-то успел подобрать. Выбежав на улицу, Паганини встретил только удивленные взгляды.
Весь в слезах, он остановился у двери. Рука несколько раз ложилась на скобку двери, и каждый раз казалось, что руку обжигает, как огнем. Наконец, осушив слезы, вошел. Отец еще спал. Паганини осторожно, стараясь не шуметь, навесил крючок и лег на свою постель. Он хотел снять туфли и сделать вид, что он и не вставал, но вдруг увидел, что один глаз отца внимательно осматривает его с головы до ног из-под одеяла. «Видел или не видел?» – подумал мальчик и потом с внезапной решимостью сказал:
– Отец, разрешите мне признаться вам: украли куртку.
Старый Паганини вскочил, мгновенно прошли последние ощущения сна.
– Ты меня разоряешь! – завопил отец и заметался по комнате в бесплодных поисках.
«Слава мадонне, – подумал Паганини, – отец не видел». И с притворным усердием стал помогать отцу. Но искать было нетрудно, – в комнате, кроме жалкого имущества Паганини, ничего не было, меблировка была убогая, куртка завалиться никуда не могла. Через несколько минут старый Паганини уже кричал в коридоре, что он не заплатит ни копейки и сейчас же пойдет предупредить власти о том, что в этой гостинице грабят и убивают. Маленький Паганини притаился в номере.
Кто-то, очевидно предполагая, что речь идет об одежде старика, принялся уговаривать синьора Антонио.
Тот окончательно разошелся и не желал ничего слушать. Он кричал:
– Мой сын, мой знаменитый сын сегодня дает концерт, и у него украли одежду!..
– Какой ваш сын? – спросил женский голос.
Синьор Антонио открыл дверь, и Никколо увидел ту самую горничную, которая давала ему иголку и нитку.
Ложь мгновенно была изобличена.
– Вы говорите, синьор, знаменитый скрипач, а такой лгунишка не может быть знаменитым скрипачом!
Тогда отец накинулся на сына с кулаками:
– Ты дармоед, ты забываешь заповедь господню о почтении к родителям! Чтобы вывести тебя в люди, я, не щадя своих старых костей, мечусь по каменистым дорогам... Где куртка?
Маленький Паганини, стоя на коленях, протягивая к отцу руки, сбивчиво и бестолково рассказывал о случившемся.
– Лжешь! – кричал отец. – Ты ее продал! Боже мой, боже мой, такой концерт, и ни байокко денег. Ты продал! – снова закричал он, наступая на сына. – Чтобы сегодня к вечеру куртка была!
Маленький Паганини надел старую, подаренную матерью куртку и вышел на улицу. Сначала он шел медленно, думая, что отец окликнет его, но старик был. очевидно, совершенно вне себя. Он не вернул сына.
Выйдя за черты города, Никколо сел на придорожный камень, потом, почувствовав усталость, снял куртку, подложил ее под голову и прилег на траву. Заснуть ему не удалось: под щеку попал твердый кружок. Паганини вскочил от радости. Это была пятифранковая монета. Тереза Паганини была суеверна – в каждый новый костюм детям она зашивала деньги.
Первой мыслью Паганини было вернуться, но тут же он принял другое решение. Пробродив до вечера по окраинам Ливорно, голодный, он вошел, когда стало смеркаться, в морской притон близ гавани, тот самый, где вчера потерпел поражение отец. По следам старого Антонио Паганини мальчик второй раз в жизни вошел в игорный дом.
Спустившись в полутемный коридор и отсчитав ровно восемь ступенек, Паганини нащупал дверь, знакомую со вчерашнего дня, открыл ее и, не обращая внимания на то, что матросы и проститутки загораживали дорогу, потихоньку по стенке прошел в комнату.
Здесь были неудачливые капитаны, не в меру ловкие боцманы, неизвестные люди в поношенных камзолах, в долгополых сюртуках, какой-то старичок с беспокойной ласковостью взгляда, а дальше, в полутемной комнате, вповалку спали на скамьях портовые грузчики и матросы, окончательно отяжелевшие от можжевеловой водки.
Там пьяный негр яростно спорил и ругался с вербовщиком рабочих для кораблей дальнего плавания. Свинцовая кружка мерно ударяла по деревянной стойке, и каждый раз со дна выбрызгивались капли желтоватой жидкости на руки вербовщика. Негр плевался, харкал и ругался на всех известных ему языках. За столом шла игра. Ставки были мелкие. Маленький Паганини, подойдя к столу, поставил на карту свою пятифранковую монету – благословенные деньги, подаренные матерью.
Десятки глаз устремились на мальчика. Кто-то хотел что-то сказать, но запнулся. Игра шла. Кто-то спросил:
– Больше нет ставок?
К мальчику подошел старичок.
– Ну? – спросил Никколо грубо.
Сзади матрос схватил Паганини за шиворот. Мальчик огрызнулся, как собачонка, схваченная за ошейник, бессильно стремящаяся укусить схватившую ее руку.
– Что тебе нужно? Пусти! – кричал он.
– Вот я тебе сейчас покажу игру, – заговорил загорелый боцман. – У кого украл деньги?
– Свои, – ответил мальчик. – Мне надо купить одежду, без одежды я не могу вернуться к отцу.
И он показал рваную нижнюю рубашку, пожаловался на пестроту своей одежды.
– Смотри, дьяволенок, не пришлось бы тебе купить сегодня каменную одежду!
Но распорядитель игры, очевидно, иначе посмотрел на дело. Он только метнул взгляд в сторону мальчика и продолжал игру.
Поздно ночью, выходя из притона вместе с маленьким Паганини, боцман говорил:
– Тебе везет, маленькая обезьяна. Да уж если говорить прямо, то никогда и мне не везло, как сегодня. Ты родился под счастливой звездой. Но вот что я тебе скажу. Я видел, ты выиграл восемьдесят луидоров. Ты богат. У тебя столько денег, сколько у меня не было за год. Дай мне пять луидоров, я провожу тебя до дому, а то тебя зарежут в каком-нибудь переулке.
Действительно, по пятам шли двое. Боцман подтянул ремень, достал из-за пазухи тяжелый пистолет с чеканкой, изображавшей корабль, поправил пояс, на котором в ножнах висел тесак. Все это было сделано с таким внушительным видом, как будто боцман готовился отразить нападение дюжины бандитов. Но никто никого не пытался ограбить. Мальчик дошел благополучно до дому. Боцман благополучно получил пять луидоров.
Отец спал. Огромная разбитая фьяска лежала у кровати, лужа вина алела на полу. Башмаки старика плавали в вине.
Маленький Паганини всю ночь не сомкнул глаз. У него стучали зубы, бешено колотилось сердце. Старик не проснулся. Совсем под утро тихонько, чтобы не разбудить старика, мальчик, никем не замеченный, вышел из гостиницы со скрипкой под мышкой, неся в руках узелок, в котором было все его имущество: молитвенник, подарок матери, и бантик из лент – красной, зеленой и черной, который ему подарил как-то синьор Ньекко.
Впервые за все свое детство Никколо Паганини чувствовал себя легко и спокойно. Хотелось есть. Он не ел два дня. Мимо большой каменной ограды, за которой виднелась зелень и щебетали птицы, он прошел по всему побережью. Девушка звонко пела на берегу, одеваясь после купания. Медленно просыпался город. Приморская кофейная была первым местом, куда вошел скрипач-оборванец. Человек, стоявший у двери и протиравший окна, подозрительно посмотрел на маленького Паганини.
– Можешь ты заплатить? – спросил он, когда Паганини заказал себе не по возрасту обильный завтрак.
Забыв осторожность, Паганини встряхнул на ладони горсть пятифранковых монет и покосился на свои чулки, в которых были спрятаны остальные деньги. Потягивая густой горячий кофе и с жадностью уничтожая вареные яйца, мальчик вдруг вспомнил ночную игру. В конце концов чувство азарта побороло страх, внушенный притоном, голова кружилась, с какой-то сладкой тошнотой думалось о минутах неслыханного успеха, когда золото хлынуло потоком.
Внезапно его охватил животный страх перед ворами. Поспешно выйдя из кофейни, мальчик зашагал по спокойным утренним улицам. На площади он очутился как раз в тот момент, когда магазин с красивой вывеской «Венское платье» открылся и человек высокого роста принялся перетаскивать из экипажа узлы и пакеты.
Мальчик купил себе сразу два костюма. Он не узнал себя в щеголе, которого увидел в зеркале. Боязнь того, что он один ходит по магазинам в чужом и незнакомом городе, исчезла. Выйдя из магазина и стоя на углу, он, забыв, где он находится, вынул скрипку из чехла. Взял несколько аккордов, и звуки полились сами собой. Охватившие его чувства, все пережитое в этом году внезапно вылилось в урагане звуков, сбивающих все на своем пути, все покрывающих собой, рвущих нить, связывающую его с домом, с семьей. Он шатался, его бросало в жар и озноб, он играл, как одержимый, как безумный, и не понимал, где он и сколько времени он играет. Он не замечал собравшейся вокруг него толпы, не видел, как прохожий снял с него шляпу и положил ему под ноги, как в эту шляпу со всех сторон сыпались деньги. Он не чувствовал, что слезы застилают ему глаза, и только когда зашатался – опустил смычок. У него тряслись колени, плечи казались ему обремененными свинцовой тяжестью. Тут он увидел людей и услышал, как вся площадь ему рукоплескала. Извозчик, привставший на козлах, кричал и махал шляпой, приказчики в магазинах бросили свои прилавки, покупатели остановились у входа, его узнавали, о нем говорили.
Паганини с удивлением посмотрел на деньги, поднял шляпу, неуклюже набил карманы монетами и бумажками. Спрятал скрипку в чехол и пошел один, не зная, куда идти. Ноги едва повиновались ему. Постепенно таяла за ним толпа зевак и прохожих. Никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, видя изможденное лицо, заплаканные глаза, огромные мокрые ресницы. Мальчик все время думал, что он должен что-то сделать, и не мог ответить себе на вопрос, что именно сейчас нужно сделать. Наконец, догадался. Имея деньги, можно нанять извозчика. Когда сел в экипаж, он почувствовал, что бороться со сном стало не под силу. Держа под мышкой скрипку, он освободил правую руку и щипал себя за ухо. Доехали до почтового двора. Там он узнал, что через час отправляется поздний мальпост, и взял билет до Милана. Поздней ночью выехал из Ливорно, при звуках рожка по большой старинной дороге на север. Там когда-то проходили римские войска. На мостовой древние камни, истертые колесами римских повозок, чередовались с прокладками новой мостовой.
Старая жизнь кончилась. Первая игра в притоне оказалась куда интересней, чем игра на скрипке. «Впрочем, что я думаю, – соображал Паганини, засыпая, качая головой при каждом толчке мальпоста, – еще такая игра на площади, и я снова богат. Зачем мне возвращаться к отцу, который сосет мою кровь?»
Выехали из старинных Пизанских ворот по северной дороге.
«Хорошо сидеть в мальпосте в хорошую погоду, – пишут старые путешественники и добавляют: – Хорошо сидеть в мальпосте в декабрьский дождь, спрятавшись глубоко внутри кареты, если нет щелей в полу и в окнах, если есть крепкая смена одежды и хорошо наполненный желудок, если неподалеку из свертка торчит серебряная фляжка с крепким тягучим золотистым напитком». Но плохо оказалось путешествовать в мальпосте по северным итальянским дорогам одинокому мальчику.
Едва почтовая карета въехала в ворота мессаджера в Лукке, как два жандарма арестовали маленького Паганини.
Старик Антонио занял денег и, не поскупившись на расходы и обещания, поднял на ноги всю полицию Ливорно, а последняя гелиограммой предупредила о приезде мальчика в Лукку.
Двое суток просидел Паганини в префектуре. Его не переводили ни в тюрьму, ни в камеру, за решетки, он пользовался почти полной свободой. Ему запрещалось только выходить за пределы здания префектуры. Над ним посмеивались полицейские чиновники, его почти не опрашивали, предполагая, очевидно, что это сын богатого человека, что все решится само собой, не надо только торопиться и обострять положение. И так как полицейские чиновники не знали, как себя вести с мальчиком, который не является преступником, а, может быть, даже принадлежит к хорошей фамилии, то гостить в луккской префектуре Паганини было не так уж плохо Он выспался, был сыт.
Он несколько раз спрашивал, когда приезжает южный мальпост, и каждый раз забывал час, который ему называли. Наконец, когда он открыл двери и, обращаясь к стоящему внизу полицейскому, еще раз спросил о южном мальпосте, он услышал голос отца:
– Здесь уже, здесь.
Ни побоев, ни одного грубого слова за всю дорогу домой. Наоборот, отец проявил даже признаки несвойственной ему нежности. Мальчик украдкой смотрел на отца, когда тот засыпал в мальпосте; настороженность не покидала Никколо ни на минуту. Но, вопреки ожиданиям, старый Антонио держался ровно и спокойно, говорил мало, был задумчив. Чем дальше продвигались они на север, чем ближе они были к Левантийской Ривьере, тем быстрее работал мозг маленького Паганини. Никколо вдруг почувствовал, какое огромное значение в его детской жизни имел этот побег от отца. Он почувствовал себя отрезанным от семьи. Даже обостренная боль разлуки с матерью исчезла по мере приближения дилижанса к родному городу. Если бы Паганини был старше, он сумел бы формулировать свое отношение к отцу как ощущение удачливого педагога, ловко исправившего поведение своего воспитанника. Роли переменились. Паганини чувствовал, что отец находится у него в руках. И в то же время он боялся его.
По молчаливому уговору, отец и сын вернулись домой, как богатые и счастливые путешественники. О тяжелом происшествии они не вспоминали.
В Генуе царило веселье.
Кто-то привез слухи об успехах маленького Паганини. и маркиз ди Негро прислал письмо с приглашением выступить на вечере с знаменитейшей певицей Северной Италии Терезой Бертинотти. На этом же концерте Крейцер-старший играл на клавесине свои сочинения.
Паганини успешно выступил у ди Негро с тем спокойствием и уверенностью в себе, которые дало ему первое большое жизненное испытание.
Со своим новым положением Паганини быстро освоился. Несмотря на бранные клички, которыми награждали его сестры, на завистливые и почти ненавидящие взгляды, которые бросал на него брат, Паганини чувствовал себя центром семьи.
Старик Паганини напустил на себя удвоенную важность: чудо-ребенок, выращенный любящим отцом и самоотверженной матерью, которые все сделали для того, чтобы развернуть талант сына, – вот новая вариация, избранная старым Паганини.
Мать Никколо радовалась этой перемене, принимая все за чистую монету. Она боготворила сына за его благотворное влияние на отца.
Однажды господин Крейцер остановил свой экипаж около мрачных дверей дома в Пассо ди Гатта Мора. Богатый музыкант, артист с аристократическими манерами и внешностью французского маркиза, Крейцер зажал нос шелковым платком, когда шел по лестнице.
Господин Крейцер долго внушал синьору Антонио от имени маркиза ди Негро, что мальчика необходимо отправить в Парму, ибо в Парме живет единственный скрипач, который может завершить музыкальное образование маленького Паганини. Мальчик слышал это имя. Ди Негро и Крейцер уговаривали отца поехать к Алессандро Ролла.
Прошла неделя. Снова легкий запах горных цветов врывается в окна открытой кареты. Старик и мальчик со скрипкой едут в мальпосте по дороге на Парму.
Приехали в полдень.