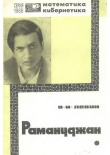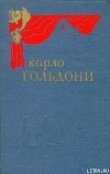Текст книги "Осуждение Паганини"
Автор книги: Анатолий Виноградов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава седьмая
Граф Козио
Синьор Паганини сообщил Терезе:
– Я получил от графа Козио вспомоществование в десять луидоров.
– Разве у нас нет больше своих денег? – спросила взволнованно синьора Тереза.
– Ах, опять ты со своими причудами! – гневно отозвался старик. – Не могу же я тратить на щенка деньги, которые мне доверили мои хозяева. Еще не скоро выдавишь из него хотя бы чентезими. Но его надо учить и учить! Граф Козио говорит, что из мальчишки ничего не выйдет, если он немедленно не будет брать уроков у синьора Роллы. Но ты знаешь, как дорого Ролла берет за уроки. Я думаю, что лучше вовсе не учить мальчишку за деньги, а просто отправиться путешествовать с ним по Ломбардии, как только уйдут проклятые французы. А они уйдут, поверь мне, уйдут. Здесь вчера собрались священники, приехал жандарм, из Вены под видом каноника, он привез хорошие вести. Французов бьют повсюду, их скоро не будет.
С этими словами старик достал толстый зеленый бумажник и вынул оттуда кипу каких-то билетов.
– Вот, – скачал он, – с тысяча семьсот восемьдесят девятого года эти документы перестали иметь хождение во всем мире. А после смерти французского короля нашлись короли, которые стали мешками уничтожать французские акции, вышедшие при короле. Вот теперь я их скупил во всей Кремоне. Месяца не пройдет, как я буду самым богатым человеком в Ломбардии.
– А если французы не уйдут?
– Уйдут. Здешний астролог предрекает им полное поражение, звезды и планеты предсказывают им гибель. Марс вошел в созвездие Астреи, а Астрея – это Австрия, австрийская монархия Габсбургов. Ты знаешь, я после выигрыша пожертвовал деньги на церковь. Аббат Саганелли говорил мне: «Скупайте эти акции, скупайте». Я у него купил их на две тысячи лир...
* * *
...Старый Козио рассказывал маленькому Паганини историю скрипки.
– Слышишь, мальчик, – говорил старик, расхаживая по огромному пустынному залу своего дворца, – здесь родина самой великой скрипки в мире. Это произошло потому, что здесь растет азароль – одним нам известная порода деревьев, и здесь природа делает человека таким чувствительным к звукам и таким влюбленным в высокое мастерство. Три века тому назад в нашем городе жил некий Джованни Марко дель Буссетто. Он принял в свою семью некоего Андреа Амати. Буссетто был честным ремесленником, Андреа Амати был знатным синьором. Случилось так, что оба они сошлись на одном и том же любимом деле. Старый и молодой понимали друг друга так же хорошо, как мы с тобой сегодня. Андреа Амати так и не вернулся в свою знатную семью Семья считала, что он опозорил родовой титул тем, что сделался ремесленником. До сих пор многие не понимают, что благородное искусство делать скрипки не относится к разряду черных ремесел. Вот поди к синьору Паоло Страдивари: он будет скрывать, что он происходит от скрипача, от скрипичных мастеров, хотя его купленный титул хуже, чем природный талант скрипичного мастера. Но не буду говорить о синьоре Паоло. Он хороший человек, он пишет свои хроники и летописи для отдаленных потомков, он не живет нашей жизнью... Почему Амати ушел из семьи? Смешно сказать – почему. Маленький Андреа Амати играл вместе с детьми Буссетто Детям ремесленника позволяли играть в саду Амати. Амати бывал в мастерской у Буссетто. Андреа Амати начал с игрушек. Он делал игрушечные скрипки, Буссетто ему помогал. Во время отлучки отца маленький Амати вырубил грушевые деревья в отцовском саду и подарил их Буссетто. Ты знаешь, что из груши делают деки аматиевских скрипок. Когда старик Амати вернулся домой и увидел, что делается в саду, он, не смотря на уговоры стариков, не нашел ничего лучшего, как швырнуть своего ребенка в тюрьму. Вот с этого началось. Когда мальчика выпустили из тюрьмы, он остался в семье Буссетто, и никакие уговоры отца не заставили его вернуться домой.
Старик подошел к шкафу и указал на тонкие пластинки мелкослойного золотистого дерева:
– Вот это грушевое дерево, плоды которого оказались так горьки для маленького Амати и так сладки для нас... Старики умирают раньше молодых. Отец почти всегда умирает раньше сына. Андреа Амати сделался наследником большого состояния. Но вот тебе пример благородного увлечения: он уже не мог бросить своего ремесла и сделался мастером скрипки. Может быть, правду говорят, что он получил в тюрьме повреждение ума. Он работал в каком-то лихорадочном бреду. Он так спешил, так напрягался из последних сил, что ни днем, ни ночью не знал покоя. Он ничем не занимался, кроме изготовления скрипок, и если жена забывала принести ему обед в мастерскую, он мог, не чувствуя голода, просидеть двое – трое суток, пока не кончит работы. Ему было предсказано, что он получит бессмертие после изготовления четырехсотой скрипки. Он спешил, хотя прекрасно знал, что это бессмертие не будет бессмертием его телесной оболочки. Каждая новая скрипка была лучше предыдущей. Поэтому он знал, о каком бессмертии идет речь. Руки Амати были изрезаны, с двух пальцев сорваны ногти, и эти уродливые руки, в мозолях, порезах и кровоподтеках, обладали такой гибкостью, как твои детские пальцы.
Старый Козио взял руку Паганини и, высоко подняв ее, поднес к своим слабым глазам.
– У тебя каждый палец похож на утиный нос. Уродство, да и сам ты некрасив. А такие пальцы лучше всего для игры.
Вскоре маленький Паганини научился различать породы скрипок. Он смотрел на высокие своды, на вырезанные эфы, изящные, стройные, наклоненные друг к другу, словно ангелы на картинах фьезоланского монаха.
– Это не сильная скрипка. Князья и герцоги любили слушать скрипачей в маленьких комнатах, им нужны были сладкие, нежащие и тихие звуки. Поэтому никогда не играй на скрипке Амати в больших залах. Если ты будешь играть в этой зале в том углу, где стоит мой письменный стол, тебя трудно будет услышать в середине комнаты. Мягкие и приятные тона – это неплохая вещь. Но когда наша республика боролась с поработителями, когда свора Габсбургов кинулась на Северную Италию, другим людям понадобились другие звуки. Я был в Милане, когда давали концерт огромному собранию господ офицеров. По лицам этих людей можно было видеть, что новые кондотьеры хотят найти в звуках отклики своей боевой мощи. Рыцари новых войн, они ничего не поняли в мягкой и нежной игре скрипки Амати, а вот когда Серветто, скрипач из вашей Генуи, вышел на эстраду с громадной скрипкой Страдивари и стал резать воздух звуками, от которых могли бы погибнуть стаи перелетных птиц, тогда вдруг выпрямились фигуры этих людей, откинулись плечи, расправилась грудь, и глаза загорелись... – Козио остановился, потом, как бы в раздумье, продолжал: – В Версале, под Парижем, была самая лучшая в мире коллекция инструментов Амати. Она исчезла в тысяча семьсот девяностом году бесследно. Это были шесть альтов, две виолончели и восемнадцать скрипок. Вся коллекция была заказана для струнного оркестра французского короля Карла Девятого. Теперь говорят, что остатки этой коллекции за баснословные деньги скупили англичане в европейских городах.
Паганини слушал, боясь прервать рассказчика. Козио переходил с одной темы на другую:
– У Андреа Амати было два сына, которые продолжали его дело, – Джеронимо и Антонио. Братья полюбили одну и ту же девушку. До этого несчастья они работали вместе, работали дружно, не делясь. Девушка вышла замуж за Джеронимо, и семья распалась. Братья стали работать порознь. Антонио навещал семью брата. Посещения становились все реже и реже, а потом однажды Антонио нашли повесившимся у входа в мастерскую. Джеронимо продолжал дело семьи. По его стопам пошел и его сын Никколо, самый талантливый из Амати. Никколо принимал к себе в мастерскую учеников со стороны. Так у него приютились и Андреа Гварнери и Антонио Страдивари. Оба стали знаменитыми скрипичными мастерами. Ты был у синьора Паоло, он врет, что Страдивари знатного рода, это все вздор и выдумки. Их знатность – в скрипке.
Козио показал маленькому Паганини старинный портрет Страдивари с тремя сыновьями и дочерью. Страдивари был изображен в мастерской. Он стоял в белом замшевом фартуке и в красном сафьяновом колпаке и держал кусок дерева и инструменты.
– Я сам раскрасил эту гравюру, – сказал Козио, – и, по-моему, цвета взяты верно. Я показываю тебе этот портрет, чтобы ты видел, что этот обыкновенный ремесленник – вовсе не сенатор и вовсе не патриций. Но знаешь ли, мальчик, я готов променять свой старинный графский титул на способность сделать хотя бы одну такую скрипку, какую сделал этот Страдивари, когда ему исполнилось сто шесть лет!
Старый граф повел мальчика к другому шкафу.
– Вот смотри: золотистый лак, он не закрывает ни одной черточки в рисунке древесного слоя. Смотри, дерево похоже на пятнистую шкуру леопарда, а верхняя дека – без единого сучка и пятнышка, она покрыта волосными линиями! Этому дереву не меньше трехсот пятидесяти лет. Рассказывали, что во время войны Венеции с турками Страдивари закупил огромное количество дерева, которое шло на постройку турецких кораблей. Это дерево сушили десятки лет. Потом, когда восточный берег Адриатики стал недоступным, никто уже не мог покупать этого дерева. Мелкослойная ель встречается кое-где на наших горах, но ее нужно долго выдерживать, чтобы она стала пригодной для этой тонкой и сложной работы. А за рубежом, за берегами Адриатики, на недоступной высоте растет балканская ель, как бы нарочно созданная творцом для скрипичных мастеров...
Козио показывал мальчику скрипку за скрипкой.
– Один и тот же мастер, посмотри, никогда не делал скрипок одной и той же формы. Они все разные, взгляни. Если ты возьмешь циркуль и измеришь расстояние между эфами, то заметишь, что все эфы во всех скрипках расставлены по-разному и наклон их к оси скрипки тоже разный. А что это значит? Это значит, что скрипичные мастера владели тайной дерева. Они знали, что разные породы дают разный звук, и вот по тому, как они вычерчивали эфы, ты видишь, как глубоко они проникли в тайны своего ремесла. Эфы дают у них в каждом случае особо высокое качество звука. – Он осторожно вынул еще одну скрипку. – Вот эту я снимаю очень редко. Это – «Лебединая песнь». Так называется она потому, что это – последняя скрипка, сделанная Страдивари перед смертью, на сто седьмом году жизни. Старик работал лучше, чем в молодости.
Страдивариеву скрипку старый граф называл серебряной, звуки альтов сравнивал с золотом, виолончель, по его мнению, давала бронзовый тон, а контрабас звучал медью.
Однажды, в минуту откровенности, Козио признался мальчику, что он разломал четыре скрипки Страдивари. На цыпочках, говоря шепотом, словно боясь, что его услышат посторонние люди, граф подвел мальчика к низенькой двери. Зажег свет в полутемной комнате и с видом человека, совершающего неизбежное преступление, показал на четыре деревянные пластинки, привинченные к столу. Смахнув пыль со старинного камертона, Козио ударил им о стену.
– Слышишь? – шепотом спросил старик.
Мальчик ответил:
– Да.
– А это похоже?
– Да.
– Но ты понимаешь? Поет камертон, и одинаково поет деревянная пластинка, вырезанная из скрипки Страдивари. Этот звук дает пятьсот двенадцать колебаний... Ну, а это? – старик тронул другую пластинку.
Мальчик кивнул головой. Они перепробовали все пластинки, и каждый раз маленький Паганини кивал головой:
– Это тоже! И это тоже!
Звуки были равной высоты и частоты.
– Видишь, – сказал старик, – это все – пятьсот двенадцать колебаний в секунду. У тебя хороший слух, мальчик! Так вот, смотри: это – деревянная пластинка из скрипки Страдивари, сделанной им в тысяча семьсот восьмом году, а рядом я заставил звучать кусок дерева из скрипки, сделанной тем же мастером в тысяча семьсот семнадцатом году. Это волнистый клен. А вот рядом – пластинка из ели. Скрипка сделана в тысяча шестьсот девяностом году. А вот тут – последняя пластинка: тоже из ели. Скрипка сделана в тысяча семьсот тридцатом году. Приступим к опыту.
Глаза старика загорелись молодым огнем. От тихих едва заметных ударов пластинка запела. Мальчик назвал:
– Ля диез!
– Хорошо! – сказал Козио.
Вторая пластинка дала ту же ноту. Третья и четвертая – то же. Под ударами опытной руки одновременно запели все четыре пластинки сразу.
Мальчик стоял молча и слушал, широко раскрыв глаза, не отрывая их от кусочков дерева. На лице его учителя застыла улыбка маньяка.
Наконец, старик продолжал:
– Для того чтобы получить такой серебряный звук, нужно сочетать природные свойства клена и ели. Звуки всегда живут в природе, но звук надо поймать, его надо приручить, как птицу, порхающую по этим деревьям в молчании. Ее надо приручить настолько, чтобы она запела. Заметь, мальчик, верхняя дека скрипки всегда делается из ели, нижняя – всегда из клена. И еще я высчитал, что ель обладает способностью в шестнадцать раз быстрее порождать звук, чем воздух. Звук, рожденный в скрипке из сочетаний малой скорости колебаний клена и большей чувствительности ели, получит соотношение двенадцать к шестнадцати. Но многие думают, что звук родится однотонным в верхней и нижней деках. Это два различных звука. Благозвучность природы состоит в том, что они сливаются в единый, цельный, совершенный, нераздельный звук. Однажды я заказал скрипку сплошь из клена, с деками одинаковой толщины. Эту скрипку нельзя было слушать, у нее был отвратительный глухой тон. Природа не терпит однообразия, мальчик. Верхняя и нижняя деки должны звучать по-разному, и разница должна равняться целому тону. Чистый и неделимый звук, рождающийся из этого, совершенно подобен сплаву двух благородных металлов, из которых каждый порознь слаб и мягок, а в сочетании с другим дает твердость и крепость. Из двух слабостей родится сила. Помни, что размеры скрипки нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Как только количество воздуха в скрипичной коробке увеличится, так шантрель начнет визжать, как собачонка, которой наступили на хвост, а звук басовых нот станет слабым, глухим и сиплым, как бред пьяного человека. Если уменьшить коробку, получится обратное явление. Заглохнет четвертая струна, а бас закричит сипло. Но не думай, что все это остается неизменным. Меняется природа, меняются люди. У каждого поколения новые уши. Камертон нынешнего века звучит иначе, нежели камертон прошлых столетий. Когда будешь играть перед большим скопищем людей, настраивай скрипку иначе, чем настраивал бы ее, играя перед семьей в пять человек. Твои дед и прадед иначе слышали звуки природы, им нравилось слушать одно и закрывать уши на другое, и это делалось невольно, без всяких ухищрений с их стороны. В этих делах человек не может лгать сам себе, нельзя уговорить нынешнее поколение настраивать музыкальные инструменты по камертону прошлого столетия. Вот старый Тартини шестьдесят лет тому назад измерил давление натянутых струн на скрипичную коробку. Тогда он получил цифру шестьдесят три фунта. Но помни, что струны тогдашнего времени были тоньше, а подставка, держащая струны, была ниже, струны тесней прилегали к верхней деке. Поколение нынешних людей предъявляет другие требования, они не слышат старой скрипки, и вот пришлось повысить камертон, колебание струн тоже увеличилось, и подставка под струнами стала выше, струны натянулись горбылем на верхней деке. Подставка поддерживает струны так, что мышь может пробежать между шантрелью и верхней декой. Знай, мальчик, что диапазон по сравнению с прошлым веком повысился на полтона, а давление струн на деку теперь не шестьдесят, а восемьдесят фунтов. Человек стал натягивать струны сильнее, и нервы людей напрягаются больше. Время летит быстро, дни сменяют другие, и непрестанно меняются люди. Что будет дальше, где остановится изменение человека? Уже теперь, я замечаю, мир меняет свои краски, ухо ловит иные звуки, и думается мне, что тускнеет солнечный свет...
Козио сел на маленький диван. Вынув платок, он порывисто вытер слезы. Потом поднялся и за руку вывел Паганини из комнаты.
– Пойдем, мальчик, – проговорил он. – Никому не рассказывай, что ты от меня слышал. Природа не любит выбалтывать свои тайны, она мстит любопытным.
Глава восьмая
Путь по звездам
В Геную семья возвратилась в новом составе.
В Кремоне произошло неожиданное примирение синьора Антонио с дочерьми Лукрецией и Маргаритой, о существовании которых Никколо до этого даже не знал, так как в семье не принято было о них говорить. Семья Паганини увеличилась сразу вдвое, так как дочери синьора Антонио были уже замужем.
Муж старшей, Лукреции, оказался весьма беспокойным человеком. В первые же дни знакомства он успел чуть не до драки поссориться с синьором Антонио, а по приезде в Геную целые дни проводил за игрой в карты с незнакомыми людьми. Он много проигрывал, а когда ему везло, домой являлись люди, обыгранные им, и поднимался адский крик, тревоживший всю округу.
А тут еще сильно пошатнулись дела синьора Антонио.
С маниакальной настойчивостью, уподобляясь средневековому астрологу, он вглядывался в вечернее небо, наблюдая перемещение планет, и бормотал себе под нос сложные астрофизические формулы; он говорил о влиянии звезд на движение человеческой крови, о влиянии планет на судьбу его семьи. В его словах странно смешивались поиски гороскопа с выкладками предстоящих барышей. В руках этого маклера счетная машина Паскаля и Лейбница превращалась в инструмент для бухгалтерских подсчетов, логическая машина Раймунда Луллия, искавшая философскую истину, становилась лотерейным колесом, которое должно было обеспечить покупку выигрывающих номеров. Астрологические, алхимические поиски жизненного эликсира и философского камня, которые у средневековых безумцев связывались с мечтами о человеческом счастье, об устройстве человеческого общества, у старого Паганини превращались в искание средств для биржевого обмана природы, для маклерских сделок с темными силами.
Но все оказывалось напрасным.
Обязательства перед банкирами не были выполнены. Старый Паганини ссылался на кражу в дороге, на кражу в Кремоне, на неудачи вследствие военных затруднений и на многое другое, но синьоры директора, старые банкиры, видали виды. Начался длинный судебный процесс.
Синьора Антонио стали избегать прежние друзья. Если раньше он важно восседал за своим маклерским столом, то теперь сам бегал в поисках матросов, разузнавал, какие товары прибыли в порт, да и то, когда он являлся, чтобы заключить сделку, он заставал недовольных, замолкавших при его появлении купцов; сделка состоялась помимо него. Каждый день биржевой неудачи удвоенной тяжестью ложился на семью.
Вернулся после долгой отлучки старший брат. Он пришел в ужас, когда увидел маленького скрипача.
– Что все это значит? Как держится душа в этом щенке? – грубым, осиплым голосом спросил он у отца: костлявый мальчик, кашлявший кровью, едва держался на ногах.
После ужасающей сцены между Франческо и синьором Антонио, когда Франческо едва не ударил отца, мать всю ночь плакала, стоя на коленях перед маленькой постелькой Никколо. Она говорила, что все надежды семьи связаны с его прилежанием, – он должен во что бы то ни стало добиться успеха.
Отец не дал ни байокко для платежа Джованни Серветто, с которым, по совету Козио, Никколо занимался, вернувшись в Геную.
– Синьор Серветто уже дал лучшие указания, какие только можно было получить в этом мире юдоли и печали, – сказал синьор Антонио.
Серветто обиделся, и уроки пришлось прекратить, Правда, к тому времени основные трудности владения инструментом были уже преодолены, a vista[1]1
с листа (итал.)
[Закрыть] мальчик играл уже гораздо лучше самого Серветто, – но впереди было еще столько работы!
Соседние кумушки принялись усиленно шептаться с синьорой Терезой. Откуда-то синьора Тереза раздобыла деньги. Воспользовавшись днем, когда синьор Антонио должен был задержаться в суде, она повела сына к синьору Джакомо Коста. Синьор Джакомо Коста был преподавателем генуэзской капеллы и играл первую скрипку во всех церковных оркестрах Генуи.
Синьор Коста прослушал маленького Паганини.
На следующий день Паганини играл в соборе. По окончании службы синьор Коста подозвал мальчика и приказал ему приходить пять раз в месяц к нему на дом.
После первых же занятий синьор Коста был совершенно поражен отчетливостью звука, чрезвычайной восприимчивостью своего ученика и быстротой его работы. А через полгода, когда Тереза Паганини тайком от мужа принесла деньги за тридцать уроков, синьор Коста уже прикидывал с довольной улыбкой, в каком соотношении находятся эти деньги и его выручка от церковных концертов, в которых участвовал Паганини.
Синьора Тереза удостоилась расположения высшего духовенства Генуи и перемену, происшедшую в делах семьи, приписала божественному произволению.
Синьор Антонио перестал пить. Глядя на сына, он ласково посмеивался. Особенно он был обрадован, когда при встрече с синьором Коста узнал, что синьор Джакомо не желает брать с него денег. Оба остались довольны; синьор Джакомо – своим учеником и доходами, которые давал этот ученик, синьор Антонио Паганини – великодушием синьора Коста, великодушием, которое весьма ощутимо сказывалось на бюджете семьи Паганини.
Но вскоре внезапно обнаружилось корыстолюбие синьора Коста, и синьор Антонио почувствовал себя оскорбленным и обманутым. Выпив соответствующее количество вина для бодрости духа, он отправился для переговоров. Ругань слышна была далеко за пределами скромного жилища мастера церковной капеллы. Разрыв был полный. Уроки у синьора Коста прекратились. Синьор Коста не согласился оплачивать концертные выступления своего ученика и не дал ни байокко разъяренному синьору Антонио. Дело приняло плохой оборот.
Синьор Коста собрал сведения о крещении, о детских годах своего ученика и пришел к заключению, что скрипичный талант мальчика, его необычайная музыкальная одаренность, невероятная для отрока музыкальная техника не могут быть объяснены божественным вмешательством. Тут несомненно вмешательство нечистой силы и несомненно демонское влияние. Проклятие повивальной бабки было причиной необыкновенных успехов маленького Паганини.
В день, когда произошел разрыв, Никколо Паганини еще не знал о разговоре своего отца с синьором Коста. Он, ничего не подозревая, взял скрипку и направился к учителю. Тихо и скромно постучал в дверь. Мощная оплеуха заставила его кубарем скатиться с лестницы.
Он едва не сшиб с ног высокого черноглазого человека, поднимавшегося к синьору Джакомо.
Испустив поток проклятий, незнакомец остановил мальчика.
– Откуда ты, что с тобой, куда ты летишь, чертенок?
Паганини махнул рукой, пытаясь что-то сказать, – слезы сдавили ему горло.
– Да что ты? В чем дело? – настаивал незнакомец...
– Подожди здесь, – сказал он, когда Паганини рассказал ему о своей беде.
Паганини ждал внизу все время, пока синьор Коста на верхней площадке лестницы говорил с гостем. Паганини слышал, как синьор Коста, обращаясь к незнакомцу, называл его «милый Ньекко». Из разговора было ясно, что незнакомец этот – знаменитый композитор Ньекко, оперы которого разыгрывались во всех театрах Северной Италии, в Неаполе, Венеции, Милане, Падуе, Ливорно. Паганини слышал отрывки из сочинений Ньекко в Генуе, он знал, что оперы Ньекко ставятся даже в Вечном городе.
Сладкое и томительное предчувствие охватило мальчика, когда он услышал, что разговор закончился и синьор Ньекко сходит вниз.
Синьор Ньекко прошел мимо мальчика, ничего ему не сказав. Паганини молча шел за ним. У двери старого дома на улице Архимеда синьор Ньекко заговорил:
– Я тебя слышал, дьяволенок со скрипкой. Я, конечно, не верю всякому вздору о вмешательстве нечистой силы в твою судьбу: слишком много для тебя чести. Но ты действительно какое-то маленькое чудо. А тебя бьет отец? – вдруг, без всякого перехода, спросил он.
– Сильно, – ответил Паганини с большой выразительностью.
– И, должно быть, это идет на пользу? – насмешливо щурясь, спросил синьор Ньекко, открывая перед мальчиком дверь большой, красиво убранной комнаты.
Ноты, набросанные золотыми чернилами на красные линейки, поразили маленького Паганини. На всех вещах в этой комнате лежала печать изысканности и изощренности. Клавесин, арфа, красивые серебряные трубы, флейта, фагот, гобой и набор мелких колокольчиков из цветного металла, красных, белых, синеватых, желтых; пюпитры, пульты, палочка из слоновой кости с золотым наконечником; кресла, обитые тисненой испанской кожей, этажерка с книгами и партитурами в кожаных переплетах, горка из ярко-алого венецианского стекла; серебряный стакан с красным вином и большой восточный сосуд из какого-то белого металла на столе, украшенном флорентийской мозаикой. Паганини казалось, что все это – во сне.
Синьор Ньекко открыл футляр, внимательно осмотрел скрипку маленького Паганини, отложил ее в сторону, подошел к застекленному резному шкафу, достал большую скрипку вишневого цвета, смычок и протянул Паганини. Потом подвинул к нему пюпитр и раскрыл маленькую тетрадку, мелко исписанную нотными знаками...
– Ну что же, – говорил Ньекко, когда Паганини кончил играть, – этот месяц я пробуду безвыездно здесь. Приходи каждый день. Если не застанешь меня, посиди, подожди, играй один. Впрочем, в этот час я всегда бываю дома.
Прошло всего четыре дня. Синьор Франческо Ньекко не пропустил ни одного урока. И всякий раз, с трепетом сердца приближаясь к улице Архимеда, мальчик испытывал горячее чувство благодарности судьбе, приведшей его в хоромы синьора Ньекко.
Гусиные перья, золотые чернила, красные линейки на толстой желтоватой бумаге, насмешливо прищуренные глаза, добрый голос...
– Я должен тебя поздравить, – говорил Ньекко, – я ни у кого не встречал такого слуха. – Как бы усиливая значение этих слов, синьор Ньекко кивнул головой. – Но я должен тебе сказать, что когда ты фантазировал прошлый раз, тебя было слушать приятнее, чем когда ты играл мои вещи. Ты переделываешь мои вещи, а не играешь их так, как я сыграл бы сам. Ты всегда все будешь переделывать в жизни. Ты ни на чем не остановишься удовлетворенным до тех пор, пока не переделаешь по-своему. И мой совет тебе: когда будешь выступать перед публикой, не играй пьес ныне живущих композиторов: ты оскорбишь их своим исполнением, хотя, быть может, то, что ты придашь чужому творению, будет богаче, нежели замысел его создателя. Хорошо, что ты встретил композитора с моим характером, – другой влепил бы тебе хорошую затрещину за твои фантазии, за какую-то, даже не свойственную твоему возрасту, страстность, которую ты вливаешь в звуки чужой музыки... Ну, за дело! Не бойся испугать меня фантазией: ты должен не только играть чужое, но и творить свое... Что ты краснеешь, маленькая обезьяна? – вдруг нахмурясь, прервал Ньекко самого себя. – Я ничего не сказал тебе особенного, не вздумай задирать нос!
Тогда Паганини робко и неуверенно признался синьору Ньекко, что он никак не мог примириться с требованиями синьора Коста.
– У меня никакого желания не было, – говорил мальчик, прижимая руки к груди, – перенимать у синьора Коста его способ ведения смычка. Я считал, что он применяет какое-то насилие, занимаясь со мной. Я всегда выполнял его предписания против воли. Я даже рад, что от него перешел к вам...
– Хорошо, хорошо, – возразил синьор Франческо, – я не люблю лести. Когда ты перейдешь к следующему учителю, через какой-нибудь месяц ты, вероятно, будешь говорить ему то же самое обо мне.
– Никогда в жизни! – вспыхнув, воскликнул Паганини.
– Что делает твой отец? – спросил синьор Франческо.
– Заставляет меня играть в церкви.
Синьор Ньекко кашлянул.
– Набожные итальянцы охвачены сейчас скрипичным безумием. Мальчик со скрипкой, как тебя называют, ты привлекаешь в церковь много народу, это повышает доходы святых отцов. Смотри, из тебя сделают святошу.
– Нет, – сказал Паганини. – Я не люблю тягучей музыки.
– Я думаю, что игра в капелле может только испортить музыканта, – с расстановкой произнес Ньекко.
...Странная дружба установилась между оперным композитором и «дьяволенком со скрипкой», как называл Никколо синьор Ньекко.
Однажды, когда зашла речь о путешествии в Кремону и когда маленький Паганини старался выложить все свои знания по истории инструмента, Ньекко, с особым вниманием вслушивавшийся в рассказы мальчика о французских войсках, перейдя внезапно от разговора о музыке к политической теме, впервые познакомил маленького Паганини с историей порабощения Ломбардии австрийцами. Он говорил о значении французского нашествия на Италию, говорил быстро, как бы перебивая самого себя. Он сообщил мальчику, что сам он родом из Милана. В Милане, старом вольном городе Ломбардии, чувствуется острее всего недовольство австрийским гнетом. Каковы бы ни были средства, помогающие освободить Италию от варваров, как говорил Петрарка, все эти средства хороши. Французские войска гонят австрийских жандармов. они гонят немецких попов, приехавших из Вены, а прокламации Бонапарта несут с собой освобождение от религиозного и политического гнета, и поэтому – еда, здравствует французское оружие!.."
После этого разговора Паганини почувствовал особенную привязанность к синьору Франческо. Доверчивость, с какой учитель относился к маленькому ученику, была вознаграждена.
Это чувствовал синьор Ньекко и нередко, указывая Никколо на черномазых людей на ярко освещенной мостовой, с осликами, запряженными в тележку, из которой горой поднимались кули древесного угля, осторожно кивая в их сторону, говорил:
– Погоди, дьяволенок, будет время, я расскажу тебе об иных угольщиках, несущих другой, более тяжелый груз.
Итальянское слово «карбонарии» – «угольщики» – Паганини уже слышал неоднократно в «Убежище». Раз как-то с таинственным видом сообщили ему ребята об аресте двух, живших в «Убежище», карбонариев. Паганини знал этих людей. У них были бледные лица, тонкие длинные руки. Одежда не носила никаких следов угольной пыли. И когда маленький Паганини спросил, почему же они – угольщики, ребята ответили: «Не знаем».
Подводя мальчика к раскрытию тайны, Ньекко рассказал о том, что есть лесные братья, которые добывают уголь, сжигая старые деревья. Эти лесные братья выходят из леса на рынок. Таким образом, фореста, баракка и вента постепенно входили в ряд усвоенных и привычных понятий Никколо. Но как только мальчик просил объяснить то или другое слово, синьор Ньекко прикладывал палец к губам.
Маленький Паганини сделал новую вариацию итальянской «Карманьолы» и присочинил свою собственную музыкальную тему, ту зажигательную французскую песню, которую он слышал случайно от французских матросов на берегу моря в тот день, когда красивые молодые марсельцы распевали эту песню, поднимаясь на высокий берег. Эта песня звала к восстанию всех детей родины, она говорила о том, что поднято знамя, алое от крови народа, о том, что наступили дни славы. Каждый куплет заканчивался словами: «К оружию, граждане!»