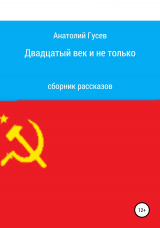
Текст книги "Двадцатый век век и не только"
Автор книги: Анатолий Гусев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Сначала вам надо переодеться, генерал.
– Привыкай называть меня на «ты», Иштван.
– Хорошо, Штефан.
Корнилов опять переоделся, на этот раз в форму рядового австрийской армии, повязка с головы была снята. Ляписом (азотнокислое серебро) Франтишек выжег генералу родинку во всю левую щёку, сбрил ему бороду, постриг усы. Последний штрих – трубка во рту и образ бравого солдата австрийской армии был готов.
Они надели ранцы и не спеша вышли из аптеки. Прощальное письмо осталось лежать в ящике стола.
Непринуждённо беседуя по-немецки, они беспрепятственно миновали ворота лагеря и направились на станцию. Там они заверили свои удостоверения, получили бесплатные билеты и сели в вагон поезда. Поезд тронулся и вскоре Кёсеге остался далеко позади.
На станцию Раб, где следовало пересаживаться на поезд до Будапешта Корнилов и Мрняк прибыли в семь часов утра. До отхода нужного им поезда оставалась ещё два часа, и они решили скоротать это время за кружечкой пивка в дешёвом привокзальном ресторанчике, как это делают все добропорядочные австрийские солдаты.
И не успели они расположиться за столиком, как в ресторанчик вошёл Карл Шварц санитар лагеря в Кёсеге, только что прибывший из Вены. Корнилова он знал в лицо, так как в его обязанность тоже входила слежка за пленным генералом. Франтишек сорвался с места с радостным воплем:
– Карл, из отпуска, сочувствую.
– Ты меня понимаешь, Франтишек.
Карл оглядел рассеянным взглядом зал ресторанчика, на мгновение остановился взглядом на Корнилове, но не узнал его. Корнилов невозмутимо взял газету, раскрыл её и сделал вид, что читает.
– Конечно, сам недавно из отпуска.
– Да… – понимающе закивал головой Карл. – Постой, а что ты тут делаешь?
– Жду. У меня тут живёт, ну, как тебе сказать … Знакомая. Идти к ней ещё рано. Вот и жду.
– А что в Кёсеге перевелись женщины?
– Мне не нравятся мадьярки.
– А что есть разница?
– Не в этом дело, Карл. Тут всё серьёзно. Она чешка, живёт в Праге на соседней улице со мной. Когда в июле был дома в отпуске, там и познакомились. Маме она понравилась. Возвращались из отпуска вместе, она здесь сошла, а я дальше поехал.
– А вот почему ты опоздал тогда немного.
– Да. Только ты, пожалуйста, никому не говори. Скажут: война, а он жениться надумал.
– Почему? Что здесь такого?
– Ну, не надо, я прошу. Я ещё не делал ей предложения … Боюсь, смеяться будут.
– Ну, если ты настаиваешь, Франтишек …
– Настаиваю.
Они беседовали ещё какое-то время, потом Мрняк проводил Карла до вагона поезда и лично убедился, что он уехал. Чех поспешил в пивную.
Франтишек подошёл к Корнилову и со стуком опустил кружку с пивом на стол.
– Уехал? – спросил Корнилов, отрываясь от газеты и вынимая трубку изо рта.
– Уехал, – кивнул Мрняк и залпом осушил кружку, выдохнул и сказал: – И нам пора.
В двенадцать часов ночи их поезд прибыл в Будапешт, а поезд на Карансебеш будет только в шесть утра. На вокзале ночью находиться, кому бы то ни было, запрещалось.
– Ну, что в отель? – сказал Корнилов.
– Отель нам не по чину, Штефан.
– Согласен, не подумал. Так что будем делать? Я простой казак и в еде и ночлеге не привередлив.
Беглецы стояли на привокзальной площади, мимо них по одному, по двое шли куда-то солдаты.
– А куда это все солдаты идут? – спросил Корнилов.
– Тут ночлежка при вокзале для солдат, возвращающихся из отпусков на фронт.
– А мы разве с тобой генералы, Иштван? Нам туда.
– Там документы проверяют.
– Но ты же их хорошо сделал, в Кёсеге не заметили. На твоих бумагах настоящие печати. Не робей, пошли.
Дежурный офицер в ночлежке внимательно разглядывал документы беглецов.
– Вы вдвоём направляетесь в пункт назначения?
– Да, вдвоём, в Карансебешь, герр офицер.
– Тогда в общем зале одна кровать на двоих, вон та.
Франтишек замялся.
– Что-то не так, солдат? – строго спросил офицер.
– Всё так, – ответил за Мрняка Корнилов, – спасибо, герр офицер. Наши документы?
– Получите утром.
– Понял. Разрешите идти?
– Идите, рядовые.
Они отдали честь, развернулись через левое плечо и направились в общую залу.
– Ты что ж, городской житель, брезгуешь лечь в одну кровать с простым казаком? – весело блестя чёрными глазами, спросил Корнилов.
– Вы же генерал, как-то …
– Где ты здесь видишь генерала?
– А где ты видишь здесь казака? – поддержал шутку Мрняк.
Беглецы добрались до своей кровати и, не раздеваясь, легли «валетом» и тут же уснули.
Их разбудили в пять часов утра, накормили завтраком, вернули проштампованные станционной комендатурой документы и вручили билеты до Карансебеша.
В вагоне поезда, наблюдая за вокзалом, Мрняк заметил солдата, опустившего письмо в почтовый ящик. Всё похолодело внутри: «Письмо! Как же я забыл про него?» Внешне Франтишек казался абсолютно спокоен, Корнилов ничего не заметил, а чех решил ничего ему не говорить, а сам стал внимательно наблюдать за происходящим на станциях, через которые проходил их поезд. Но всё было тихо, и Франтишек успокоился.
Между тем в Кёсеге, в лагере-госпитале умер русский офицер. На панихиде лагерное начальство не заметила генерала Корнилова. И отсутствовал помощник аптекаря чех Мрняк. Санитар Карл Шварц сообщил, что видел его в городе Рабе. На квартире у Мрняка произвели обыск и нашли то, злополучное письмо.
В шесть часов вечера поезд с Корниловым и Мрняком прибыл на станцию Карансебеш. Станция была оцеплена войсками. Проверяли всех. Но делать нечего: беглецам пришлось идти в здание вокзала в комендатуру.
Офицер внимательно изучал документы, оглядел военного полицейского и приставленного к нему солдата. Они стояли по стойки «смирно».
– Кого ищите?
– Сбежало двое русских солдат, – ответил Франтишек, стараясь изобразить венгерский акцент.
– Как вы относитесь к чехам?
– Я – мадьяр, герр офицер, – лихо ответил Мрняк.
– Сбежали двое. Русский генерал и чех. Увидите их, чеха пристрелите сразу, что бы ни мучился, ему всё равно грозит расстрел.
– Я понял, герр офицер.
– Вот ваши документы и запомните: вы в пограничной зоне. Вы обязаны отмечаться в местных военных комендатурах.
– Я понял, – дружно в один голос ответили русский и чех. – Разрешите идти?
– Идите.
Беглецы шли к выходу, с трудом сдерживая победную ликующую улыбку. Они искренне думали, что приключения их закончены. Дальше пешком в горы и через тридцать часов, максимум – через сорок восемь, они пересекут румынскую границу. Так, по крайней мере, рассчитал Корнилов.
Беглецы зашли в местный ресторанчик, подальше от вокзала, плотно перекусили и направились по дороге к горному хребту, покрытому лесом. Дошли они до него уже в полной темноте, выбрали подходящее место вдали от дороги и завалились спать.
Утро 14 августа выдалось тёплым и солнечным. Беглецы сняли с себя военную форму и переоделись в штатское.
– Нам идти на юг вдоль хребта семьдесят вёрст, – сообщил Корнилов. – А там вдоль Дуная на восток ещё десять. Но это, конечно, по прямой. Но мы же налегке, дойдём.
По дороге беглецы решили не идти, а идти лесом по западному склону. Оказалось, что по прямой, даже налегке, по горному лесу идти сложно. Пришлось обходить скальные выступы, продираться сквозь заросли. А по дороги постоянно разъезжали конные патрули, встречаться с которыми беглецам совсем не хотелось. К вечеру измотались донельзя, спали как убитые, а утром обнаружилось, что пропал компас.
– Не чего страшного, – сказал Корнилов, – идём вдоль хребта, по западному склону, мимо Дуная не проскочим.
Но идти по горному склону, это не самая лучшая идея. Спустились в долину, поросшую лесом.
– Хребет должен от нас быть слева, – сказал Корнилов.
Только вот из-за деревьев хребта видно-то и не было.
– Не люблю лес, – сообщил генерал, когда они после двух часов блужданий вышли на туже самую поляну, откуда начинали свой путь.
– Толи дело степь или пустыня: видно, откуда пришёл, видно, куда идёшь. Ориентиры видно. А лес …
Корнилов безнадёжно махнул рукой.
– Вот в молодости, помню, первую мою вылазку к неприятелю. В Афганистане дело было. В крепость Дейдали. Очень уж англичане о ней пеклись. Война с Англией того и гляди начнётся, а мы не об этой крепости, не о дороге к ней ничего не знали. Ну, я и съездил, путь разведал, пять фотографий крепости привёз. Я тогда, правда, с проводниками был, но и сейчас дорогу к крепости легко найду. Местность пустынная, ориентироваться легко.
– Вас тогда наградили, генерал.
– Конечно, выговор получил за самовольство, а мой командир генерал Ионов строгий выговор за то, что за мной не уследил. Но потом штабное начальство само меня послало в экспедицию по Персии и Белуджистану. А лес не люблю. Кто в степи родился, тот лес не любит. С лесом у нас в Японскую промашка вышла. Там река Хуанхэ есть, а на ней деревня стоит, Сандепа называется. У японцев опорный пункт. Её приказано было взять. Был январь 1905 года – туман, сопки, лес на сопках, вот Сибирская бригада чуток и промахнулась: ей надо было на восток идти, а она взяла чуть правей, на юго-запад. Взяли какую-то деревню китайскую, доложил командованию. А этот губошлёп Куропаткин почему-то подумал, что это Сандепа и доложил царю-батюшке. А это оказалась Бо-Атай-Цзы. Потом пришлось брать эту Сандепу в том числе и моей первой стрелковой бригаде. Взяли, но потом нас японцы оттуда выперли. А всё из-за леса вашего, ну, и бестолковость нашего командования со счетов списывать тоже нельзя. И войну эту Японскую проиграли по дурости. Япония уже выдохлась, Россия только-только раскачиваться начала, а война уж закончилась позорным миром. Так не воюют.
– А как вы в плен попали, генерал?
– Опять же из-за этого леса. Наше наступление захлебнулась, окружили. Моя дивизия, спасая наш армейский корпус, пошла на прорыв, но силы были слишком не равные. Четыре дня мы бродили по закарпатским лесам, шли по какому-то болоту… Ну, и пришли в плен, нас правда тогда было всего семь человек.
Не шёл тогда Корнилов, ни по какому болоту, его несли, он был ранен в руку и ногу, находился без сознания. Когда очнулся, он очень удивился, обнаружив над собой потолок больничной палаты, а не кроны деревьев. А за тот прорыв, что спас от полного разгрома 24 армейский корпус, император наградил Корнилова орденом Святого Георгия 3-й степени. Лавр Георгиевич об этом пока не знал.
Австрийцы его выходили, поставили на ноги. И первое, что сделал Корнилов после выздоровления, это попытался угнать аэроплан.
«Не благодарная скотина» – решили австрийцы. Для них вообще все славяне являлись скотами, это была аксиома, которая не требовала доказательств.
Четыре дня бродили беглецы по Румынским Карпатам и утром 18 августа обнаружили вдалеке постройку, над ней вился дымок.
– Дровосек, наверное, – предположил Франтишек.
– Наверное, – согласился Корнилов, – хорошо бы у него еды добыть и бутылочку вина. У меня сегодня день рождения, сорок шесть лет, можно было бы отметить.
– Поздравляю, генерал.
– Спасибо. Что ж пойдём, посмотрим.
Скоро они оказались на краю огромной поляны, как раз напротив хижины.
– Я один пойду, – сказал Франтишек.
– Если тебя поймают, то тебе грозит расстрел. Ты помнишь об этом? А мне – нет.
– Генерал, у вас сегодня день рождения и, к тому ж, я подданный этой империи, а вы нет. Я пойду. Мне проще найти общий язык с местными жителями. А вы, генерал, встаньте за дерево и наблюдайте. Мало ли что. Ваша жизнь ценнее, чем моя.
– Хорошо, – после минутного колебания, согласился Корнилов.
Мрняк спокойно пересёк поляну, открыл дверь в хижину. Внутри он увидел пожилую женщину. Она наполняла бутылки вином. Женщина подняла голову и удивлённо уставилась на Франтишека. Он с ней поздоровался по-немецки и попросил продать ему что-нибудь из еды и бутылку вина.
– Не разуме́м, – ответила женщина.
– Ра́зумим, – улыбнулся чех.
Женщина оказалась сербкой. Они быстро договорились. Кроме вина, женщина предложила чёрный хлеб и овечий сыр. Франтишек расплатился и повернулся к двери. В проёме двери стояли двое крепкого вида мужчин в штатском, вооружённых палками.
– Разрешите, – вежливо на немецком сказал Мрняк.
Но ту показался третий здоровяк, высокий, прилично одетый и без палки.
– Кто ты такой? – на чистом немецком языке спросил он. – И что ты тут делаешь?
– Я купил продукты, расплатился и ухожу по своим делам.
– Документы, – потребовал верзила.
– Я не обязан вам предъявлять документы.
Верзила молча показал документы офицера пограничной стражи. Мрняку ничего не оставалось делать, как предъявить свою фальшивку. Однако пограничник ничего не заподозрил.
– Почему не заверено? И почему вы в штатском?
– Так надо.
– Хорошо. Поедем в жандармерию, отметим удостоверение. Где остальные?
– Очень далеко. Офицер, у вас будут неприятности, если вы меня задержите.
– Это моя обязанность, задерживать всех подозрительных.
– Я не подозрительный.
– Разберёмся. Берите его ребята.
Франтишека взяли под руки и вытащили наружу.
Корнилов видел в бинокль, как неизвестные повели куда-то чеха. Он выждал немного и направился в хижину.
– Кто это? – почему-то по-русски спросил он удивлённую его появлением женщину.
– Ко е то? А! Граничари.
– Ясно. До Дуная далеко?
– Не. Ние дале́ко.
– Где?
– Тамо, – женщина указала рукой направление.
– Спасибо, – сказал Корнилов и направился к двери.
– Эй, чо́век, – остановила его женщина.
– Что?
Она протянула ему узелок с хлебом, сыром и вином.
– На, узми.
– Спасибо, тебе, хозяйка.
Корнилов шёл по направлению, указанному женщиной, чуть не нарвался на австрийских пограничников, но вовремя их заметил и бросился в кусты. Продрался сквозь них. За кустами небольшая полянка и обрыв. Перед Корниловым несла свои воды огромная река.
– Дунай. Что ж, хороший подарок на день рождения.
Корнилов решил остаться на этой полянке дня на два, отоспаться, отъесться и с новыми силами перейти румынскую границу.
Франишика Мрняка отвели в местную жандармерию. Обыскали, зачем-то раскрутили электрический фонарик, вытащили батарейку. В фонарике хранился листок бумаги, это оказалось сопроводительное удостоверение генерала Корнилова, выданное ему при взятии в плен. Чеха арестовали, и через пять дней он оказался в тюрьме в Братиславе.
Днём 22 августа 1916 года на площади румынского города Турну-Северин, русский военный агент, капитан второго ранга Сергей Модестович Ратманов принимал группу солдат бежавших из австрийского плена. Он подходил к каждому и записывал в блокнот имя, фамилию, звание. Десятый солдат – маленький невзрачный, в штатской одежде и недельной редкой щетиной на лице.
– Фамилия, имя, звание?
– Лавр Георгиевич Корнилов, генерал-лейтенант.
– Кто? – Ратманов чуть не выронил блокнот с карандашом.
– У вас что-то со слухом, капитан? Я – генерал-лейтенант Корнилов.
На капитана смотрели пронзительные чёрные умные глаза. Через полтора года, Ратманов, штабной офицер Добровольческой армии, вспомнит этот взгляд на ферме под Екатеринодаром и прослезиться.
Франтишека Мрняка приговорили к расстрелу, который потом заменили на десять лет тюрьмы. Но тут с кем поведёшься, от того и наберёшься: в августе 1918 года ему удалось бежать, а через месяц не стало Австро-Венгерской империи. Франтишек вернулся домой в Прагу.
Корнилова уже полгода как не было в живых.
03 июля 2020
Побывка
В конце февраля 1916 года на всём Турецком фронте шли ожесточённые бои. Русские войска приостановили наступление, и перешли к обороне. Турки же усилили натиск, проводили многочисленные разведки боем, ища слабые места в русской обороне. Если такое место находилось, то турки яростно вгрызались в него, продвигаясь вглубь русской обороны. В таких случаях в дело вступали казаки. Они отрезали неприятеля от основных сил и уничтожали его. Вскоре давление турок начало ослабевать, и русские части перешли в наступление.
Первого марта 1916 года три взвода 6-й сотни 3-его Линейного Кубанского казачьего полка под командованием прапорщика Григорьева преследовали отступающего противника. Сходу было занято селение Мама-Хатун.
Григорьев приказал занять господствующие высоты. И вовремя: турецкая конница, перегруппировавшись, пошла в наступление, и попала под пулемётный огонь казаков. Турки отступили, казаки выскочили из укрытий и стали ловить лошадей и собирать оружие. Противник по ним открыл огонь из ружей, громыхнула пушка, казаки ели успели спрятаться, одну лошадь и одного казака убили, а младший урядник Платон Кузнецов получил пулевое ранение в указательный палец левой руки.
– Надо же, как меня угораздило. Смешно, но больно, – жаловался он в укрытии своему одностаничнику приказному Илье Захарову.
Палец перевязали, турецкие пули щёлкали по камням.
– Плохо дело, – сказал Илья.
– Да, – согласился Платон. – Обожди. Это ты про палец или про турок?
– И то и другое.
Стрельба поутихла, а из-за поворота дороги вылетела казачья сотня.
– Наши, – радостно толкнул Илью в бок младший урядник.
Илья кивнул и решил посмотреть, что делают турки. Свист пули он не услышал и когда Платон повернулся к нему, Илья лежал навзничь с красным кружочком ровно между глаз.
Прапорщик Григорьев докладывал временно исполняющему обязанности сотника 6-й сотни 3-его Линейного Кубанского полка прапорщику Сорокину.
– Двое убиты, один ранен, фельдшер контужен, две лошади ранены легко, трёх лошадей захватили.
– Благодарю, прапорщик. Где раненный? Я, всё-таки, бывший фельдшер.
Вышел сконфуженный младший урядник Кузнецов с перебинтованным пальцем.
– Разворачивай свою тряпку, Платон, – сказал Сорокин, – посмотрим, что там у тебя.
Они были с одной станицы, с Петропавловской. Платон младше Сорокина на год, ему тридцать лет. Бывший фельдшер осмотрел рану и сказал:
– Кость задета, но ничего, выживешь, но рану нужно в чистоте держать. Грязь попадёт – руку отнимем, а то и сам пропадёшь. Антонов огонь, это брат, не шутка. Как ты такое ранение умудрился получить?
– За уздечкой потянулся. Хотел лошадь поймать, а поймал пулю.
– Хорошо, что не лбом.
– Соседа моего убили, – невпопад сказал Кузнецов, – Илюшку Захарова.
– Груша его вдовой стала, – покачал головой Сорокин, – детей двое у него?
– Да, два казачка. Доля казачья такая. Глупо погиб. Пока я на вас смотрел, он решил посмотреть на турок. Вот и получил свой свинец в голову.
– Смерть, она, Платон, не умная и не глупая. Она просто смерть. Судьба знать такая. Написать надо родным.
– Напишем. Как, селение-то называется, Иван Лукич?
– Мама-Хатун. На русский язык переводиться как «женская грудь».
– Почему такое название?
– Да вон видишь: две горы торчат? Из-за них, наверное, и назвали.
– Что-то как-то не похоже.
– Ты давно женской груди не видел, Платон. И, к тому же, откуда ты знаешь какая грудь у турчанок? Может быть, такая, туркам виднее.
Сотне Сорокина было предписано занять село Гюль-Веран. Убитых казаков завернули в бурки, заложили камнями, поставили самодельные кресты из веток.
Село Гюль-Веран было взято. После чего сотня Сорокина получила приказ дислоцироваться в Мама-Хатун.
На отдыхе из перемётных сум погибших были вытряхнуты их нехитрые пожитки и вахмистры ходили и уговаривали казаков купить что-нибудь. По закону лошади убитых оставались в сотне, родственникам погибших казаков полагалась компенсация по 200 рублей из полковой казны, хотя настоящий строевой конь стоил гораздо дороже. И распродажа вещей устраивалась только для того, чтобы выручить какие-то гроши и вместе с компенсацией выслать жене, детям, отцу и матери погибшим.
Вахмистр Елисеев подошёл к Кузнецову:
– Купи фуражку.
– Зачем мне фуражка? У меня папаха есть.
– Ещё и фуражка будет.
Младший урядник тяжело вздохнул. С наличными деньгами у казаков было плохо, и расставались они с ними неохотно, хотя и понимали эту необходимость: война есть война и их семьям могут так же собирать. Кузнецов достал из кармана полтинник:
– Захарову отошли. А фуражку ещё кому продай.
– Не хорошо, Платон, возьми фуражку.
– Добро, – согласился младший урядник. – А, гулять так, гулять. На копейку, давай и портянки.
На Турецком фронте вскоре установилось затишье, казаков стали отпускать на побывку на 28 дней, включая дорогу. На дорогу уходило: четыре дня, чтобы добраться до города Сарыкамыш, оттуда три дня поездом до Владикавказа. Из сотни отпуск давали двум офицерам и двум рядовым казакам. Сорокина не отпустили. На побывку отправились хорунжий Пащенко, прапорщик Григорьев, младший урядник Кузнецов и приказной Меркул Бублик.
Два дня младший урядник Платон Кузнецов праздновал встречу с родными в станице Петропавловской.
На третий день пошёл на горькую встречу к родным Илюхи Захарова, принёс фуражку. Мать Ильи зарыдала, увидев на внутренней стороне химическим карандашом рукой сына написано «И. Захаров».
На столе закуска, самогон, выпили, помянули, Платон стал рассказывать:
– Геройски погиб Илюха, что тут рассказывать? Да он и был героем, это все знают. Посёлок этот называется Мама-Хатун у реки Евфрат. В библейском месте, значить, погиб Илюха. Идём, значить, мы, а на нас сотня турок как выскочит и ну саблями махать. А Илюха шашку вынул и на них. Ну, Илюху вы же знаете. Он всегда был такой. Один против десяти. А что ему? Казак! А хоть и против двадцати. Но врать не буду. Пятеро было против него, пятеро. А тут и сотня наша шестая во главе с прапорщиком Сорокиным подоспела. Ну, вы знаете Ваньку Сорокина? Порубали мы басурман в мелкую, мелкую капусту. Глядь, а Илья ваш весь в крови. Кончается, значить. Иван Лукич даже прослезился.
– Ванька Сорокин? – спросил кто-то из родни. – Да он каменный.
На него зашипели, Платон продолжил:
– Да и мы все, прямо сказать… Да. Ну, чего говорить? Священник, да, отпел, причастил, исповедовался всё как положено. Перед смертью и вас всех вспоминал, велел кланяться и простить его, если в чём виноват. И вам поклон, Фёдор Матвеевич, и вам, Прасковья Ивановна. А тебя Грушенька, как он любил… Как он любил тебя, Груша.
Груша зарыдала в голос. А Платон передавал поклоны всей родне Захарова, моля Бога, чтобы никого не пропустить и, тем самым, не обидеть.
– И схоронили Илью честь по чести на кладбище. Там русские живут. Не в этом селении, ну, там недалеко. Они не православные, хотя в Христа верят, в святых – нет, но и не мусульмане. Какие-то такие чудноватые.
Родные Ильи Захарова выли в голос, Платон вышел на крыльцо покурить. К нему вскоре присоединился и отец Ильи.
– Загибал ты здо́рово, Платон, – сказал он. – Оно и правильно. Как на самом деле погиб Илюшенька?
– На засаду нарвались, Фёдор Матвеевич. Пуля в лоб, даже вскрикнуть не успел.
– Ну, слава Богу, – перекрестился Фёдор Матвеевич, – хотя бы не мучился сыночек мой.
И слёзы покатились по щекам старого казака.
Дня за три перед возвращением назад к Платону пришла Лидия Сорокина. После взаимных приветствий и ненужных вопросов она спросила:
– А почему моего Ваню не отпустили?
Платон даже растерялся.
– А я почём знаю? – развёл он руками. – Начальству видней. Ваня твой незаменимый человек, гордись.
– Да что мне гордиться? Если он на хорошем счету, то почему его на побывку не отпустили, почему у него звание не казачье?
– Учился на прапорщика… Не знаю.
– Я его видеть хочу, Платоша. Возьми меня с собой.
– Куда?
– Да в Турцию эту вашу проклятую.
– Да как, Лида, как?
– Как ты поедешь, так и я поеду.
– Лида, ты жена, дочь и невестка военных людей и понимать должна, что армия – это не базар какой-нибудь, не ярмарка. Кто хочет, тот и приезжай.
– Придумай что-нибудь, Платошенька.
– Придумай. Да я и не один возвращаться буду.
– Ну, собери их всех, Платошенька, я поговорю с ними. Я очень хочу видеть своего Ванечку.
И Лидия заплакала.
– Лида, хватит тут сырость разводить, соберу. Приходи.
На следующий день в гостях у Кузнецова были хорунжий Пащенко и приказной Меркул Бублик. Они были очень удивлены поводом собрания и тоже не очень понимали, как и, главное, зачем это делать.
– Казаки, – сказала Лидия, – в этом году ваши семьи будут молоть зерно бесплатно на нашей мельнице, если вы мне поможете встретиться с Ваней.
– Лида, зачем же так, – сказал Платон, – Иван наш командир, наш боевой товарищ…
– Но от бесплатного помола не откажемся, – сказал Пащенко.
– Да, – сказал Бублик.
– И как мы это провернём? – поинтересовался Кузнецов. – В поезде народ мужеского пола исключительно и патрули военные на вокзале. А если заметят? Разрешения-то нет.
– Не заметят, – сказал хорунжий, – переоденем её в казака и всё.
– Нам же её только в поезд посадить, – поддержал хорунжего Меркул. – А поезд ночью отправляется. Никто и не заметит, что это не казак, а баба. Трое суток уж как-нибудь…
– А там, в Сарыкамыше?
– А в Сарыкамыши все связисты друзья да приятели Сорокина, – сказал Меркул, – предупредят его о приезде жены. А там уж сам сообразит, как действовать.
– Наш командир полка, войсковой старшина Калмыков ценит и уважает Сорокина, – сказал Ващенко. – Неужели он не поймёт и не уважит Ивана в таком деле?
– Да от Мама-Хатун до Сарыкамыша верхами четыре дня скакать. Какой у него отпуск будет?
– Хоть день да мой, – вставила своё слово Лида.
– Да, – сказал Меркул.
Казаки долго спорили и рядили, как всё это сделать по уму. Лидия с надеждой и тревогой переводила взгляд с одного казака на другого. Наконец, казаки решили:
– У вас в доме есть казачья форма? – спросил Ващенко.
– Есть.
– Вот подготовь её под себя, что бы не мешком сидела, погоны и всё прочие, там бурку, папаху… И послезавтра поедем.
До Владикавказа добрались без приключений. Перед поездом на вокзале Лидия переоделась, и перед изумлёнными казаками предстал молоденький есаул.
– А скромнее по чину погонов не было? – спросил Кузнецов.
– А разве эти не скромные? – изумилась Лида. – Они же без звёздочек и с одной полоской.
– Прости ей, Господи, это баба, не ведает, что творит. Волос длинный, ум короткий. А с двумя просветами и тоже без звёздочек, это уже полковник.
– А я кто? – спросила Лида.
– Пока есаул. Потом идёт войсковой старшина, потом полковник.
– Хорошо ещё, – сказал хорунжий Ващенко, – что у Ивана генеральских погон не нашлось. Я говорил о форме рядового казака. Пойдёмте, господин есаул, а мы за вами.
– Нет, – сказал Меркул, – прикрываем её.
– Не по чину, – сказал хорунжий.
– А что делать?
В вагон они сели без осложнений. Лиду поместили на третью полку – с глаз долой. В поезде к ним присоединился прапорщик Григорьев. Ему объяснили ситуацию.
– Дело хорошее, – сказал Григорьев, – только в поезде жандармы документы проверяют у отбывающих в Сарыкамыш.
Казаки слегка растерялись.
– И что делать будем, казаки? – спросил Кузнецов. – У Лиды документов нет.
– Надо было бы у Гришки Сорокина документы на неё выправить, он жандармом в Армавире служит, – сказал Меркул, – сделал бы для невестки, наверное.
– Где ты раньше был такой умный? – с возмущением спросил Платон.
– Ладно, казаки, надо действовать, – сказал Ващенко. – Лида, снимай черкеску.
– Зачем? – Лида свесила голову с полки.
– Снимай, тебе говорят, вопросы потом задавать будешь.
Лида покорно сняла черкеску и передала её казакам.
– Буркой укройся с головой и не высовывайся.
Черкеску казаки повесили так, чтобы золотые погоны бросались в глаза.
Жандармы подошли к их купе, проверили документы.
– Документы того, что на верхней полке, – спросил жандармский офицер.
– У него документы в порядке, это наш командир, – ответил хорунжий Ващенко и кивнул на черкеску с погонами есаула.
– Для порядка надо бы проверить.
– Если надо, проверяйте, – сказал Кузнецов, – только он пьяный в дым, пьяней вина. Шуму будет – не приведи Господи. Всем попадёт – и нам и вам. Он страшен в гневе. Лучше не будить.
Остальные казаки дружно закивали на эти слова. Жандарм заколебался.
– А как, фамилия-то есаула? – спросил он.
– Сорокин, – не задумываясь, сказал Платон.
– А в Армавире в жандармах служит Сорокин …
– Брат его Гришка. Э-э… Григорий Лукич.
– А, ну, это почти свой. Пусть спит его благородие.
Жандармы удалились, казаки облегчённо вздохнули. Поезд тронулся.
– Эй, Лида. Вставай, ваша благородие, – позвал Платон, – опасность миновала. Скоро обнимешь ты своего Ваньку.
Лида, улыбаясь, показалась из-под бурки.
– А хорошо, что вы догадались погоны есаула к черкеске пришить, – сказал Григорьев, – с простым казаком, боюсь, такой бы трюк не прошёл.
– Хорошо ещё, что не полковничьи погоны-то, – сказал Ващенко. – А то пьяный полковник на верхней полке в общем вагоне, это как-то странно.
– Зачем Ивану столько погон в доме? – сказал Кузнецов. – На будущее что ли?
– А что? Может, Иван Лукич со временем и полковником станет. Вот война ещё года три-четыре продлиться и станет.
– Да не болтай, Меркул, – сказал Платон. – Четыре года! До двадцатого года по этим горам скакать? Что-то не хочется. Ох, война, война, война, надоела всем она.
Впереди казаков ждали Турецкий фронт, две революции и Гражданская война.
25.10.20 г.







