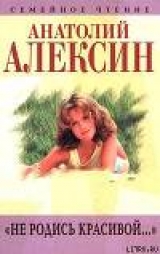
Текст книги "Плоды воспитания"
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
А.Алексин
Плоды воспитания
На моем столе нет фотографии отца, потому что его, по сути, не было в моей жизни. Мама любила его – и он остался на стенах ее, не тронутой мною, комнаты. Нет у меня и фотографии отчима, который присутствовал в моей жизни, но лучше бы в ней отсутствовал. В центре письменного стола – фотография мамы в скромной, как сама она, рамке. Та застенчивость опирается для уверенности о бронзовую ножку старинной настольной лампы.
«У врачей, как правило, невнятные почерки, – говорила она. – Привыкли торопливо, на ходу выписывать рецепты и заполнять истории чужих болезней: за дверью ждут, томятся другие пациенты…» Но слова, пересекающие наискось сиреневую мамину блузку на той фотографии, были убежденно отчетливы: «Любящему и верному сыну – от верной и любящей мамы».
Мы оба с ней были любящими. А она к тому же была и верной…
* * *
Дом наш славился уникальной звукопроницаемостью, будто стен вообще не было.
– Это объединяет семью! Создает открытость в наших отношениях: каждый знает, что думают и говорят все остальные, – не поймешь, с иронией или всерьез провозглашал мой отчим.
Он часто маскировал свое настроение, свои мысли – и почти ко всем обращался со словами «любовь моя». Но интонации все-таки были разные: то нежные или мягко поучающие (например, по отношению к маме), то жесткие или насмешливо наставляющие (например, по отношению ко мне).
Однажды субботним утром я в своей комнате услышал, как он сказал маме в их комнате:
– Любовь моя, я счастлив, что ты рассталась со вчерашней депрессией – совершенно безосновательной.
И правда, накануне мама перемещалась по квартире с мрачноватой бесцельностью лунатички, а утром летала по тому же пространству и щебетала, как птица в просыпающемся саду.
«Строительный брак!» – осуждали идеальную звукопроницаемость наших стен. А мне это нравилось: я был в курсе претензий, кои отчим и мама предъявляли друг другу, а главное, заранее узнавал, какие претензии они намерены были предъявить мне, – и мобилизовал себя для отпора.
В тот ранний час я выяснил их точки зрения и некоторые несогласия по проблемам моего воспитания. Я обрадовался, потому что такой, как ныне говорят, плюрализм мнений всегда можно было использовать для своей выгоды.
– Любовь моя, твой жизнерадостный настрой позволяет мне надеяться на взаимопонимание… Давай проведем педагогический эксперимент, – проникновенно начал мой отчим. Я вздрогнул, потому что не хотел, чтобы на мне проводили эксперименты. – Попытаемся воспитывать Жору словно бы врозь. Поскольку мы с тобой в этой сфере ставим подчас несовпадающие диагнозы и предлагаем абсолютно несхожие методы лечения. А в лечении и излечении он нуждается! – «Он» – это я. – Верю, любовь моя, что ты примешь это разумное и, я бы сказал, компромиссное предложение: во всем необходимы альтернативные поиски.
«Альтернативы», «плюрализмы»… Эти понятия, едва объявившись, вовсю набирали силу и очень на себе акцентировали.
– Какой же диагноз ты поставил сейчас? – беззаботно, все еще находясь в полете, спросила мама.
– Основное его нравственное заболевание – это склонность к вранью.
– К неправде, – сразу же возразила мама, Как бы присев на ветку. – Или к искажению истины.
У меня была «склонность к вранью», а у большинства мам – склонность к защите своих сыновей.
– Твои гомеопатические определения и соответствующие им медикаменты могут привести к неизлечимости его морального организма. К злокачественности его недугов. А может, и к метастазам… – нажимал он, чрезмерно надеясь на мамину жизнерадостность.
– Ты называешь вполне невинные недостатки, которые есть у всех в его возрасте, злокачественными?
– Но уж во всяком случае, способными к перерождению, то есть к переходу в необратимое качество. Их, эти, как ты говоришь, «невинные недостатки», надо удалить, пока они операбельны.
В спорах своих они почти неизменно пользовались медицинскими терминами.
Мама раньше слыла опытным терапевтом, но предпочитала не лекарственные средства химического производства, а лечение травами.
– Любовь моя, травами надо лечить травоядных животных, а человек – животное хищное, – внушал ей отчим.
Позже мама, согласно либеральности своего характера, переквалифицировалась в гомеопата – и стала поклонницей микроскопических лекарственных доз (по-прежнему природного происхождения). Но отчим предпочитал радикальность, так как был хирургом-онкологом.
Розовый и сиреневый – это были близкие маме цвета. Она считала их успокоительными, хотя понимала, что человеку дано выбирать по своей воле цвет обоев, рубашек и платьев, но редко дано ему окрасить в успокаивающие цвета события своей жизни. Спор о моем воспитании тоже не был окрашен в краски транквилизаторные.
– Когда меж родителями нет единства, ребенок не уважает ни одного, ни другого, – психологически тонко и наблюдательно в то утро отметила мама.
– Он уже не ребенок: ему пятнадцать с половиной. В его годы…
То была любимая фраза не только моего отчима, но и многих других воспитателей. Я наизусть мог перечислить, чего добился отчим в моем возрасте.
Несогласия же по поводу воспитания обострялись – и это я всей душой одобрял.
Было слышно, что отчим поднялся и, как я предполагал, засучил рукава, будто приготовился к хирургическому воздействию на мой «нравственный организм». Он всегда обнажал до локтя свои ручищи, готовясь к чему-то решительному.
– Ты знаешь, любовь моя, что хоть сегодня и воскресенье, у меня нет свободного времени. Тем не менее на весь этот день, если будет твое благословение, я беру воспитание Жорика в свои руки. – Ласкательно, Жориком, он называл меня лишь в тех ситуациях, которые никакой ласковости не предвещали. Я знал, что руки отчима, глухо заросшие, уже растопырены, как перед операцией. И в этих ручищах мне предстояло находиться до самого вечера! – Он ведь тоже – любовь моя! И как раз поэтому я покажу тебе, до какой степени круто и порой беспощадно следует вторгаться в его путаные представления о добре и о зле. – Я чувствовал, что маму пробрало холодом. – К вечеру уже взойдут первые плоды моего воспитания. Не сомневайся! Разве я когда-нибудь обманывал тебя и твои надежды?
У Льва Толстого есть пьеса «Плоды просвещения». Я о ней слышал, но тогда еще не читал. Однако подумал, что просвещение «взять в руки» гораздо труднее, чем воспитание: просвещать могут лишь просвещенные, а воспитывать – кто угодно. Едва успев совершить для себя это открытие, я отпрянул от двери, потому что отчим-хирург со своими заросшими и растопыренными, готовыми резать меня ручищами направился в мою комнату.
Он начал прямо с порога:
– Любовь моя, я понимаю, что ты с помощью наших стен все – от слова до слова! – слышал. А посему для тебя не явится новостью мой диагноз. Как и то, что я намерен избавить тебя от твоей главной болезни: от патологического стремления врать.
– Говорить неправду, – поправила мама, которая, как поступили бы и другие матери, поспешила сыну на выручку.
– Нет, именно врать! – Отчим повернулся к моей защитнице. – Любовь моя, я хотел бы провести сегодняшнюю операцию без твоей привычной анестезии. Чтобы мои изобличения и требования вскрыли… – Вскрывать меня отчим собирался без обезболивания, «по живому».
– Но ты обещаешь быть справедливым?
– Справедливость я гарантирую. Будь спокойна… Разве я когда-нибудь тебя обманывал?
– Тогда я схожу к соседке.
Мама не любила присутствовать при операциях: ей становилось дурно. Даже встречаться с раковыми больными она избегала. И отправлялась к подруге-соседке, когда пациенты отчима приходили к нам для консультаций.
Сейчас пациентом был я.
– Вчера, в субботу, ты, сын мой, умудрился соврать целых четыре раза!
– Три с половиной, – быстро прикинув в уме, уточнил я, так как спорить было бессмысленно: без подготовки он к операциям не приступал.
– Что значит – с половиной?
– Один раз была… полуправда.
– Полуправда – это вранье при отягчающих обстоятельствах. Потому что оно с особой старательностью рядится в одежду правды. Это почти цитата из книги, которую ты, я заметил, недавно читал. Читал, да не вник!
Отчим походил на лектора, стремящегося покорить слушателя – пусть одного! – резкими поучениями и внешней интеллигентностью. Слово «покорить» имеет минимум два смысла – и оба отчим имел в виду. С одной стороны, вознамерился меня разгромить, а с другой… бородка не треугольником и не лопаткой, а распушенная в разные стороны, как на картине великого Репина «Государственный совет». Зрение же усиливалось не какими-нибудь банальными окулярами, а пенсне на цепочке – нервничая или раздражаясь, он то и дело утверждал его на носу. Интеллигентная бородка и пенсне не вполне стыковались с растопыренными ручищами: не то для захвата, не то для объятий. Мне казалось, что и меня он не прочь был держать на цепочке, напяливая, насаживая на свои точки зрения.
Отчим называл меня сыном и требовал, чтобы я в ответ именовал его отцом и был с ним на «ты». А я продолжал считать себя пасынком, его, соответственно, отчимом и обращаться к нему на «вы». Еще я придумал ему полушахматное имя «Михмат», так как он был Михаилом Матвеевичем. Мне мечталось хоть раз объявить Михмату «мат». Но мечта оставалась несбыточной.
– Я почитаю память покойного твоего родителя, которого ты даже помнить не можешь. Ты не помнишь, а я почитаю… У нас с мамой вся спальня в его фотографиях и портретах. А моя карточка притулилась где-то на тумбочке.
– Потому что вы пока живы.
– Хочешь, чтобы это было «пока»?
– Живите, пожалуйста…
Я подумал, что если б он очень любил мою маму, то сократил бы количество фотографий и портретов ее первого мужа в спальне.
– Живите, пожалуйста? Разрешаешь? А я не просто живу в этом доме как мамин супруг, но и выполняю перед тобой долг, завещанный мне покойным твоим отцом.
– Он оставил вам завещание?
– Разве дело в бумаге? Ее нет, а долг есть! И я хочу, чтобы все у нас обстояло, как полагается в доме: мать, отец, сын. Тем более, что своих детей у меня, к сожалению, нет. – Я все равно его числил отчимом. – Так вот… Ты вчера четыре раза солгал. Один раз – при отягчающих обстоятельствах! Конкретизирую… За день до того ты навещал свою заболевшую одноклассницу Нонну. Вместо того чтобы сидеть на уроках, ты сидел возле ее постели. Надеюсь, что возле… – Я находился на его операционном столе. – Подтверди, честно глядя мне в глаза: она лежала в постели?
– Где же лежат больные?
– А ты?
– Подавал ей лекарства, градусник. Ставил горчичники…
– На спину или на грудь?
– Туда… и туда.
– Что ж, картина ясна! Но не вполне. Ты нам сказал – когда твой прогул обнаружился, – что Нонну тебе поручили навещать как старосте класса. На самом же деле ты пошел не как староста, а как начинающий ловелас. Поскольку ты, оказалось, уже полтора года не староста. Ты отправился к ней целенаправленно: в то время, когда родители дома отсутствовали. Они были на работе, а она, как мы выяснили, в постели.
Я и самой-то Нонне в тот день объяснил, что навещать ее мне «поручил коллектив». Хотя поручение исходило от нахлынувшей на меня страсти. На память приходила пушкинская строка: «Река металась, как больной в своей постели беспокойной». Но в данном случае метался лишь я, обуреваемый (опять несбыточными!) желаниями… вблизи от ее – увы, не проявлявшей ответного «беспокойства» – кровати.
– Я уже давно обратил внимание, – продолжал Михмат, – что ты именно у этой Нонны узнаешь по телефону, что вам «задавали на дом». И наконец, отправился «на дом» непосредственно к ней! А маме и мне, отцу, сообщил, будто находился в гимназии. Вранье номер один! И лишь потом, уличенный, придумал, что тебе якобы было поручено. Ну и так далее… Вранье номер два! Углубимся в случившееся. Будучи девятиклассником, оставаться наедине с девочкой, лежащей под одеялом… Нет, фактически уже с девушкой! Оставшейся таковой, я надеюсь, и после твоего посещения.
Это и значило «по живому», без малейшей анестезии. Своих пациентов он щадил, а меня – нет. Не очень-то правомерно сравнивать, но все-таки… Возвращаясь домой после своих «приемных» и «операционных» дней, он в тайны и результаты тех дней нас, как правило, не посвящал. Но иногда нарушал это правило… «Такая рослая, стройная пришла ко мне девушка, кровь с молоком! А оказалось, что кровь молоком как бы разбавлена: белокровие… Надо спасать, не посвящая ее в подробности!»; «Месяц назад явилась атлетка, рост метр семьдесят девять, безупречно сложенная – и вдруг… Я выбиваюсь из сил. Но она будет жить!»; «Представьте, высокая и стройная красавица, а внутри обнаружили мину… Я разминировал, устранил».
Мужчинам он сочувствовал в общем и целом, а женщинам индивидуально, но в основном, мне казалось, высоким и стройным. Перед профессией отчима следовало преклоняться… В нашей квартире, у меня на глазах он никого не спасал – и мне сложно было его, поучающего, с постоянным «любовь моя» на устах, обращенным ко всем подряд, сопоставить с тем – спасающим, избавляющим… Нет, я не мог, конечно, не уважать гуманную миссию отчима. И то, что он, вопреки новым традициям, стремился скрывать приговорные диагнозы от своих пациентов… О моих же недугах, которые тоже считал злокачественными, он высказывался беспощадно и напрямую:
– Ты бы не возражал, чтоб все твои одноклассницы поочередно заболевали и укладывались в постель, а ты бы им ставил горчичники. Вместо того чтобы набираться ума-разума в гимназии. А так как ума-разума не хватает, ты не предвидел, что классная руководительница, обеспокоенная твоим отсутствием, позвонит родителям – матери и отцу.
При любой возможности он подчеркивал, что является мне отцом.
Михмат закурил сигарету… Он так был мной возмущен, что прикурил словно не от зажигалки, а от своего «отцовского» гнева.
– Омерзительной была и твоя злостная ложь под номером три! Ты мне сообщил, что в матче на футбольное первенство якобы победил «Спартак», потому что ты за него болеешь. Ложь твоя все время крутится вокруг «болезней» – то футбольных, то сексуальных. Из-за того, что, как я уже установил, ты сам нравственно болен. А победило «Торпедо», которое давно уж дорого мне. И это, если хочешь (или не хочешь!), признак морального здоровья и справедливости. Я с юных лет дорожу клубом, который родился на автомобильном заводе, где я – в твоем возрасте! – уже подрабатывал. Чтобы кормить семью.
– Всю семью? Разве ваши родители не работали? – попытался уточнить я.
– Они тоже трудились… Но мама называла кормильцем меня.
– Мама у вас была, наверное, очень добрая. Моя бы тоже называла меня кормильцем, если б я хоть чуточку зарабатывал.
Раз он резал меня «по живому», я делал попытки сопротивляться.
«Любовь моя», – говорил он своему коллеге, которого ненавидел.
– Любовь моя, – почти с той же искренностью обратился он и ко мне, раздраженно утверждая пенсне на своей переносице и с преувеличенным старанием распушая в разные стороны бороду. – Я в тот день срочно оперировал женщину.
– Высокую и стройную?
– Что ты сказал?
– Ничего… Я пошутил.
– Объектом шутки ты выбрал страдалицу? Вот и начались метастазы, которые я предвидел! Но вернемся к футболу… Я спасал жизнь, а ты в это время, как обычно, развалился у телевизора. И результат игры тебе был известен. Но ты соврал в свою пользу.
– Как раз это я и считал полуправдой.
– Ложь при отягчающих обстоятельствах!
– Команды играли одинаково – и победа обязана была стать ничьей. Ну, никому не достаться. Если бы не судья, который…
– Прежде чем судить судью, научись судить себя самого! – Михмат затянулся так, будто с удовлетворением вобрал в себя то глубокое изречение.
«С чего это он придрался к футбольной истории? – недоумевал я. – Уж не такой он оглашенный болельщик. И почему вонзился в мой обыкновенный школьный прогул? Мои ученические дела его прежде не очень заботили: ухожу по утрам – и ладно! К чему-то он клонит… Есть какая-то, еще не объявленная, причина».
В дверях показалась мама… Отчим с отработанной ловкостью, как профессиональный фокусник, сунул сигарету в рукав. Странно, что пиджак его еще ни разу не загорелся. Чаще всего он мамой командовал, но в то же время и побаивался ее. Это уж позднее, в своей взрослой жизни, я узнал, что начальники часто побаиваются своих подчиненных, потому что те способны и взбунтоваться. Властным положением по этой причине не следует злоупотреблять… Вот и мама, следуя своей природной сговорчивости, все подчинялась да подчинялась, но у меня было ощущение, что не исключен и ее – нежелательный для отчима – бунт. Он мог быть безмолвным, как оружие с глушителем. Но отсутствие звука не сделало бы его менее опасным.
Отца своего я не помнил… Мой приход в жизнь почти совпал с его уходом из жизни. По рассказам, мама отца боготворила.
– До сорока трех я прожил холостяком, сутками пропадал в больнице. И навидался заботливых жен. Но такой не встречал никогда! – то снимая, то вновь утверждая на носу пенсне, поведал мне как-то Михмат. – «Счастливец!» – думал я о твоем отце, хоть знал, что он обречен. Мама что ни день притаскивала ему в мисках блюда из китайского ресторана, который он прежде, в свою здоровую пору, предпочитал всем другим злачным местам. А сколько она пожертвовала ему собственного гемоглобина! Это уж выглядело даже не жертвой, а попыткой самоубийства… «Вот какую тебе надо супругу!» – будто услышал я мудрый голос.
«Услышал… а не полюбил», – четко отметил я. Ну а «любовь моя» – это было предназначено всем без разбору.
– Я понял, что мама столь же самоотверженна и в семейном быту.
– Значит, вы женились на ней по расчету?
– Ты – безнадежный циник!
Люди охотно приписывают свои пороки другим.
«Нет, он, конечно, влюбился не в маму, а в ее «самоотверженность и заботливость», – укоренялся я в своем подозрении. Отчима я едва выносил, но почему-то очень хотел, чтобы маму мою он обожал… А вышло иначе: те страшные месяцы в онкологическом отделении заставили маму увидеть в Михмате воителя, спасителя – и… Он же «услышал» и «понял». А что, если Михмат желал моему отцу гибели, чтобы жениться на «заботливости и верности»? Чтобы стать «счастливцем» вместо отца? Это уж слишком! Что-то меня занесло…»
Угадав мои подозрения, внимательно рассмотрев их сквозь пенсне, Михмат решил, как бы не возражая, а размышляя, все-таки возразить:
– Уж какой век с запойным восхищением цитируют красивые, но бессмысленные строки Шекспира: «Она меня за муки полюбила, а я ее – за состраданье к ним». Если б только за состраданье, не душил бы подушкой! А полюбить за муки? Это уж спросите меня, онколога… Пожалеть – да, ужаснуться, попытаться от них избавить. Но полюбить за мучения?! Такого не встречал, хоть с чужими кошмарами практически неразлучен. «А я ее – за состраданье к ним…» Вообще полюбить «за что-то»? Противоестественно! Если иметь в виду любовь женскую или мужскую, которая страсть… Она рассуждать не способна. За состраданье испытывать страсть? Какое кощунство! Благодарить, снимать шляпу – это я понимаю.
Он, спохватившись, столь настойчиво в этом меня уверял, что я остался при своем мнении. Уж чересчур он намекал, что испытывает к маме страсть.
Отчим снял и поплотней утвердил на носу пенсне. Посчитав свой отпор недостаточным, он разъяснил подробнее:
– Можно сказать, что за мамины непостижимые переживания я еще упорней пытался отца твоего избавить от мук. Но истоки нашего супружества совсем иные! Ежели все-таки сформулировать ближе к Шекспиру: мама меня полюбила за то, что я боролся с муками твоего отца, а я оценил ее «за состраданье к ним»… то есть к тем же самым мукам ее тогдашнего мужа, а не к своим.
«Опять проговорился: она его полюбила, а он ее «оценил».
– Я не смел сделать ей предложение целых полтора года, пока она горько оплакивала свою потерю.
– Она и сейчас горько оплакивает.
– Но время, прости за банальность, лечит.
– Лечат врачи…
В стремлении перечить любой ценой я, не желая того, сделал ему, врачу, комплимент.
– Ты, выходит, признал значение медицины?
Я верил в его магические хирургические возможности. Но тогда мне впервые пришло в голову, что талант и умения – это одно, а характер иногда – это совсем другое. Бывает, они подпирают друг друга, а бывает, смотрят в разные стороны.
– А ты, любовь моя, замечаю, перманентно испытываешь ко мне претензии.
– Какая уж тут любовь!
– Понимаю, ты не ощущаешь ко мне особой душевной тяги.
Если я чрезмерно ожесточался против Михмата, то для обуздания своей ярости представлял его себе в резиновых перчатках, в хирургической маске на фоне медсестер, протягивающих скальпель и прочие стерильные инструменты.
Мне снова представлялась эта картина.
– Я и не говорю, что вы – «любовь моя». Но я вам… благодарен.
– Благодарен? За что?
– За то же, за что и мама: вы спасали отца. И еще за то, что мама с вами… нельзя сказать, что счастлива, но воображает себя счастливой.
– И на том спасибо. Ты, я гляжу, психолог. А отметки в дневнике посредственные.
Такой была одна из наших давних бесед… Но она теребила память и когда я сам оказался «на операционном столе» у Михмата, который не был в резиновых перчатках и маске, но орудовал скальпелем.
Мама слыла отменной аккуратисткой: от нее не могли упрятаться ни мельчайшие пылинки, ни едва уловимые запахи. Войдя, она произвела привычный контрольный вдох.
– Двери и стены у нас как бы отсутствуют: звуки и запахи из комнат пробиваются в коридор, а то и на лестничную площадку. Ты курил в комнате? – спросила она Михмата.
Очередная сигарета спряталась в рукаве.
– Любовь моя, ты же знаешь, что когда я волнуюсь… До и после операций, к примеру.
– Но сейчас ты курил… во время операции. – Мне нравилось, что иногда Михмат маму побаивался. – Лучше бы ты вообще не курил. – Она охраняла его здоровье бдительней, чем мне бы хотелось. – Но уж если… Ты бы лучше курил в коридоре, а еще предпочтительнее – на лестнице. Или на свежем воздухе. Я тревожусь о твоих легких. – Помявшись, она добавила: – И о ваших с Жориком нервах.
Я понял, что мама недовольна беседой отчима не меньше, чем его тайным курением.
– Любовь моя, двери давно надо упрочить… – произнес он от растерянности явно не то.
– Я надеюсь, что все огнеопасное прекратится, – сказала мама, имея в виду и спрятанную в рукав сигарету, и наш с отчимом разговор. Недовольство, согласно ее характеру, было сдержанным… но непреклонным.
Создав, как ей подумалось, нормальную обстановку, мама отправилась обратно к соседке: не хотела выглядеть навязчивым контролером.
Отчим достал сигарету из рукава, изломал ее и швырнул в пепельницу. Затем почти вплотную приблизился ко мне, чтобы воспитывать интимно, вполголоса.
– А все из-за твоего вранья! Самая безобразная ложь – номер четыре – прозвучала позавчера вечером.
Он, пусть и вполголоса, но сразу же ослушался маму.
– Позавчера? Я?! Мы с вами вообще не обмолвились…
– Со мною ты не обмолвился, – перебил Михмат. – Со мной нет… Но маме объяснил, что она не могла пятьдесят минут дозвониться из-за того, что я разговаривал по телефону с какой-то женщиной. А я разговаривал с каким-то мужчиной.
– Объяснил маме? Не помню.
– Ты не помнишь, а мама всю ночь не спала. Только к утру мне удалось всеми возможными словами и способами ее успокоить.
Какие именно слова и способы им применялись, отчим не уточнил. Но мне стало понятно, почему вдруг он так обстоятельно занялся моим воспитанием. И все само собой восстановилось у меня в голове… Мама вернулась с работы позже Михмата и сказала мне: «Лучше бы читал книги, чем так долго занимать телефон! Полчаса не могла пробиться… и сказать, чтобы вы не тревожились».
Отчим двадцать минут добавил, желая утяжелить свое обвинение.
«Я не читал книгу, но и не занимал телефон, – ответил я маме. – Это Михмат разговорился с какой-то женщиной».
Мама опустила на пол сумки с продуктами, которые сделались для нее неподъемны. Мне представилось, она знает, какая именно женщина была собеседницей отчима.
– Я обсуждал важные проблемы с мужчиной, а ты дезинформировал маму. Зачем?
– Но мне точно известно, что вы говорили с женщиной.
– Откуда тебе это известно? Аппарат у нас в коридоре.
– Но трубку первым снял я.
По моему мнению, я объявил Михмату «шах». Но объявить ему «мат» мне не удавалось ни разу.
– А тебе неведомо, что у начальников есть секретарши? И что сами они, начальнички, диск не крутят?
– Ладно, – согласился я. – Считайте, что у нас с вами ничья: три—три.
– Ничья? У меня с тобой?! В какие игры ты можешь со мною играть? И что вообще у тебя на уме?
– По-вашему, я соврал целых четыре раза, хотя я соврал всего три: действительно, был не на уроке, а возле кровати Нонны; в самом деле никакой я не староста, а «Торпедо» случайно выиграло у «Спартака»… Но и вы три раза за один сегодняшний день… сказали неправду. Получается три—три!
– Что-о? Ты способен такое произнести, глядя отцу в глаза?
– За глаза было бы хуже.
– Вот они, плоды воспитания – школьного, телевизионного, уличного. У тебя поворачивается язык сказать, что отец лжет? – Он, как обычно в решительные моменты, настаивал на своем отцовстве.
– Я не собирался быть слишком честным… Вы сами потребовали от меня одной только правды.
– И какова же она?
– Я оставлю ее при себе.
– Нет уж, оставь и при мне! Какие три неправды ты посмел мне приписать?
– Вы хотите, чтоб я сказал?
– Непременно… Надо знать, до чего ты дошел. Докатился!
– Ну, раз вы просите… Во-первых, вы много раз назвали маму своей «любовью», а любите «высоких и стройных». – Мама ростом и стройностью не отличалась. – Во-вторых, вы назвали своей «любовью» меня. А если по правде, вы просто чересчур долго ходили в холостяках – и теперь хотите, чтобы все у вас было, как положено в нормальной семье: жена, муж, ребенок – и все любят друг друга. А в-третьих, вы разговаривали по телефону с женщиной. И еще, между прочим, секретно от мамы курили в комнате. Тоже можно считать… Но это не в счет: ваше личное дело.
Я снова объявил ему «шах». Но «мат», как всегда, оказался недостижимым.
– Два первых твоих обвинения столь нелепы, что опровергать их считаю ниже человеческого достоинства. Если ты не видишь, как я отношусь к маме (которая достойна безграничной любви!) и к тебе (который такой любви недостоин!), значит, ты лишен всякой способности чувствовать и чужие чувства воспринимать! – Я утвердился в своей догадке, что по-настоящему его беспокоило только «в-третьих». – Откуда ты взял… по поводу этого телефона? Я же, еще раз напомню, разговаривал в коридоре.
Отчим, похоже, попытался на цыпочках, потихоньку оправдываться.
– Догадался по тону, по интонациям.
– Совсем забыл, что ты у нас еще и психолог.
– Вы же догадались по «телефонному тону» о моем отношении к Нонне. А я догадался о ваших отношениях…
– Об отношениях?! Это каким же образом… Поделись! Повтори хоть одну мою фразу, которая бы свидетельствовала…
– В том-то и дело, что фраз никаких не было. И никакие важные проблемы не обсуждались. Вы произносили только «да», «нет», «почему». И ни разу не обозначили род… того, с кем беседовали, – ни женский, ни мужской, ни средний. В результате я…
– Скажите, какой знаток! Какой умудренный опытом! Не зря ставишь горчичники своим одноклассницам… У кого ты учишься всему этому? Этой обывательской мелочности! Какая разница, где я курю? И кстати, курил я из-за тебя: переживал, у меня – онколога! – руки дрожали. – Он опять закурил. – Так у кого же ты выучился этой обывательской манере подслушивать и подглядывать, доносить… ябедничать? «По тону, по интонациям», «высокие и стройные»… И у кого ты перенял все остальное?
Он говорил уже совсем тихо – тем явственней была его раздраженность. Пенсне то садилось на переносицу, то покидало ее. Внезапно, что-то придумав, сообразив, он почти прильнул, прижался ко мне:
– Ты чудовищно заблуждаешься! И цинично… Но ради мира в доме я иду на уступки и согласен тебя простить… Однако и ты должен выполнить мою тайную просьбу.
– У вас ко мне…
– Соври еще раз! Ради мамы… Скажи, что не расслышал, ошибся. Или что обманул ее специально, нарочно, дабы свести со мной счеты (неизвестно за что!). Нет, помягче: что хотел мне досадить. Пусть она совсем успокоится. Пусть у нее не останется ни малейших подозрений. Давай заключим мужской договор… А я готов выполнять твои тайные просьбы. И отменить все свои домашние «операции». – Вроде бы мне предлагалась взятка. Он уже не был похож на воителя и онколога-спасителя, но произнес: – Я могу пригласить вас с Нонной в свой Онкологический центр… Путешествие в ад тоже не бесполезно. Активней будете искать и гораздо выше ценить радости жизни. – Я подумал, что сам он ищет радости жизни и ценит их гораздо больше, чем хотелось бы маме. – А по ходу экскурсии я стану, как говорится, «делать тебе набойки»: поднимать твой авторитет, восхвалять твои мужские достоинства, которых пока что не наблюдаю. Это очень на твою Нонну – как на женщину – подействует. Поверь, в этом я разбираюсь.
Я знал, что он «разбирается». Отчим причислил меня к мужчинам, а Нонну – к женщинам. Обещал возвысить меня в ее глазах…
И я соврал. Якобы во имя мамы. А если по правде… Чего бы только я не сделал во имя Нонны!
С этого началось… Между ним и мною возник какой-то подпольный союз. Вскоре он зазвал меня прогуляться, отчего мама пришла в восторг: она жаждала нашего взаимопонимания. Но понимания ситуации у нее самой не было.
– Раз уж мы, любовь моя, заключили мужской договор, выполни еще одну мою просьбу. А я удовлетворю твои преждевременные интересы. – На свежем воздухе Михмат завел не свежую, а давнюю, залежалую тему: – Не называй меня, пожалуйста, на «вы». Очень прошу… Это производит на моих коллег и моих пациентов неблагоприятное впечатление. – Коллеги его весьма изредка приходили к нам в гости, но пациенты, которых он принимал регулярно и дома (что называется, частным образом), были для него куда ценнее гостей. Среди них попадались «стройные и высокие», которых он, мне казалось, обследовал профилактически. Маме этого не казалось. – По рукам? Взаимное «ты»! И еще, если можно, не называй меня отчимом. Это тоже странно звучит: «Мой отчим уехал в командировку», «Мой отчим просил вам передать…». Что за семья? А я для тебя… – Чудилось, мы состояли в заговоре. – Ты видел мою «подарковую коллекцию»?
Видеть ее я не мог: коллекция размещалась в кладовке, ключ от которой отчим носил с собой. «Частные пациенты» не только выплачивали Михмату гонорар по договоренности, но и преподносили ему подарки по вдохновению. Особенно те, у коих он ничего опасного не обнаруживал и которые поэтому были раздираемы благодарностью. Частенько, как он рассказывал, ему, мужчине, дарили духи. Предполагалось, что это для мамы. Но мама косметикой и духами принципиально не пользовалась: она и тут предпочитала природную естественность.








