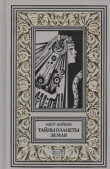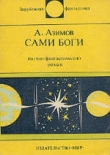Текст книги "Русский советский научно-фантастический роман"
Автор книги: Анатолий Бритиков
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Никогда еще проблема усовершенствования метода не стояла перед утопистом так остро.
Экстраполяция должна была нацеливать аналогию в будущее, между тем в 20 – 30-е годы фабула подавляющего большинства романов о будущем (В. Итина, Я. Окунева, Б. Лавренева, Г. Адамова, Г. Гребнева и др.) потому и основывалась на мотивах классовой борьбы, что аналогии были обращены в прошлое. Мировая революция уподоблялась недавней гражданской войне, в будущее переносились не столько ростки коммунизма, сколько лежащие на поверхности мотивы борьбы за коммунизм. Вместо экстраполированной аналогии получалось плоское отождествление.
Беляев склонен был механически экстраполировать наблюдения над современным человеком. «В одном романе о будущем, – писал он, – я поставил целью показать многообразие вкусов человека будущего. Никаких стандартов в быту… одних героев я изображаю как любителей ультрамодернизированной домашней обстановки – мебели и пр., других – любителями старинной мебели». [166] Казалось бы, все верно, но ведь расцвет высших потребностей, очень возможно, поведет как раз по пути стандартизации низших, о которых говорит Беляев. (Мы вернемся к этому в главе о романах И. Ефремова). Беляев механически прилагал «теорию будущего» к современному быту, тогда как между ними сложная диалектическая связь – через идеал человека, Осуществление идеала, выдвигая на первый план высшие потребности, должно изменить самую постановку вопроса о быте.
Беляев не мельчил идеал. Это, говорил он, «социалистическое отношение к труду, государству и общественной собственности, любовь к родине, готовность самопожертвования во имя ее, героизм». [167] Он крупным планом видел основу, на которой разовьется человек будущего, и у него были интересные соображения о психотипе его. В повести «Золотая гора» (1929) журналист-американец, наблюдая сотрудников советской научной лаборатории, «все больше удивлялся этим людям. Их психология казалась ему необычной. Быть может, это психология будущего человека? Эта глубина переживаний и вместе с тем умение быстро „переключить“ свое внимание на другое, сосредоточить все свои душевные силы на одном предмете…». [168]
Но эти декларации оказались нереализованными. Объясняя, почему в «Лаборатории Дубльвэ» он не решился «дать характеристики людей» и вместо того перенес внимание «на описание городов будущего», Беляев признавался, что у него просто оказалось «недостаточно материала». [169] Очевидно, дело было не в нехватке эмпирических наблюдений, а в ограниченности исторического опыта и обобщения, сопоставления идеала человека с тем, как этот идеал осуществляется.
Разумеется, имел значение и личный опыт. Беляев, вероятно, хуже знал тех современников, кто шел в Завтра. В своих прежних сюжетах он привык к иному герою. Во второй половине 30-х годов писатель подолгу оставался один, оторванный даже от литературной общественности. Понадобилось выступление печати, чтобы Ленинградское отделение Союза писателей оказало внимание прикованному к постели товарищу. [170] Его книги замалчивались, либо подвергались несправедливой критике, их неохотно печатали. Беляев тяжело переживал, что критика не принимает переработанных, улучшенных его вещей, а новые романы с трудом находят путь к читателю. Роман «Чудесное око» (1935), например, мог быть издан только на Украине, и нынешний русский текст – переводной (рукописи, хранившиеся в архиве писателя, погибли во время войны). Чтобы пробить равнодушие издательств, в защиту беляевской фантастики должна была выступить группа ученых. [171]
Писателя не могли не посетить сомнения: нужна ли его работа, нужен ли тот большой философский синтез естественнонаучной и социальной фантастики, то самое предвиденье новых человеческих отношений, к которому он стремился?
Ведь издательства ожидали от него совсем другого. "Невероятно, но факт, – с горечью вспоминал он, – в моем романе «Прыжок в ничто», в первоначальной редакции, характеристике героев и реалистическому элементу в фантастике было отведено довольно много места. Но как только в романе появлялась живая сцена, выходящая как будто за пределы «служебной» роли героев – объяснять науку и технику, на полях рукописи уже красовалась надпись редактора: «К чему это? Лучше бы описать атомный двигатель». [172]
По мнению редакторов, герои научно-фантастического романа «должны были неукоснительно исполнять свои прямые служебные обязанности руководителей и лекторов в мире науки и техники. Всякая личная черта, всякий личный поступок казался ненужным и даже вредным, как отвлекающий от основной задачи». [173] Вот откуда в поздних романах Беляева персонажи только экскурсанты и экскурсоводы. Писатель старался сохранить хотя бы какую-то индивидуальную характерность. «Только в… смешении личного и служебного, – справедливо отмечал он, – и возможно придать реальный характер миру фантастическому». [174] Но задача ведь была гораздо значительней: в личное надо было вложить социально типичное. Беляев отлично понимал, например, что героев романа Владко «Аргонавты Вселенной» с их пустыми препирательствами и плоскими шуточками никак нельзя отнести к «лучшей части человечества». Но сам Беляев посоветовал автору «облагородить» конфликты всего лишь «индивидуальным несходством характеров». [175]
Между тем к концу 30-х годов проблема человеческой личности стала особо насущной, и не только для социальной фантастики. Изменялся тип фантастического романа вообще. Страна заговорила о программе строительства коммунизма. Научно-фантастический роман уже не мог двигаться дальше лишь по железной колее научно-технического прогресса. Какие бы атомные двигатели к нему ни приспосабливали, он нуждался в иных и новых движущих силах – творческих социальных идеях.

Поиски и потери
Новые черты фантастического и утопического романа конца 20-х – начала 30-х годов. Отражение успехов строительства социализма в повести Я. Ларри «Страна счастливых». Укрепление научной основы фантастики в годы первых пятилеток. Закономерности развития знаний и «роман науки» в произведениях А. Беляева, В. Орловского, Ю. Долгушина. Принцип познавательности. Сужение тематики. Романы А. Казанцева, Г. Адамова, В. Владко. Рецидив приключенческой фабульности и оборонная тема. Военно-утопические романы С. Беляева, Н. Шпанова, П. Павленко. Нравственная концепция коммунистического будущего в «Дороге на Океан» Л. Леонова.
1
К середине 20-х годов научно-фантастический роман занял заметное место в общем потоке художественной литературы. Отечественную и переводную фантастику охотно печатали самые разные журналы – молодежные и взрослые, полуспециализированные и общелитературные:
«Вокруг света», «Всемирный следопыт», «Борьба миров», «Техника – молодежи», «Знание – сила», «Красная новь», «Пионер». Толстые ежемесячники и солидные библиографические издания довольно регулярно помещали критические отклики. Даже техническая периодика публиковала художественную фантастику («Авиация и химия») и разборы научно-фантастических идей («В бой за технику»). Зарождаются сборники путешествий, фантастики и приключений «На суше и на море» (возобновлены в 60-е годы). В конце 20-х годов в издательстве «Молодая гвардия» вышли три книги «Современной библиотеки путешествий, краеведения, приключений и фантастики». Так зародилась доныне выпускаемая издательством «Детская литература» «Библиотека приключений и научной фантастики» – старейшее в нашей стране серийное издание этого рода.
Однако к началу 30-х годов выпуск фантастики заметно упал. Может быть, поэтому казалось, что научно-фантастический роман хиреет и даже «умер и закопан в могилу», как говорил К. Федин в 1934 г. [176] Статьи о фантастике, отмечал А. Беляев, имели обычно заголовки: «О жанре, которого у нас нет», «Научная фантастика – белое пятно на карте советской литературы». И словно призывая начать все заново, Беляев писал: "Создадим советскую научную фантастику". [177] В 1938 г. он повторит этот заголовок в новой программной статье. Но к этому времени сам Беляев создаст целую библиотеку фантастических романов и повестей, а читателю также будут хорошо знакомы В. Обручев, А. Казанцев, Я. Ларри, Г. Адамов, Ю. Долгушин, Г. Гребнев, В. Владко – называем лишь самые известные имена.
Правда, в 30-е годы появилось мало произведений высокого класса, о которых мечтал Беляев. Некоторые разновидности пошли на убыль, как например фантастико-сатирический и пародийно-фантастический роман. Другие поджанры продолжали существовать, третьи видоизменились, появились новые. В 1930 г. журнал «Всемирный следопыт» напечатал роман М. Зуева-Ордынца «Сказание о граде Ново-Китеже»; это был первый опыт советских фантастов в исторической теме.
Количественная убыль фантастики на рубеже 20 – 30-х годов отчасти была вызвана установкой: поближе к жизни. Вульгарно примененный к фантастике, этот лозунг ликвидировал ее специфику. В 1930 г., например, некто И. Злобный «предостерегал», что Жюль Верн якобы принес «немалый вред»: его произведения будто бы «размагничивали молодежь, уводили из текущей действительности в новые, непохожие на окружающее, миры». [178] Однако в постановлении о детской литературе от 15 сентября 1933 г. ЦК ВКП(б) рекомендовал переиздавать «уводящего от действительности» Верна…
Были и обстоятельства другого рода, не связанные с вульгаризаторским ликвидаторством фантастики. Энтузиазм первых пятилеток настолько ускорил темпы преобразований, что реальный прорыв в будущее казался фантастичней любого воображения. Сама жизнь приглашала писателей искать фантастическое в сегодняшних трудовых буднях. Беляев после фантастических и приключенческих произведений печатает роман «Подводные земледельцы» (1930) и очерковую повесть «Земля горит» (1931), где элементы научной фантазии введены в реалистическое изображение строительства социализма. Фантастическое видение любопытным образом контаминировалось с реалистическим.
Некоторые писатели пытались, правда, подменить фантастикой реалистическое исследование действительности. В романе А. Демидова «Село Екатериненское» (1929) на месте безотраднейшей «бунинской» деревни чудодейственно возникал этакий фаланстер – дворцы, «пруд с сотнями лодок», «лес радиомачт» [179] и т. п. В третьей (1933) и четвертой (1937) книгах панферовских «Брусков» село Широкий Буерак мановением волшебной палочки преображалось в аграрно-индустриальный город. Тем не менее было очевидно, что «обычного» реализма недостаточно, чтобы выразить стремительную перемену жизни. Л. Леонов расширял перспективу современной тематики, введя в «Дорогу на Океан» (1936) главы о будущем. В повести Н. Смирнова «Джек Восьмеркин, американец» (1930) утопические мотивы финала оттеняли правдивое изображение строительства социализма в деревне. Фантастика выступала как бы эквивалентом романтики.
Тема коммунистического будущего явственно зазвучала в произведениях самого разного плана – и в технологической утопии В. Никольского «Через тысячу лет» (1928), и в космической повести А. Палея «Планета КИМ» (1930), и в авантюрно-сатирически-утопическом романе А. Беляева «Борьба в эфире» (1928). Социальному облику коммунизма целиком были посвящены этюды А. Беляева «Город победителя» и «Зеленая симфония» (оба в 1930), роман Э. Зеликовича «Следующий мир» (1930) и повесть Я. Ларри «Страна счастливых» (1931).
В романах 20-х годов само будущее, ради которого завязывались сражения и совершались подвиги, очерчивалось схематично, по-книжному (романы Я. Окунева), часто в заведомо условной манере – в виде сна («Борьба в эфире» А. Беляева), в духе сказки («Месс-Менд» М. Шагинян) или даже пародии на утопию («Межпланетный путешественник» В. Гончарова). Хотя порой и замышлялись романы эпического размаха, картины коммунистического мира заслонялись в них революционными боями и восстаниями.
А. Толстой, например, в заявке в Гослитиздат (1924) на «Гиперболоид инженера Гарина» обещал, кроме авантюрной первой части, вторую в героическом духе и третью в утопическом: «Таким образом, роман будет авантюрный, героический и утопический». [180] Кроме войны и «победы европейской революции», писатель намеревался нарисовать «картины мирной, роскошной жизни, царство труда, науки и грандиозного искусства». [181] Впоследствии, однако героическая часть оказалась свернутой, а утопическая совсем не была написана.
Три части первоначального замысла «Гиперболоида» соответствовали в общих чертах фабуле романа Окунева «Грядущий мир» (1923) (особенно линия Роллинга, скитания на яхте и т. д.). Хотя Окунев и написал утопический апофеоз, в романе преобладало авантюрное начало и в его свете еще огрубленной выглядело упрощенно-книжное изображение коммунистического общества. Толстой же совсем отказался от утопической части, поняв, по-видимому, что для темы коммунизма малопригодны сами рамки авантюрного романа. Ведь в существе своем фантазия о коммунизме всегда была возвышенно-романтической и философской.
Фабульностью, возможно, надеялись оживить присущую утопиям дидактическую экспозиционность. Описание борьбы за будущее должно было внести ту жизненную конкретность, которой тоже всегда недоставало утопическим романам. И хотя фабульность во многих случаях имела литературное происхождение, усиление внимания к событиям отражало все-таки стремление фантастов к известному историзму: в будущих революционных событиях виделась наиболее зримая связь с героическим прошлым. К тому же по аналогии со вчерашним днем революционной России ближайшее завтра мировой революции рисовалось более отчетливо, чем контуры отдаленного нового мира. Окунев, переделывая свой роман, усилил изображение революционных событий, а не коммунистического общества и соответственно изменил заглавие: «Грядущий мир» превратился в "Завтрашний день" (1924). В фантастических романах второй половины 20 годов: «Борьба в эфире» А. Беляева, «Истребитель 17Y» С. Беляева, «Крушение республики Итль» Б. Лавренева, «Я жгу Париж» Б. Ясенского, акцентрирование мотивов будущей революционной войны отразило нарастание сегодняшней угрозы социалистическому государству. Военно-революционная тематика пройдет через большинство романов 30-х годов и даже обособится в военно-утопическом романе (П. Павленко, Н. Шпанов).
Вместе с тем уже в самом начале насыщенного политическими кризисами и «малыми» войнами предвоенного десятилетия в фантастическом романе наметились существенно новые черты. Успехи социалистического строительства создали уверенность в том, что в советском обществе и при капиталистическом окружении может быть осуществлен переход к коммунизму.
2
Повесть Яна Ларри «Страна счастливых» была посвящена не событиям, которые приведут к победе коммунизма, и даже не столько внешнему облику будущего, сколько идейно-психологическому содержанию человеческих отношений. Писателю удалось показать столкновение коллективизма, уже вошедшего в плоть и кровь гражданина бесклассового общества, с «родимыми пятнами» прошлого. Действие происходит в близком будущем. Дожили до коммунизма люди, духовно связанные с прошлым. Они озабочены, чтобы «непрактичные» энтузиасты космоса не отвлекли Республику от дел насущных. "Они полагают, что все это лишь… фанаберия… Молибден любит повторять: «Нечего на звезды смотреть, на земле работы много…». [182]
В самом деле, страна накануне энергетического голода. И все же Совет ста сочтет возможным совместить решение обеих задач. Молибден просто навязывал свою волю, не церемонясь в средствах. Подослал красавицу-дочь к Павлу Стельмаху: вдруг привяжет мечтателя к земле. Использовал уважение в Совете ста к людям своего поколения и «подсказал» что конструктор больше будет нужен здесь, на земле: вдруг Павел станет на дыбы и невольно разоблачит эгоистическую подоплеку всей затеи – быть первым.
Молибден просчитался. Павел согласился с неожиданным решением Совета: «… вы правы, товарищи. Я остаюсь. Но передайте Молибдену… этому человеку, оставленному у нас старой эпохой: мы другие. Он плохо знает нас» (80).
«… будет день, – говорил Павел, – когда человечество встанет плечом к плечу и покроет планету сплошной толпой… Земля ограничена возможностями… Выход – в колонизации планет… Десять, двести, триста лет… В конце концов ясно одно: дни великого переселения человечества придут» (35). И тогда о пращурах будут судить и по тому, насколько они были коммунистами в заботе о дальних потомках. Романтическая «непрактичность» обнаруживает коллективизм прямодушного конструктора, «земной» же практицизм едва скрывает лукавое властолюбие Молибдена.
Имена– маски и некоторые черточки персонажей (например, показной аскетизм и железная невозмутимость Молибдена), возможно, вызвали у современников ассоциации. Во всяком случае «Страна счастливых» не переиздавалась и в отличие от многих других фантастических произведений той поры не получила отклика в прессе.
Между тем нельзя было не заметить, что повесть Ларри направлена прежде всего против романа Е. Замятина «Мы», незадолго перед тем опубликованного за границей. [183] Замятин изображал коммунизм как общество, противостоящее личности, построенное на стадном коллективизме, которое подавляет мнения и тем самым останавливает развитие.
«Страна счастливых», в противоположность мрачному пророчеству Замятина, исполнена оптимистической убежденности в способности социалистического строя отсечь извращения коммунистического идеала и гармонично слить личность с обществом. Ларри показывал, что при коммунизме конфликты будут не между личностью и обществом, а между разными людьми и различными пониманиями идеала. Общественная жизнь будет борьбой как раз тех индивидуальных воль и страстей, которые, по Замятину, коллективизм фатально подминает.
Антикоммунистическая фантастика получила название антиутопии [184] (термин, впрочем, употребляется и в другом значении – вне связи с идеологией антикоммунизма). В таком духе извращал социализм еще Д. М. Пэрри в романе «Багровое царство» (в 1908 г. издан на русском языке), поздней О. Хаксли и др.
«Страна счастливых» Ларри, по-видимому, одна из первых контрантиутопий. Дело не только в том, что книга объективно противостояла антиутопической концепции, она сознательно нацелена в роман «Мы». Ларри переосмыслил некоторые элементы замятинской фабулы (эпизоды с астропланом и др.). В повести есть такие строки: «В памяти его… встали страницы старинного романа, в котором герой считал, что жизнь в социалистическом обществе будет безрадостной и серой. Слепое бешенство охватило Павла. Ему захотелось вытащить этого дикаря из гроба эпохи…» (62). И далее: «Ты напоминаешь старого мещанина, который боялся социалистического общества потому, что его бесцветная личность могла раствориться в коллективе. Он представлял наш коллектив как стадо… Но разве наш коллектив таков? Точно в бесконечной гамме каждый из нас звучит особенно и… все мы вместе… соединяемся… в прекрасную человеческую симфонию» (157).
Жанр «Страны счастливых» обозначен как «публицистическая повесть». Повествование в самом деле отчасти построено на журналистски-публицистических интонациях. Но суть публицистичности в другом – в злобдневной социальной заостренности фантастических мотивов, в том числе тех, об актуальности которых утопический роман совсем недавно еще не догадывался. Ларри, кажется, впервые после К. Циолковского напомнил о главной, великой цели освоения космоса: это не только познание, но прежде всего насущные жизненные нужды человечества, которому рано или поздно станет тесно на Земле. Именно эта, социальная идея – исходная точка всех ракетных, биологических и прочих теорий патриарха звездоплавания.
Предшественники Ларри не видели угрозы перенаселения планеты. У Окунева в «Грядущем мире» и «Завтрашнем дне» земля покрыта всепланетным городом. В романе Никольского «Через тысячу лет» между гигантскими населенными пунктами оставлены клочки лесов-парков и декоративных нив (пища синтезируется промышленным способом). Писатели либо не понимали, что крайняя урбанизация жизни опасна, либо пренебрегали чересчур дальней перспективой. «Мы слишком счастливы, каждый в отдельности и все вместе, чтобы беспокоиться о том, что будет еще не скоро», [185] – говорят герои коммунистической утопии Морриса «Вести ниоткуда».
Для повести о коммунизме небезразлично, на каком «пейзаже» развертывается мечта. В третьем десятилетии нашего века буколика «Праздника Весны» Олигера была бы смешной. В «Стране счастливых» есть и гигантские города и стратопланы, и светомузыка и телевиденье, и роботы-официанты и скоростной реактивный вагон. Но автор не стремится поразить нас технической феерией. Научно-индустриальная культура нужна будущему постольку, поскольку она способна умножить человеческое счастье.
Западная фантастика лишь после второй мировой войны почувствовала в предупреждении о демографическом взрыве большую тему (см., например, статью А. Азимова «Будущее? Напряженное!» в «Fantasy and Seiens Fiction», 965, № 6). Угроза перенаселения представляется ей источником крайнего обострения социальных противоречий (романы А. Азимова «Стальные пещеры», Ф. Пола и С. Корнблата «Торговцы космосом») вплоть до периодического уничтожения «лишнего» населения (в рассказах Г. Гаррисона «Преступление» и Ф. Пола «Переписчики»). Азимов называет подобные произведения «шоковым средством»: они должны заставить людей задуматься над проблемой.
В «Стране счастливых» развернута разносторонняя картина быта, культуры, техники, морали, искусства. Автор предугадал даже проблему избытка информации – как хранить и осваивать эту нарастающую лавину? (Жизненно актуальным этот вопрос стал много поздней, а в научно-фантастический роман вошел лишь в последнее время). Как изменится лицо города, как будут одеваться люди, какие будет воспитание и образование, общественное питание, медицина, средства связи, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, наука, автоматика в быту и на производстве, как будет централизовано управление экономикой (Совет ста) и децентрализована общественная и профессиональная жизнь (клуб журналистов, звездный клуб и т. д.)? В сравнительно небольшую вещь вложено емкое содержание и главное – хорошо продумана система будущего.
Повесть Ларри лишена грубых просчетов и наивного вымысла, которые характерны, например, для появившегося годом раньше романа Э. Зеликовича «Следующий мир». В этой по-своему интересной, но путаной книге можно прочесть, что граждане «сверхкоммунистического» (!) общества превзошли идеал нравственного удовлетворения трудом и работают уже «из любви к искусству». [186] Искусство труда запечатлено в следующей картинке: «Рабочие праздно разгуливали» по заводу, «поворачивая изредка рычаги на распределительных досках». [187] Сохранилось, оказывается, разделение труда: «для существования» и «ради искусства». Чтобы найти приложение второму, граждане, не занятые в смене, тоже прогуливаются по цехам «и выдумывают, что бы такое изобрести». [188] «Это – безработные», [189] не без юмора поясняет гид.
Порядок без организации, как сказал бы персонаж романа Уэллса «Люди как боги», под сильным влиянием которого написан «Следующий мир». Там есть такая мысль: наше образование – наше правительство. Герои Зеликовича могли бы сказать, что их сознание и есть их организация. Но в сложной структуре индустриального общества это немыслимо. Тем более что сознание героев Зеликовича довольно странное. Скажем, тот, кто голоден, может зайти к соседу и, не спросясь (?!),взять «что и сколько угодно». [190] В школе заложена именно такая мораль. Диалог с учениками:
" – Что такое личность?
– Часть общества.
…
– Что такое частная собственность?
– Общественное зло.
…
– Что такое… скука?
– Один из тупиков буржуазного строя". [191]
Повесть Ларри далека от этого механического понимания личности и общества, собственности и человеческой психологии. В становлении советской социальной фантастики «Страна счастливых» была заметным шагом вперед и отчасти намечала дальнейшее развитие. Мир будущего у Ларри не в «четвертом измерении», как у Зеликовича, но здесь, в Советской стране, и поэтому – конкретней. Ларри удалась проекция этой конкретности в будущее, к чему стремился Беляев.
Несмотря на то что чуткость к духовному миру не сочетается в «Стране счастливых» с индивидуализацией лиц и пластичностью изображения, Ларри удалось наметить в своих героях черты человека будущего. Простота, с какой Павел поступается мечтой о космосе и вместо себя отпускает Киру, – это унаследованное от борцов революции высокое сознание общественного долга, помноженное на природный коллективизм и эмоциональную уравновешенность коммунистического человека. Цельностью натур персонажи «Страны счастливых» напоминают героев «Туманности Андромеды».
От современного читателя не укроется некоторая наивность повести Ларри: чрезмерный ригоризм к современникам, людям 20-х годов: точная датировка отмены денег; стремление людей будущего обременять себя комфортом и т. д. И тем не менее облик будущего привлекает своей достоверностью. Автор перенес в коммунизм огромный энтузиазм 20-х годов. Повесть создавала то ощущение, что на строительной площадке Советской страны в самом деле закладывается Страна счастливых; что будущее во власти не только всемирной истории, ход которой трудно предусмотреть, но уже и в руках строителей социализма в конкретной стране, и поэтому наше созидание, наши пятилетки – самая реальная и грандиозная проблема перехода к коммунизму.
3
К концу 20-х годов схлынул буйный поток пародийно-авантюрной фантастики. Не так бросался в глаза характерный для первой половины десятилетия разнобой – когда рядом с подлинно художественными произведениями А. Толстого, научно аргументированными романами В. Обручева, глубокими по мысли фантазиями К. Циолковского, новаторскими произведениями А. Беляева фонтаном извергались приключенческие боевики писателей вроде Н. Муханова и В. Гончарова. Только в 1924 – 1925 гг. печатный станок выбросил на рынок гончаровские «Долину смерти», «Психо-машину», «Межпланетного путешественника», «Приключения доктора Скальпеля», «Век гигантов». Теперь научная фантастика заметно потеснила приключенческую.
В недавнем прошлом «красный Пинкертон» запросто открывал дверь в таинственное царство машин и приборов. В каком-нибудь чулане на московских задворках «чудаковатый изобретатель» колдовал со своими ретортами и тигелями, «портил предохранительные пробки… устраивал взрывы и пожары, – одним словом, изобретал и изобретал крепко». [192] Плодом его гения была какая-нибудь «металлическая палка» со «сверкающим медным шаром» на конце, подозрительно смахивающая на кондуктор электростатической машины, либо «черно-красная магнитная подкова», [193] тоже перекочевавшая в роман из школьного физкабинета.
Один романист разыгрывал читателя, другой пародировал собрата, а читатель между тем кое в чем стал разбираться. Бутафорские тайны приедались, сколь ни маскировались они загадочной «путаницей штепселей, рычагов и ручек». Хотя читатель еще воспринимал фантастику как занимательное приключение, лишь приправленное «модной» наукой и техникой, воображение требовало более доброкачественной пищи.
В 20– е годы страна невиданными темпами приобщалась к науке и технике. Техническая революция неотделима была от вопроса: быть или не быть новому строю. Область науки и техники выростала в социальный фактор первостепенной важности. Вот почему фантасты уже без прежней лихости обращаются с разными «лучами смерти», почему реже встречаются полуграмотные идеи «передачи по радио» энергии и отпадает «научное» ерничество вроде использования психической энергии для движения машин. Писатели-фантасты глубже начинают изучать науку, подобно тому, как социальный романист изучал общество. Фантастический роман приблизился к столбовой дороге знания, сделался как бы беллетристическим бюллетенем новейшей науки и техники. Даже приключенческая фантастика не может уже обходиться без оригинальных фантастических идей («Борьба в эфире» А. Беляева, «Радиомозг» С. Беляева и др.).
Фантасты принялись обследовать науку и технику с утилитарной задачей – расширить кругозор читателя, зачастую вчера только приобщившегося к книге. Как писала редакция журнала «Вокруг света», советская научная фантастика в отличие от буржуазной должна давать «проснувшейся любознательности исследовательскую окраску». [194] Появляются произведения, где фантастический элемент вводится как прием популяризации. Типичен, например, рассказ А. Беляева «Отворотное средство» (1925). Остроумно, доступно и не огрубляя существа дела писатель знакомил с учением И. П. Павлова об условных рефлексах. Отрицательный рефлекс на алкоголь и есть то самое отворотное средство, которым находчивый студент-медик излечил неисправимого пьяницу. Н. Железников в рассказе-очерке «Блохи и великаны» (1929) популяризировал идею искусственного воздействия на рост животных при помощи гормональных препаратов. Фантастика здесь почти исчезает: она разве что в некотором количественном преувеличении известных эффектов. Очерк Железникова имел даже подзаголовок: рассказ-загадка.
Познавательную, популяризаторскую, просветительную установку стремились распространить на всю научно-фантастическую литературу. В. Обручев, корректируя в своих романах, в соответствии с новыми научными данными, фантастические идеи Жюля Верна, выдвигал на первый план один из его принципов: поучать, развлекая (которым фантастика Верна, разумеется, отнюдь не исчерпывалась). Задача фантаста, говорил Обручев, – облечь знания в «интересную форму», чтобы юношество «усваивало без труда много нового». [195] Он сближал научно-фантастический роман с научно-популярной книгой: «Хороший научно-фантастический роман дает большее или меньшее количество знаний в увлекательной форме» и тем самым побуждает к знакомству с научной литературой. [196]
Беляев тоже говорил, что «толкнуть… на самостоятельную научную работу – это лучшее и большее, что может сделать научно-фантастическое произведение». [197] Но он все же оценивал задачу художественной научной фантастики шире: «…не максимальная нагрузка произведения научными данными, – это можно проще и лучше сделать посредством книги типа „занимательных наук“, – а привлечение максимального внимания и интереса читателей к важным научным и техническим проблемам». [198]
И хотя Беляев был против навязываемого редакционно-издательскими работниками узкого утилитаризма, тем не менее и он писал, что научная фантастика «должна быть одним из средств агитации и пропаганды науки и техники». [199] Эта ее функция, конечно, попутная. Гораздо важней, чтобы фантаст, как говорил Беляев, «сумел предвосхитить такие последствия и возможности знания, которые подчас неясны самому ученому». [200] Здесь было зерно той мысли, что творчество – не только в занимательной художественной форме, что фантазия должна быть направлена и на научное содержание. (В 60-х годах И. Ефремов внесет здесь важное уточнение: фантаст предвосхищает ученого тоже на путях науки, используя те научные идеи и факты, которые пока не поддаются научным методам). [201] Этот принцип был развит Гербертом Уэллсом.