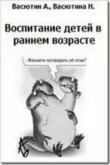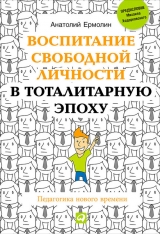
Текст книги "Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху. Педагогика нового времени"
Автор книги: Анатолий Ермолин
Жанр:
Детская психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Как мы победили иждивенчество
Но вернемся в лицей в Коралово, получивший официальное название «Подмосковный». Как только мы поняли, что иждивенчество воспитанников было не результатом их дурного домашнего воспитания, а следствием системы халявного распределения благ, я сразу же связался с Александром Сергеевичем Прутченковым и Борисом Абрамовичем Райзбергом и попросил их разработать модель Лицейской республики, живущей по нормальным экономическим законам. Оказалось, что такая игра под названием «Школьная демократическая республика» уже создана, оставалось только адаптировать ее к условиям нашего учебного заведения.
Самым сложным для лицея оказалось обеспечить реальный оборот товаров, услуг и игровых денег. Поскольку у нас не было настоящего производства, пришлось придумывать систему обеспечения лицеистов «рудолами». Так – созвучно и рублю и доллару – называлась наша игровая валюта. Пожалуй, можно было бы придумать и более серьезное название, но мы не заглядывали далеко в будущее, жили одним днем и не придавали большого значения терминологии. Потом, как обычно бывает, привыкли и ничего менять не стали. На практике наша экономическая система выглядела примерно так.
Правительство лицея ежемесячно выделяло каждому учащемуся грант на выполнение главного государственного заказа – заказа на знания. Объем работ, выполненный лицеистом, измерялся его успеваемостью, дисциплиной, бережным отношением к выдаваемому имуществу и общественной нагрузкой.
Кроме государственных грантов можно было получать зарплату, разумеется, в тех же рудолах. Для этого надо было устроиться на работу в одно из министерств. Министры и их команды занимались абсолютно реальными делами. Министерство труда отвечало за уборку в лицее и на пришкольных территориях, проведение мелких ремонтных работ, заготовку овощей на зиму и т. п. Министерство культуры обеспечивало интересный досуг. Министерство образования следило за успеваемостью и предоставляло услуги отстающим лицеистам.
Министерство медицины следило за санитарно-гигиеническим состоянием. С появлением деловой игры «Школьная демократическая республика» у нас заработала пусть примитивная, но эффективная экономическая модель организации жизнедеятельности.
Сначала обходились безналичными средствами оплаты и взаимных расчетов. В государственном банке, точнее – в толстой кожаной тетради, были открыты личные счета каждого лицеиста, куда регулярно «перечислялись» гранты и зарплата. Чуть позже появились изготовленные на ксероксе и заверенные лицейской печатью наличные деньги. Тратить их можно было с удовольствием – покупая полезную и приятную для всякого ребенка мелочь в лицейском магазине, и без всякого удовольствия – выплачивая штрафы за утраченное или испорченное имущество, опоздание на урок или нарушение действующего законодательства Лицейской республики.
Взимались штрафы исключительно через суд по представлению министерств, контролирующих то или иное направление деятельности. Под обеспечение денежной массы в реальном бюджете нашего учебного заведения была заложена специальная статья, из которой приобретались товары для детского магазина.
Самые «грандиозные» распродажи проводились в конце каждой четверти. Накопив денег, на ярмарке можно было купить французские духи маме, большую мягкую игрушку сестренке, настоящий фотоаппарат или плеер для себя любимого.
Чудо произошло сразу – уже на этапе объяснения правил игры лицеистам. Их словно подменили. Как маленькие куркули, все стали дрожать и чахнуть над собственным имуществом. Завхоз просто обомлела – странным образом перестали пропадать носки и трусики, рваться носимые вещи, теряться канцелярские принадлежности.
Парламент лицея был завален предложениями увеличить срок носки выдаваемых вещей и компенсировать аккуратным пользователям сэкономленные рублевые средства рудолами. Жизнь забурлила. Ведомства отчаянно защищали свои бюджеты. Судьи зашивались со штрафными исками. Министерство труда требовало у администрации уволить всех уборщиц, так как те отбирают рабочие места у желающих заработать лицеистов. Мне на полном серьезе пришлось доказывать парламенту, что по законам России администрация не имеет права допускать детей к уборке туалетов и химически активным моющим средствам.
В лицее обнаружился постоянный «жор» на работу!
Школьная демократия и директора-монархи
В отечественных школах о детском самоуправлении говорят много. Но реальные примеры делегирования детям управленческих полномочий можно пересчитать по пальцам. Да простит меня директорский корпус страны – в очень многих российских школах диктатура директора и педагогов до сих пор остается основной формой управления. И это неплохо… если не умеешь работать по-другому.
«Директора-монархи» – есть такой термин в современном менеджменте – обычно очень эффективные руководители. В возглавляемых ими школах работают сильные учителя, почти нет проблем с дисциплиной, выпускники получают хорошие знания и поступают в вузы. Но только ли знания определяют будущую жизненную эффективность молодого человека?
Обычно в школах с авторитарным режимом управления педагоги умело имитируют детское самоуправление. Создаются различные ученические органы, проводится огромное количество собраний, но такая работа очень часто держится исключительно на взрослой инициативе. Детское мнение учитывается, если оно совпадает с позицией педагогов. Директора-монархи сознательно сдерживают развитие истинного самоуправления и самоорганизации школьников. Именно поэтому некогда столь популярное у детей и новаторов коммунарское движение[9]9
Коммунарская методика – система приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающих творческое развитие коллектива учащихся на принципах гуманизма. Была разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым в конце 1950–1960-х гг. в качестве альтернативы авторитарной командно-бюрократической системе воспитания.
[Закрыть] так и не прижилось советских школах. Замечу: я не вкладываю в термин «директор-монарх» никакого отрицательного смысла. В западной теории корпоративного управления так называют один из наиболее эффективных типов руководителей бизнеса. Впрочем, полезность «монархов» в условиях современной экономики знаний уже под вопросом.
Такой управленец сдерживает самоуправление школьников не потому, что он злодей, а потому, что его система менеджмента не приемлет демократических инноваций. Именно поэтому в школах, которыми руководят эффективные директора-монархи, лучше вообще не вводить никаких систем самоуправления, так как это может привести к взрыву ситуации изнутри и непредсказуемым конфликтам, особенно со старшеклассниками. В мире есть немало педагогических систем, специально ограничивающих права и свободы учеников. Японские школы бизнеса, например.
В советский период островами истинного детского самоуправления были «Артек», «Орленок», «Океан» и другие элитные лагеря пионерского и комсомольского актива. Узнаем ли мы когда-нибудь закрытую статистику самоубийств среди подростков, посетивших эти удивительные детские Утопии и вернувшихся потом в прокрустовы ложа массовой советской школы?
Но от подростков и особенно от детей младшего возраста наивно ждать серьезных инициатив без подсказки взрослого. Более того, такие инициативы скорее будут связаны с развлечениями, а не с общественно полезными делами. А решимость взрослых избегать постановки задач вовсе не означает отказ от организованного воздействия на воспитанников. Тем, кто готов, мы предлагаем не применять авторитарный подход.
«Я сказал – ребенок сделал» – вот самая примитивная формула педагогического авторитаризма. «Я смотивировал ребенка к принятию решения и помог ему советом в реализации задуманного» – с этого, на наш взгляд, начинается формирование у ребенка демократической культуры. Проиллюстрирую это примерами из собственной практики.
Преступление и наказание
Все началось с необычной педагогической ситуации. Был день как день. Лицеисты ушли в школу. Маленький юркий бывший детдомовец Сашка, дежуривший по первому этажу, выровнял оставленную товарищами обувь и побежал догонять их.
Больше всего на свете вот уже целый месяц Сашка не любил Таню Луговую. Она ему, конечно, нравилась, как очень интересная девочка с ярким здоровым румянцем и шикарными длинными светлыми волосами, за которыми ухаживала особенно тщательно. Вот только скверный характер девочки не давал Сашке покоя. Высокая, на голову выше его, сильная и ловкая, улучив момент, когда воспитатель отворачивался в сторону, Таня нередко давала ему хорошего пинка. Обиженный и уязвленный, Сашка часто бросался на обидчицу с кулаками, за что педагоги не раз его наказывали, так как не видели начала этих ссор, а сам Сашка никогда не жаловался на свою обидчицу. Мы были встревожены Таниным поведением.
В лицей Татьяну отобрал я сам. Отец у девочки – очень заслуженный офицер, дослужившийся потом до генерала, командир части, боевой летчик, Герой России, волевой и властный мужчина, привыкший чувствовать себя хозяином на вверенном объекте. Танина мама была вольнонаемной сотрудницей и служила вместе с мужем в горячих точках. После приема девочки в лицей почти сразу семья Луговых была переведена в Таджикистан.
В своем первом сочинении, в котором учащихся просили рассказать о том, что они умеют делать дома, Таня написала: «Я, дочь полковника Лугового, дома умею делать все». На самом деле она ничего не умела, училась из рук вон плохо, но имела огромные амбиции и претензии на лидерство. Придя в лицей, девочка оказалась в ситуации жесткой статусной терапии. Здесь никого не волновало, что она была дочерью командира части. Как и все, она должна была мыть полы, дежурить по столовой. Даже природная красота не давала ей больших преимуществ, так как другие лицеистки могли с ней в этом успешно посоперничать. Не приученной к домашнему труду Тане приходилось выслушивать замечания более трудолюбивых и умелых в хозяйстве подруг. Воспитатели девичьей комнаты то и дело тушили мелкие конфликты, все чаще вспыхивавшие в маленьком коллективе.
Однажды из комнаты девочек раздался пронзительный крик. Я бросился туда из своего кабинета, сбивая столы и стулья. Со всех сторон буквально летели и катились кубарем воспитатели. Когда мы ворвались в комнату, ее обитательницы, живые и здоровые, рыдали в подушки, лежа на заправленных кроватях. Лишь через 15 минут мы прекратили эту коллективную истерику.
Всхлипывающие и пахнущие валерьянкой девочки показали нам свои игрушки. У всех кукол Барби были отрезаны волосы.
Мы начали служебное расследование. Все указывало на Сашку. Тот рвал на себе майки, кричал от обиды и матерился. Это был точно не он – его полные слез глаза горели негодованием и незаслуженной обидой.
Конечно, мы обратили внимание на то, что волосы у куклы Татьяны Луговой пострадали меньше всего – их еще можно было привести в порядок, в то время как скальпы у остальных Барби никакому восстановлению не подлежали. Но это была слишком косвенная улика, и мы не стали делать далеко идущие выводы. Расследование зашло в тупик, и, если бы не фраза, брошенная одной из воспитательниц, боюсь, эта криминальная история так бы и осталась нераскрыта.
– Ладно, девочки. Не переживайте так сильно. Бог все видит. Рано или поздно он накажет виновного.
После этих слов снова пришлось бежать за валерьянкой. Разрыдавшаяся Татьяна во всем созналась. Я не могу привести тех слов, какими называла себя девочка в объяснительной записке. Поверьте, в солдатской казарме от такой лексики у всех бы покраснели уши.
Я задумался. Для меня, начинающего педагога, это была серьезная задача. Смех смехом, но одиннадцатилетняя девочка хладнокровно разработала и совершила самое настоящее преступление, дождавшись выгодного момента и сознательно подставив под удар невинного человека.
Дети ждали нашей реакции, страсти накалялись, нужно было действовать немедленно. Мы приняли решение не отступать от идеологии сотрудничества, опираться на детей, действующую Конституцию Лицейской республики и принципы детско-взрослого соуправления. По Конституции Татьяну должен был судить суд.
Я вызвал еще двух бывших детдомовцев и объявил, что они должны выступить в суде в качестве общественных обвинителей.
– В чем вы будете обвинять Татьяну?
– Она!!! – мальчишки повскакивали с дивана со сжатыми кулаками.
– Она… это! Разве и так непонятно?!
– Непонятно. Сформулируйте четче ваши обвинения. У Татьяны будут адвокаты. Если вы не предъявите никаких обвинений, она выиграет процесс.
Мальчишки задумались. После полуторачасовой беседы мы с трудом сформулировали три пункта обвинения:
1. Порча государственного имущества (Барби были куплены на лицейские деньги).
2. Клевета на гражданина республики.
3. Дискредитация звания лицеиста.
С адвокатами я, конечно, погорячился. Найти в лицее человека, который бы согласился защищать Татьяну в суде, оказалось совсем непросто. Выступать самому было нельзя – всем, и прежде всего Татьяне, нужен был детский авторитет.
Я пригласил в кабинет Колю Доброва. Мальчик страшно переживал за случившееся, пунцовые щеки пылали от волнения, мне показалось, что он даже заикался.
– Коля, ты видишь, хоть что-нибудь хорошее в поступке Тани?
Мальчик смело посмотрел мне в глаза и уверенно ответил:
– Она сама во всем созналась, хотя у вас не было никаких доказательств.
– Ты возьмешься защищать Таню?
Коля опустил глаза и молча кивнул головой.
Суд состоялся на следующий день. Если у меня и есть повод для профессиональной гордости воспитателя, так это именно этот «процесс». Обвинители пришли в суд в темных костюмах и белоснежных сорочках. Их речь была выдержана, никаких оскорблений, все четко и понятно.
Следующей выступила сторона защиты. Коля был как всегда эмоционален, но сумел переплавить все свое волнение в яркую, запоминающуюся речь. Заканчивая выступление, он обратился к присяжным: «На Руси всегда чтили одно правило: повинную голову меч не сечет!»
Инициатива перешла к присяжным, роль которых из-за немногочисленности нашего коллектива исполняли все оставшиеся лицеисты и дежурившие на сутках педагоги.
Я с волнением ждал решения присяжных. Внутренне я был готов к приказу об отчислении, если бы на этом стал настаивать детский коллектив. Но все пошло совсем иначе. Один за другим поднимались мальчишки и девчонки. Все признавали Татьяну виновной, но при этом обращались к высокому суду с особым заявлением – не ходатайствовать перед руководством лицея об отчислении Тани. Они просили нас оставить девочку в школе и брали ее на поруки. Все – даже детдомовцы. Даже Сашка.
Мы часто бываем свидетелями неосознанной детской жестокости. Не наша ли это вина? Суд над Татьяной, с которой конфликтовали практически все, стал для меня примером детского благородства и стремления к справедливости.
Приговор был достаточно суров – конфискация всех денежных средств обвиняемой в пользу Сашки в качестве компенсации нанесенного морального ущерба. Впрочем, Сашка тут же потратил эти деньги на мороженое своим многочисленным друзьям.
Я помню Танины глаза – в них еще отражались испуг и тревога, но они уже лучились радостью и признательностью друзьям.
Мотивировать, а не приказывать
Вся система управления коллективом лицея была построена на принципе детско-взрослого сотрудничества. Нам с Юрием Григорьевичем Мамоновым пришлось потратить много сил, чтобы переломить сознание пришедших из школ педагогов. Большинство из них стали моими добрыми друзьями, все они были очень ответственными людьми, любили детей и имели большой педагогический опыт. Я признателен им, что они поверили в нашу интуицию и согласились работать в непривычном режиме. В чем же заключалась эта «непривычность»?
Прежде всего в том, что наши педсоветы всегда проходили в два этапа. На первом они мало чем отличались от обычных: мы говорили о наших проблемах, намечали учебные и воспитательные задачи, планировали и обсуждали ближайшие мероприятия, назначали ответственных. Второй этап всегда был посвящен не менее важному вопросу – как сделать так, чтобы наши взрослые планы стали для детей их собственными. По сути, это были уже не педсоветы, а методические заседания, проводимые нередко в форме мозговых штурмов. Как решение педсовета превратить в парламентский закон? Как повлиять на Министерство труда, чтобы повысить качество уборки в спальных помещениях?
Все лицейские педагоги входили в состав сената – верхней палаты нашего парламента. По Конституции мы имели право на заседания в закрытом режиме, чем собственно и являлись наши педсоветы и рабочие совещания.
Нижнюю палату законодательного собрания формировали сами дети. Мы часто проводили совместное заседание палат, на которых и взрослые, и дети выступали в качестве абсолютно равноправных партнеров. Кирпичик за кирпичиком мы строили наше детско-взрослое демократическое сообщество.
Именно в лицее мы впервые апробировали еще один фундаментальный принцип нашего движения – главный статус педагога «Новой цивилизации» должен быть статусом советника. Мотивируй, но не приказывай, советуй, но не решай за ребенка его проблемы. Будь готов, что к твоему совету могут не прислушаться. Дети имеют на это абсолютное право, даже если это тебе не нравится. Конечно, лицеисты осознавали, что у нас гораздо больше властных полномочий, но в соответствии с принципом «педагогического договора» мы с ними об этом условливались заранее.
Даже самые маленькие воспитанники без труда понимали, что у воспитателя гораздо больше власти, потому что больше ответственности. В нашу Конституцию, а потом и в документы летних обучающих лагерей «Новой цивилизации» было внесено положение о том, что в экстремальных ситуациях, когда жизни или здоровью детей угрожает опасность, директор или любой взрослый педагог вправе ввести чрезвычайное положение и перейти к «прямому административному управлению детским коллективом». Но это оговаривается заранее в игровом формате отношений ребенка и взрослого.
Мы даже придумали для директора специальное название – «Верховный правитель». Во время ЧП его распоряжения не обсуждаются. Но в обычной жизни, а ЧП за два с лишним десятилетия мы не вводили ни разу, права ребенка гарантирует Конституция, и никто не может запретить молодому человеку жить по своему усмотрению, если он не нарушает никаких законов и правил, установленных внутренним распорядком. Кстати, у нас в движении достаточно жесткие требования к дисциплине, но дети и родители знают о них заранее.
Так, «принцип пяти табу» стал мощным дисциплинарным регулятором наших летних обучающих программ. Суть его заключается в том, что свобода участника ограничивается пятью категорическими «нельзя». Не допускаются:
• самовольная отлучка;
• физическое оскорбление товарища (или, попросту говоря, драка);
• распитие спиртных напитков (даже пива);
• неподчинение законным требованиям взрослого педагога;
• «далеко зашедшие интимные отношения».
При нарушении любого из этих правил провинившихся ждет немедленное отчисление из летнего лагеря (о летних программах «Новой цивилизации» мы поговорим позже).
Разведчики новых дорог
Скаутские, или, точнее, приключенческие программы с использованием скаутских методик мы использовали в основном в выходные дни. Они способствовали формированию характера воспитанников, помогали командному сплочению и элементарной социализации, то есть готовили наших детей к настоящей взрослой жизни.
В чем суть Скаутского Метода? В его уникальном соответствии психологическим потребностям ребенка! В 1907 г. национальный герой Британии полковник Роберт Баден-Пауэлл разработал, описал и впервые апробировал на практике универсальную технологию воспитания мальчишек. С тех пор Скаутское движение 107 раз отметило свой день рождения. В 2009 г. отпраздновало свой 100-летний юбилей Скаутское движение России, где скауты появились раньше, чем в США, и до революции 1917-го их в стране насчитывалось более пятидесяти тысяч!
В мире вряд ли найдется более жизнеспособное и популярное некоммерческое детское движение. Ушли в прошлое не только пионерская и комсомольская организации – во всем мире канули в историю сотни тысяч молодежных организаций, и только Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) продолжает собирать на свои фестивали сотни стран, десятки тысяч детей, тысячи и тысячи взрослых лидеров. А ведь это – волонтерская организация, в основном существующая на средства родителей.
«В начале было Слово…» Именно так начинается Книга Книг. В «библии» Скаутинга (Scouting for Boys) это слово – «разведка». В десятках стран мира я искал объяснение исключительной популярности скаутской системы воспитания. Как ни странно, ответ на этот непростой вопрос я нашел в России, у известного в психологических кругах петербургского профессора – Марии Осориной. По ее гипотезе, изложенной в книге «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», ребенок, расширяя свое жизненное пространство, на подсознательном уровне чувствует себя разведчиком (по-английски «разведчик» – scout, скаут).
В 12 лет самосознание нормального ребенка уже абсолютно развито. Он чувствует себя полноценным взрослым членом общества, которое, однако, не признает ни его потенциал, ни амбиции. И тогда мальчик или девочка начинают вести себя как разведчики. Они приспосабливаются к обществу, принимают наше к ним отношение, но не мирятся с этим. Они разведчики в социальном плане. Раз тебя держат за ребенка, так почему бы не прикинуться им? Тем более что зачастую это бывает очень удобно.
Скаутские игры, или игры в разведчиков, одинаково интересны всем детям независимо от интеллектуального, социального или материального уровня. Скаутинг – это романтика приключений с поэтической точки зрения и удовлетворение глубинной потребности растущего человека в расширении своего жизненного пространства – с научно-психологических позиций.
За сто лет Скаутским движением разработано потрясающее методическое обеспечение учебно-воспитательных программ. В основе всех скаутских национальных программ лежат так называемые программы прогрессивного развития личности ребенка. В «Новой цивилизации» их аналогом является «Базовый курс навигатора». Чуть позже я подробнее расскажу о появлении термина «навигатор» – по существу это синоним слов «скаут» или «пионер», – а пока постараюсь объяснить, почему так хороши и эффективны скаутские методики и программы.
Костры, вигвамы, походная жизнь – что может быть более привлекательным для ребенка? Кто из вас хотя бы раз в жизни не сколачивал из найденных досок собственных штабов, не копал землянок, не ходил в несанкционированные родителями путешествия? Кто не любовался течением реки и не испытывал щемящего чувства приближающегося будущего, глядя на плавно качающиеся, пригнутые речным течением водоросли?
Дух приключений – вот психологический крючок, на который можно поймать любого нормального ребенка, подростка, юношу и даже молодого человека. В большинстве случаев скаутская организация оправдывает ожидания своих рекрутов. Молодые люди получают то, к чему стремились, – увлекательные путешествия, радость общения, здоровую порцию адреналина, возможность для самореализации, читай: самоуважения. Но нам, воспитателям, этого недостаточно: ведь мы стремимся не только удовлетворить потребности наших воспитанников, но и научить их полезным навыкам, а иногда и выживанию в обществе.
И тогда нам на помощь приходит скаутская программа, в основу психологической привлекательности которой положен принцип слоеного пирога. Вот «слой» из шалашей, узлов, ночных походов и сплавов по горным рекам. Этот слой очень «вкусный», его любят все дети без исключения. А вот слой «пресный», с точки зрения взрослеющего подростка. Он дает информацию о том, как устроено общество, в котором тот живет, как выбирают мэра, зачем надо платить налоги и как вызвать службу спасения, если произойдет несчастный случай.
У «слоеного пирога» Скаутского Метода есть одно очень важное правило – его надо есть целиком. Выковыривать изюминки не разрешается. На практике этот принцип реализован в системе скаутских разрядов и профессий. Получить более высокий разряд можно, только освоив определенный набор обязательных скаутских профессий и профессий по выбору. Хочешь стать круче? Добро пожаловать! Сходи в поход, научись готовить хлеб из желудей и кашу из корней рогоза, поднимись на горную вершину и спустись с неба на парашюте. Нравится? Но этого мало. Сходи на сессию законодательного собрания своего города, разберись в экологических проблемах своей местности, составь бюджет своей семьи и программу по его оптимизации. Не слабо? Если нет, значит, вы будете хорошим скаутом и, возможно, достигнете в этом движении самых высоких вершин.
Как рынок автоматически регулирует экономические отношения в свободном обществе, так и скаутинг готовит исключительно эффективных и успешных во всех сферах деятельности людей. Особенно скауты гордятся своей статистикой. Через Скаутское движение прошли целые королевские династии, крупнейшие политики, генералы, руководители крупнейших промышленных и финансовых корпораций мира. Из 2–3 % детей, охваченных организацией в разных странах (только в США численность скаутов от общей численности детского населения составляет 5–6 %), вырастают 70–80 % представителей национальных управленческих элит. Такими показателями действительно можно гордиться!
В лицее «Подмосковный» мы активно использовали различные элементы Скаутского Метода. Я пишу эти слова с большой буквы, потому что так принято во всем мире. Это не «метод» в привычном для российской педагогической мысли понимании этого термина. Речь идет обо всей системе воспитания юношества, разработанной основателем Скаутского движения.
В первую очередь мы опирались на такие скаутские принципы (на Западе говорят «элементы Скаутского Метода»), как:
• обещание и закон (совокупность правил скаутской жизни как сознательное принятие ребенком определенных морально-нравственных обязательств перед всем движением скаутов, наставниками и друзьями);
• работа в малых группах;
• жизнь на природе;
• учеба через дело;
• использование формы и знаков отличия как приемов ролевой игры и визуального поощрения;
• система программ прогрессивного развития личности, представляющая собой четкую систему разновозрастных программ и формируемых у ребенка компетенций (скаутских профессий и разрядов).
Приведу лишь некоторые примеры использования скаутских принципов в учебно-воспитательной работе нашего лицея.