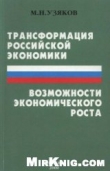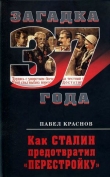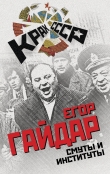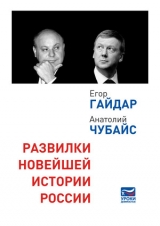
Текст книги "Развилки новейшей истории России"
Автор книги: Анатолий Чубайс
Соавторы: Егор Гайдар
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Источник: ЦБ РФ.
Эти меры позволили стабилизировать валютный курс, переломить тенденцию к ускорению инфляции ( рис. 49). Справочно: с 1 по 7 сентября 2009 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала месяца – 100,0, с начала года – 108,1%; в 2008 году с начала месяца – 100,1%, с начала года – 109,8, в целом за сентябрь – 100,8%.

Рис. 49. Темпы инфляции в России в январе—декабре 2010 года, % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат.
Острого банковского кризиса удалось избежать. Но принятые решения были непростыми. Их первый результат – резкое изменение ситуации с производством, переход от режима динамичного экономического роста к его падению ( рис. 50– 52, табл. 14). Второй – радикальное ухудшение ситуации на рынке труда ( рис. 53).

Рис. 50. Объем ВВП России в реальном выражении в I квартале 1998 – III квартале 2010 года, % к соответствующему периоду предыдущего года
Источники: Росстат, база данных ГУ – ВШЭ (http://stat.hse.ru/exes/tables/GDP_Q_I.htm).

Рис. 51. Индекс промышленного производства в I квартале 1998 – IV квартале 2009 года, % к соответствующему периоду предыдущего года
Источники: Росстат, база данных ГУ – ВШЭ (http://stat.hse.ru/exes/tables/IND_Q_I.htm).

Рис. 52. Динамика инвестиций в основной капитал в I квартале 1998 – IV квартале 2010 года*, % к соответствующему периоду предыдущего года
* Оценка.
Источники: Росстат; база данных ГУ – ВШЭ (http://stat.hse.ru/exes/tables/INVFC_Q_I.htm).
Таблица 14
Баланс бюджета расширенного правительства РФ в I квартале 2008 – IV квартале 2010 года, % ВВП
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2008
11,2
10,0
12,2
–13,3
2009
2,7
–8,6
–3,5
–13,6
2010
2,5
0,3
–1,4
–14,0
Источники: Росказна, Росстат, Экономическая экспертная группа (http://www.eeg.ru).

Рис. 53. Численность населения, получавшего пособие по безработице в марте 1998 – декабре 2010 года (на конец месяца), тыс. человек
* Данные за 1998 год: число лиц, имевших право на получение пособия по безработице.
Источники: Росстат, Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 1998. III / Пер. с англ. М.: Российско-европейский центр экономической политики (RECEP), 1998. – http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/recep/1998/4/rcpb199840000work/rcpb199840000work010.htm
Развилки нашего времени
Сейчас61 перед российскими органами власти стоят три ключевые развилки. В отличие от всех, проанализированных ранее, они касаются не прошлого, а будущего России и их пока нельзя считать окончательно пройденными. Выбор по каждой из них окажет глубинное стратегическое влияние на судьбу нашей страны в следующие десятилетия.
Перваясводится к выбору: можем ли мы решить для себя, что худшее позади, и отказаться от консервативной бюджетной и денежной политики, сконцентрировать усилия на развитии реального сектора? Или мы должны сохранять прежнюю денежную и кредитную политику и избранные осенью 2008 года экономико-политические приоритеты?
Наше мнение, что отказ от консервативной бюджетной и денежной политики был бы для России безответственным и опасным.
Сегодня трудно прогнозировать, как будет развиваться глобальный кризис, как он повлияет на Россию. Принятые властями Соединенных Штатов, ведущих стран Евросоюза, Японии, Китая меры могут на несколько месяцев смягчить его воздействие на глобальную экономику. Но насколько эти усилия позволят дать устойчивые результаты, сказать трудно. Неясны масштабы проблем в банковской системе ведущих европейских стран. Непросто понять, как в первом полугодии 2010 года будут решаться проблемы с погашением корпоративных облигаций. Мало кто знает, насколько вероятен кризис по образцу «мыльного пузыря» в Китае. Если не знаешь, как будет развиваться кризис, надо исходить из худшего сценария. России, имеющей опыт валютной катастрофы, которая привела к краху Советского Союза, надо быть особенно осторожной.
Втораяразвилка: сможем ли мы построить инновационную экономику и встать в ряд конкурентоспособных высокоразвитых государств или Россия постепенно окажется в группе слаборазвитых стран?
По сути, эта развилка стоит сегодня перед нашей страной в резко очерченной форме: инновации или деградация?
На каком историческом фоне она возникла?
При всей неэффективности советской экономики в ней были реализованы уникальные технологические проекты – атомный и космический. Каждый из них без преувеличения можно отнести к числу величайших научно-технических достижений человечества в ХХ веке. Однако ни тогда, ни позже советская экономика оказалась не в состоянии создать качественные высокотехнологичные изделия, нужные для граждан страны. Советские автомобили, телевизоры, радиоприемники, бытовая техника и т.д. практически всегда отставали по своим качественным параметрам от зарубежных аналогов.
И успехи, и провалы советских инноваций глубоко детерминированы базовыми свойствами советской экономики. Будучи тотально огосударствленной, она умела создавать спрос лишь там и тогда, где и когда у государства возникала в этом острая потребность. Почти всегда это было связано с глобальным геополитическим противостоянием и соответствующими проектами в оборонной сфере. В то же время исходящий от населения денежный спрос не мог быть значимым сигналом в советской экономике, он по своей природе не мог быть воспринят централизованной плановой экономикой. В этом смысле по мере развития мирового научно-технического прогресса отставание советской экономики становилось все более заметным.
С начала 1970-х годов советская наука вошла в период замедления развития, а затем и застоя. Несмотря на отдельные сохранявшиеся перспективные результаты, советские НИИ все больше превращались в символ неэффективного использования интеллектуального потенциала страны.
Не случайно первая инициатива М. Горбачева после избрания его генеральным секретарем ЦК КПСС формулировалась как концепция ускорения научно-технического прогресса, а в ЦК КПСС в июне 1985 года по этому вопросу прошло большое совещание, на котором с основным докладом выступил сам генеральный секретарь62. Партийная элита ощущала, что советская экономика не воспринимает инновации, и необходимо что-то предпринимать. Разрабатывались различные программы, однако все попытки решить эту задачу оказались безуспешными.
В последующие 20 лет в условиях рыночных преобразований и открытой экономики некоторые отрасли деградировали, сократив объемы выпуска транспортных средств, станков, текстильного оборудования, швейных изделий и др. Однако успешно развивались такие отрасли, как производство электрооборудования, металлургия, химия, нефтехимия, телекоммуникации, высотное домостроение. Агрегированный индекс промышленного производства России в 2008 году находился на уровне начала 1990-х годов ( рис. 54).

Рис. 54. Темпы роста промышленного производства по отраслям
Источник: Росстат, www.rusnano.com
Производительность труда в России по паритету покупательной способности по сравнению с США практически не изменилась за 1990—2007 годы и составляет около 30%.
В этот период происходила структурная перестройка экономики, позволившая стране сохранить уровень общего экономического развития, но также не давшая толчка для инновационного развития. По расчетам ГУ – Высшая школа экономики, доля предприятий, внедряющих инновации, в России не превышает 10—11%, в то время как в развитых странах ЕС этот показатель достигает 70%, а в менее развитых странах ЕС – 20—25%63.
По данным Мирового экономического форума 2008—2009 годов, в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия находится на 51-м месте из 134 стран мира, при этом по рейтингу инновационной активности – только на 48-м месте64. Таким образом, серьезное отставание нашей страны в этой сфере от мировых лидеров, наметившееся еще в середине 1970-х годов, так и не удалось наверстать вплоть до настоящего времени.
Сам феномен успешных страновых инновационных моделей в мире укоренился и стал распространяться в последние двадцать лет, когда Россия решала историческую задачу построения рыночной экономики и запуска экономического роста. В числе первых к созданию инновационной модели развития экономики в начале 1960-х годов приступили США и справились с задачей к 1980-м годам. Тайваню, одному из лидеров в инновационном мире, на это потребовалось 25 лет, Израилю и Южной Корее – по 20 лет. В начале 1990-х годов финская экономика оказалась в катастрофическом положении из-за распада СССР и утраты роли советского «окна» в Европу. Однако сегодня Финляндия, раньше практически не обладавшая высокотехнологичными отраслями, в любом межстрановом сравнении признается одним из лидеров инновационной экономики.
В 2000-х годах экономический рост в России основывался на сырьевом драйвере, с хорошо известными ограничениями. Способна ли экономика такого типа перейти к новому качеству экономического роста в наших экономических, социальных, политических реалиях?
Важное условие для становления инновационной экономики – состояние науки и образования. Не ставя перед собой в данной работе задачу серьезного анализа, отметим, что ряд стран разворачивали работу по строительству инновационной экономики, имея существенно менее высокий уровень развития этих сфер, чем современная Россия (например, Южная Корея или Тайвань в начале 1990-х). Следует отметить и то, что в последние 5—7 лет эти отрасли в России получили значимую государственную поддержку. Многие вузы, в том числе в провинции, имеют исследовательское оборудование мирового уровня. Несмотря на сохраняющиеся нерешенные проблемы, они получили серьезный дополнительный импульс и для образовательного процесса, и для проведения исследований. В действующих в России обрабатывающих отраслях и в отраслях «новой экономики», в том числе в атомной промышленности, авиакосмической промышленности, энергомашиностроении, телекоммуникациях, программировании и ряде других существует высокий уровень технологической и инженерной культуры, работает высококвалифицированный персонал. Таким образом, в этой области стартовые условия нашей страны для инновационного разворота не хуже, чем у многих стран, такой поворот совершивших.
Серьезные дискуссии разворачиваются в последнее время вокруг проблемы соотношения роли государства и частного бизнеса в построении инновационной экономики. Нам представляется, что в ответе на этот вопрос, было бы ошибочным уходить в крайние позиции. Вырабатывая российский баланс в данной дилемме, следует внимательно присмотреться и к мировому опыту, и к реальному состоянию этих институтов в нашей стране.
Вряд ли сегодня необходимо всерьез доказывать, что движение к инновационной экономике надо строить на рыночных ценностях, таких как частная собственность, конкуренция, общепринятые правила игры, долгосрочная макроэкономическая стабильность, низкая инфляция. Не существует ни одной успешной инновационной страновой модели в мире, доказавшей обратное.
Вместе с тем, роль государства в содействии инновационному процессу крайне важна. В Израиле по государственной программе Yozma была создана венчурная индустрия. Вклад государства – более 100 млн долларов. Там функционирует институт Главного ученого Министерства промышленности с ежегодным бюджетом порядка 500 млн долларов. В Южной Корее расходы государственного бюджета на поддержку инноваций в частном бизнесе составляют 1 млрд долларов. В Финляндии только по программам TEKES и SITRA выделяется 582 млн евро в год. В США по программе поддержки малого инновационного бизнеса SBIR государство расходует по 2 млрд долларов в год.
В каждой стране формируется своя инновационная модель. В Израиле большая часть инновационной экономики заканчивается на фиксации и последующей продаже прав на новую интеллектуальную собственность, там почти нет крупных фирм, нацеленных на производство высокотехнологичного продукта. В Японии и Южной Корее, напротив, не очень много малых инновационных бизнесов. В некоторых странах крайне слабы фундаментальные исследования, но есть инновационная экономика, ориентированная на новые технологии. Выбирая цели и приоритеты инновационной политики, государство должно идти от реальности, в том числе от имеющегося задела и формируемого отечественного и мирового спроса. России предстоит найти свою модель, но очевидно, что одной из важнейших ее составляющих станет баланс вклада бизнеса и власти в инновационное развитие страны.
Ожидать серьезного вклада бизнеса в инновационное развитие невозможно без формирования необходимого для такого поведения правового поля. В России началось преобразование законодательства для стимулирования инновационной экономики, сделаны первые шаги. Однако масштаб задач в этой сфере потребует нескольких лет последовательной работы. Перечислим только наиболее важные сферы законодательства, нуждающиеся в изменениях, а то и в серьезной переработке.
Действующее корпоративное законодательство не адекватно потребностям развития инновационной экономики. В нем отсутствуют современные организационно-правовые формы для осуществления самой инновационной деятельности. Ни общества с ограниченной ответственностью, ни акционерные общества, ни товарищества не позволяют гибко маневрировать уставным капиталом, создавать соглашения, юридически обязывающие не только акционеров, но и менеджмент, а иногда и потенциальных потребителей разворачивающегося нового бизнеса. Без такой гибкости запуск многих старт-апов просто невозможен. Отсутствуют и адекватные формы для формирования привычных мировому инновационному сообществу венчурных фондов. Предлагаемая нашим законодательством форма закрытых ПИФов неповоротлива, слишком зарегулирована, поскольку создавалась не для этой цели, а являлась лишь попыткой приспособить инструмент, созданный для привлечения средств мелких инвесторов, к инновационным потребностям.
Требуется изменить и налоговое законодательство. В предшествующие годы главным было перекрыть каналы уклонения от уплаты налогов при почти полном отсутствии механизмов стимулирования. Сегодня нужны гораздо более сложные конструкции для стимулирования инновационной деятельности и экспорта высокотехнологичной продукции. Принятые в конце 2010 года поправки, отменяющие налогообложение с прироста стоимости капитала (capital gain) – правильное, но лишь одно из первых решений в этой сфере.
Нуждается в пересмотре и таможенное законодательство. Для таможни нередко экспорт 1 млн тонн зерна или биочипа с образцом органического материала – одно и то же. При такой регламентации пересечения границы невозможно взаимодействовать с миром инноваций.
Назрели радикальные перемены и в техническом регулировании. Надо признать, что действующий закон о техническом регулировании не работает. В России есть остатки советской системы техрегламентов, перемежающиеся новыми регламентами на молоко и еще пятью другими, принятыми в последнее время. Так можно жить, если экономический рост страны завязан на экспорт нефти. Но так нельзя работать, если стоит цель построить инновационную экономику.
Сегодня права на результаты исследований и разработок, проведенных при софинансировании из госбюджета, зачастую принадлежат государству. Глава 4 Гражданского кодекса разрешила передавать их гражданам – создателям новых технологий и продуктов, но бюрократическая реальность практически исключает такую возможность. Полагаем, что здесь нужно не разрешение, а принуждение государства к передаче такой собственности. Фактически эта интеллектуальная собственность продолжает оставаться государственной, то есть ничьей. Допускается лишь признание прав на нее юридического лица – исполнителя по государственному контракту. Чаще всего – это государственные бюджетные организации. Но стимулы, мотивы и предпринимательская активность таких неэффективных собственников хорошо известны. Для повышения результативности использования научных и инженерных разработок, по сути, нужна приватизация интеллектуальной собственности или «интеллектуальная амнистия».
Нужны поправки в миграционное законодательство. Первые шаги по его либерализации, принятые в 2010 году, позитивны. Однако необходимы более глубокие решения, переосмысливающие его концептуальную направленность: если в низкоквалифицированной трудовой иммиграции нам нужны ограничения, то в высококвалифицированной – стимулы. Не изменив этот порядок, нельзя модернизировать экономику.
Требует существенного пересмотра работа по созданию инфраструктуры инновационной экономики. Это касается как финансовой инфраструктуры (гранты, посевные, допосевные, венчурные фонды), так и нефинансовой (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансферта технологий, технико-внедренческие зоны). Создание инфраструктуры немыслимо без участия государства. По статистике в России тысячи технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий, они есть в отчетах. Но их крайне мало в реальной жизни, часто они – просто не то, за что их выдают. Условия, в которых действуют эти организации, неадекватны поставленным целям. Значит, непригодны нормативная база и система контроля. Но построить инновационную экономику без соответствующей ей инфраструктуры невозможно.
Применительно к крупным, особенно монопольным, государственным компаниям считаем обоснованным принуждение их к инновациям. Государство дозрело до того, чтобы потребовать от них активности в этой сфере. Разумна идея принятия инновационных программ, аналогичных инвестиционным. У инвестиционных программ за 5—10 лет сложились методическая культура, организационные процедуры, соответствующие структурные подразделения. Осталось сделать шаг от инвестиций к инновациям, от роста – к изменению качества роста. В крупных государственных компаниях должны быть оформлены инновационные программы с ясными целями, бюджетом, сроками. Например, у нефтяников – повышение коэффициента извлечения нефти из пласта, у энергетиков – рост КПД генерации или снижение потерь в сетях. Под эти цели необходимо формировать целостные программы, пригодные для контроля.
С частным бизнесом такой подход не работает. Если частная компания делает что-то крупное в инновационной сфере, она вправе рассчитывать на поддержку государства. В последние годы едва ли не каждая крупная частная компания обращалась за помощью к государству, поэтому эту помощь обязательно следует обуславливать инновационными разработками. Такая логика бизнесу будет понятна.
Особое значение имеет региональная инновационная политика. Условия для инноваций возможны далеко не везде, возникновение целостной инновационной экосистемы – очень тонкий и трудноуправляемый процесс, в котором финансовые и организационные условия не менее важны, чем среда и атмосфера, которые всегда регионализированы. В США половина всей высокотехнологичной инновационной экономики приходится всего на два штата: Калифорнию и Массачусетс. В России Томск и Казань уже сделали заявку на лидерство в инновационной экономике. Там работают десятки высококлассных инновационных компаний с объемами продаж на сотни миллионов долларов. Их опыт надо изучать и продвигать.
Потребуются серьезные преобразования в структуре и функциях федеральных органов исполнительной власти. В нашем понимании, необходимо одно министерство, концентрирующее у себя функции штаба инновационной политики. Наиболее естественным было бы не создавать для этого новый орган, а дополнить полномочия Министерства экономического развития, преобразовав его, скажем, в Министерство экономики и инновационной политики. В дополнение к этому практически в каждом министерстве должен появиться заместитель с соответствующими подчиненными структурными подразделениями, ведущий инновационную тематику. Эту организационно-управленческую задачу государство обязано решить.
Таким образом, для инновационного разворота потребуется комплекс усилий государства и бизнеса в самых разных областях. Его придется совершать в условиях, когда развитию инновационной экономики в России препятствует плохая укорененность частной собственности, ее слабая защита. Налицо высочайший уровень коррупции, неэффективная судебная система, слабая конкуренция в большинстве отраслей и отсутствие конкуренции в политической системе, подконтрольность ведущих электронных СМИ государству. Но это не значит, что нельзя и не надо переводить страну на рельсы инновационного развития.
Парадокс в том, что и при таких условиях во многих регионах инновационная экономика есть. Возникшие с нуля в последние 10—15 лет компании «Данафлекс» из Казани, «Микран» из Томска, «Монокристалл» из Ставрополя, «Новомет» из Перми и многие другие сегодня работают на мировом инновационном уровне. У многих – значительная доля экспорта, объем продаж, уже превышающий 100 млн долларов, и темпы роста по 20—40% в год. Они возникли тогда, когда государство не ставило целью развитие инновационной экономики, а ставило ей барьеры. Но эти компании добились успеха.
Следует понимать, что инновации нужны прежде всего нам самим. Производители из других стран готовы продавать России всё. Новые Airbus и Boeing уже поставляются, Bombardier – на подходе, так что наш «Сухой» необходим нам самим для развития России.
Как бы ни были значимы задачи инновационной политики, стоящие перед государством, надо отдавать себе отчет в том, что основным драйвером инновационного развития в России может быть только частный бизнес. Государство может и должно формировать цели и приоритеты инновационной политики, создавать условия, стимулировать, продвигать, но само создание коммерческого инновационного продукта всегда останется прежде всего прерогативой частного бизнеса. В России он очень молод. Всего два десятилетия назад частнопредпринимательская деятельность каралась лишением свободы сроком от 3 до 8 лет. С тех пор российский бизнес из палаток переместился в современные, оборудованные по последнему слову техники сетевые торговые оптово-розничные компании. Он освоил средние, крупные и крупнейшие промышленные производства. В ряде отраслей наши бизнесмены конкурируют с глобальными компаниями. Российский бизнес на наших глазах прошел путь от «бабушек с носочками» по Указу Президента РФ «О свободе торговли» в 1992 году до крупных частных транснациональных компаний в современной обрабатывающей промышленности. Создание нового качества – инновационной экономики – и есть главный вызов, стоящий сегодня перед российским частным бизнесом.
Все это не означает, что не следует заниматься модернизацией политической системы. Ошибочно лишь искусственное противопоставление политической и экономической модернизации, и уж совсем неприемлемы логические конструкции по типу – «пусть сначала нам сделают демократическую политическую систему, а потом мы начнем создавать инновационную экономику». Если бы страна развивалась в этой логике, у нее и сегодня не было бы ни частной собственности, ни рыночной экономики.
Таким образом, для построения инновационной экономики в России необходимо существенно улучшить качество государственного управления и одновременно получить мощный позитивный импульс от частного бизнеса. Оба этих важнейших института должны взять на себя решение новой исторической задачи, заново выстроить взаимодействие между собой. По сложности такая реформа сопоставима с преобразованиями, через которые наша страна прошла за последние 20 лет. Вместе с тем, она вряд ли их превосходит. При всех имеющихся проблемах, ни в политической, ни в экономической системе современной России нет блокирующего механизма, делающего невозможным позитивный ответ на этот вызов.
Развилку «деградация или инновации» предстоит пройти и решить задачу построения полноценной инновационной экономики мирового класса в обозримые сроки, отведенные нам историей, – примерно за 15—20 лет.
Третьяразвилка, стоящая сейчас перед российскими властями, имеет экономическую основу, но решение о выборе пути носит политический характер. Правящая элита России пришла к власти на фоне начавшегося восстановительного роста, когда базовые институты рыночной экономики были сформированы, общество с трудом, но адаптировалось к новым реалиям. За этим последовали 10 лет динамичного роста валового внутреннего продукта, роста реальных доходов населения. С 2004 года экономический рост был подкреплен расширением возможности бюджетного маневра, связанным с повышением цен на нефть ( рис. 55).

Рис. 55. Цена на нефть марки Brent в реальном исчислении* в январе 2003 – декабре 2010 года, индекс
* 2005 год = 100.
Источник: МВФ.
На этом фоне сохранять стабильность политического режима нетрудно. Надо сильно постараться, чтобы, когда реальные доходы населения 10 лет растут примерно на 10% в год, руководство государства не было бы популярно. Но нынешняя ситуация, когда реальная заработная плата перестала расти и начала снижаться ( рис. 56), в корне иная.

Рис. 56. Реальная заработная плата в I квартале 2008 – IV квартале 2010 года, % к соответствующему периоду предыдущего года
* Предварительные данные.
Источник: Росстат. – http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_02/Main.htm
Для тех, кто руководит страной, бюджетные доходы которой зависят от сырьевых рынков, это новая и трудная развилка: или ужесточение политического контроля, репрессий против несогласных, контроль за малотиражными СМИ, или постепенная демократизация режима, восстановление системы сдержек и противовесов во власти, свобода прессы, реальный федерализм.
Первый путь в этой развилке ведет к новой революции. Двух революций, которые наша страна пережила в ХХ веке, на наш взгляд, ей хватит. Мы не первая страна, которой предстоит сделать такой выбор. С того времени, когда Западная Европа постепенно выбрала именно второй путь, началось беспрецедентное ускорение экономического роста. Надеемся, что, столкнувшись с этой развилкой, российские власти сделают правильный выбор.
1 Народное хозяйство СССР в 1956 году. Стат. ежегодник. М.: Государственное статистическое изд-во, 1957.
2 См.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928—1929 гг. В 5 т. / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: МФД, 2000. Т. 4.
3 Вот как характеризует положение, сложившееся к этому времени, Н. Хрущев: «Приведу некоторые цифры. В 1940 г. было заготовлено зерна 2225 миллионов пудов, а в 1953 году – лишь 1850 миллионов пудов, то есть меньше на 375 миллионов пудов. В то же время в связи с общим ростом народного хозяйства, значительным увеличением городского населения и ростом реальной заработной платы из года в год увеличивается расход хлебопродуктов. <…> Потребность зерна на экспорт увеличивается как по продовольственному зерну, так и по зернофуражным культурам, однако из-за недостатка зерна пришлось экспорт определить на 1954 год в количестве 190 миллионов пудов (3120 тысяч тонн), тогда как потребность в экспорте определялась в размере 293 миллионов пудов (4800 тысяч тонн). (См.: Докладная записка Н. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС 22 января 1954 года; Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Речи и документы. В 5 т. Т. 1. С. 85, 86.)
4 Неожиданно для Хрущева на Пленуме 1954 года с серьезными критическими замечаниями в адрес программы освоения целинных земель выступили ученые – специалисты в области засушливого земледелия. Ученые рекомендовали с самого начала освоения целины внедрять паровые севообороты, многолетние травы, сочетать зерновое производство с животноводством, применять мелкую пахоту; подчеркивали большое значение чистых паров. Хрущев полностью отверг эти рекомендации специалистов (профессор М. Г. Чижевская, опытник Т. С. Мальцев и др.), поддержав некомпетентные советы Т. Лысенко (президент ВАСХНИЛ). (См.: Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство страны // Отечественная история. 2000. № 1. С. 79.)
5 Н. Хрущев, посетивший Донбасс, на заседании Президиума ЦК КПСС 24 августа 1956 года, описывая сложившуюся ситуацию, исчерпывающе заметил: «Всё растаскивают». (См.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1005. Л. 21—23 об. Цит. по: Президиум ЦК КПСС. 1954—1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. 2-е изд. Т. 1. С. 160.)
6 Замечания к последнему варианту «Общей концепции развития хозяйственного механизма предприятий и объединений». 30 июля 1985 года. Директор Института экономики АН СССР Е. И. Капустин – зампреду Госплана СССР академику Д. М. Гвишиани.
7 Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории // Избранные философские произведения. В 5 томах. Т. 2. М., 1956.
8 «Главное отличие состоит в том, что она опирается на принципиально новую экономическую доктрину. Движение к рынку прежде всего за счет государства, а не за счет простых людей. <…> Программа ставит задачу: все, что возможно, взять у государства и отдать людям. Есть серьезные основания считать, что возвращение народу значительной части собственности и ресурсов на различных условиях обеспечит их гораздо более эффективное хозяйское использование и позволит избежать многих негативных явлений в процессе перехода к рынку. Необходимо решительно сократить все государственные расходы, в том числе по скрытым от общества статьям. <…> Еще одна принципиальная особенность программы: люди должны не ждать чьих-то разрешений и указаний, а поступать в соответствии со своими интересами. Программа же показывает, как лучше и эффективнее действовать в этом направлении. Человек, заинтересованно читающий эту программу, может определиться, что выгодно для него лично, и заранее решить, когда и что следует делать, что, от кого, в каком объеме и на каких условиях требовать для реализации своих экономических прав и интересов. <…> Таким образом программу можно рассматривать как программу реализации прав граждан на лучшую, более достойную жизнь». «Главные цели реформы – экономическая свобода граждан и создание на этой основе эффективной хозяйственной системы, способной обеспечить динамичное развитие народного хозяйства и достойный уровень благосостояния гражданам страны, преодолев отставания от других стран. <…> Важнейшей задачей государственной власти на всех уровнях и, в первую очередь, на республиканском и местном является обеспечение высокой степени социальной защищенности граждан, понимаемой, с одной стороны, как предоставление всем гражданам равных возможностей в том, чтобы своим трудом обеспечить себе достойную жизнь, а с другой стороны, как государственная поддержка нетрудоспособных и социально уязвимых членов общества. <…> Значительно (до 20%) сокращается финансирование Министерства обороны СССР и КГБ; в частности за счет резкого снижения закупок вооружения и военного строительства с сохранением на год средней зарплаты работникам предприятий-изготовителей. Сэкономленные материальные ресурсы направляются на свободную реализацию. Не менее 30% экономии от сокращения расходов на эти цели обращается на повышение зарплаты офицерского состава и строительство жилья для военнослужащих, в том числе передислоцируемых в СССР из других стран и уволенных в запас». (См.: Программа «500 дней». – http://www.yabloko.ru/Publ/500/500-4.html)