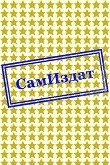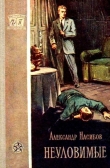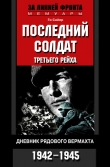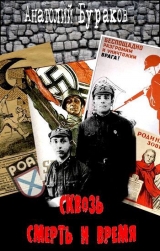
Текст книги "Сквозь смерть и время"
Автор книги: Анатолий Бураков
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Анатолий Бураков
СКВОЗЬ СМЕРТЬ И ВРЕМЯ
Предисловие
Предлагаемая вниманию читателей книга Анатолия Буракова – документ Истории и в то же время исповедь много натерпевшегося и исстрадавшегося человеческого сердца. Не так уж много и за Рубежом и в Советском Союзе таких правдивых искренних и непосредственных книг. Когда Анатолий Бураков дал мне рукопись книги, я переслал ее главному редактору газеты «Новое Русское Слово», ныне покойному М. Е. Вейнбауму. Последний попросил Юрия Большухина ознакомиться с рукописью и, если его заключение совпадет с моим, подготовить манускрипт к печати. В чем же достоинство этого манускрипта? Все мы сошлись на том, что еще никто так не писал, о самом начале второй мировой войны и тех исключительно трудных обстоятельствах, при которых попали в плен миллионы солдат и офицеров Советской армии. Массовое пораженчество, конечно, было, и на это нельзя закрывать глаза, но помимо пораженчества было и другое: деморализация армии, и эта деморализация оказалась роковым последствием ошибочной и преступной политики Сталина 1937–41 годов.
Анатолий Бураков мало говорит о политике. Он просто и бесхитростно рассказывает как было дело, подсознательно подчиняясь принципу «жизни застигнутой врасплох».
Естественность ситуаций, которые не выдуманы, а выхвачены из жизни, убеждает и захватывает читателя. У автора феноменальная зрительная память и потому пережитое в те, ныне далекие годы, остается в его очерках и свежим и точным.
О целом можно судить по части, если, понятно, часть крайне характерна и типична для целого. Пережитое Бураковым перед войной, в первые месяцы войны, в нацистском плену, в немецких вспомогательных частях, куда он попал в силу сложившихся обстоятельств, после плена, в лагерях для перемещенных лиц – все подано так живо и подлинно, что личный опыт автора становится частью опыта миллионов (в самом начале войны и в плену), ходивших вблизи от гибели, а позднее – частью опыта десятков, если не сотен, тысяч.
Поразительная последняя, заключительная глава книги. Она способна расстроить читателя до слез. Бураков простыми, бесхитростными, но выразительными, словами показал, что сердце матери, голос крови, зов предков выше и сильнее разлук, над ними не властны ни пространство, ни время. И я убежден, что правдиво, искренне написанная книга Буракова будет тепло принята в различных читательских кругах.
Вячеслав Завалишин
Тени минувшего
«По Руси великой, без конца, без краю —
Тянется дорожка, узкая, кривая.
Чрез леса да реки, по лугам, по нивам,
Все бежит куда-то – шагом торопливым.
И чудес хоть мало встретишь той дорогой,
Но мне мил и близок вид ее, убогой…»
А. Апухтин
И так окончилась гражданская война и началось мирное строительство коммунизма.
Качалов. (Из фильма «Путевка в жизнь».)

Справа автор, слева – друг по армии и плену Борис Либис из Винницы. Он погиб в лагере «Шталаг 311–11 С» летом 1942 года в Германии.
г. Двинске (Латвия) в 1940 году
Родился я в 1920 году, когда остатки обескровленной Белой армии покидали Россию, а над страной заалело красное знамя мирового коммунизма.
Жил я тогда в небольшом городке с хорошо развитой текстильной промышленностью. Отец был служащий. Мать по слабости здоровья не работала. Жизни, лучшей чем в Советском Союзе, я не знал, а о прежней жизни слышал только вздохи матери, которая часто, подойдя к шкафу с посудой, среди которой находилась маленькая деревянная иконка, начинала молиться, прижимая платок к глазам…
Не прошло и года, как умерла сестра от гнойного аппендицита, ей было всего десять лет, ее смерть унесла в могилу кусочек уюта нашей семьи.
В том же году папу лишили партийного билета, за правый уклон, тогда же со стены над папиным письменным столом сняли портрет Плеханова, висевший вместе с портретом Молотова. Когда я спроси маму: почему сняли только один портрет, она ответила: достаточно висеть только Молотову.
Этот год, исключение папы из партии, я особенно хорошо помню: не стало друзей, пища ухудшилась, мы с младшей сестренкой лишились сладостей и игрушек. Летом 1933 года, мама с младшей сестрой уехала в Ленинград, к родителям, а меня отправили в деревню к дедушке, где я пробыл все лето. В августе приехал папа и взял меня в город, я должен был поступить в 6-й класс. Папа очень изменился, одет был в гражданскую одежду, которая его старила и висела на нем как на вешалке, отпустил усы, изменившие его лицо.
Улица, на которой я провел свое детство, одним концом упиралась в городской общественный сад, а другая сторона начиналась с широкой площади, на которой стояла Троицкая церковь. За общественным садом, за широкой аллеей ступеньки к реке Тезе, на берегу которой стояла купальня и лодочная пристань. По речке сновали пароходы; пассажиры на палубе махали купающимся шляпами, пока пароход не скрывался за поворотом…
До праздника Ильина остался всего один день, а я продолжал ходить на цыпочках, чтобы не тревожить даже сестру, с которой у меня происходили постоянные стычки, от которых она всегда бежала к матери с жалобой на меня. От мамы я всегда слышу наставления, если стану держать себя плохо, меня не возьмут к дедушке, но как я не стремился к подобному поведению послушного мальчика, все же, что-то должно было случиться: был у меня друг, живший по соседству, и вот, словно бес нас толкнул нарушить просьбу старших: поймали мы дворняжку Жучку, привязали ей на хвост банку, собака с визгом влетела в открытое окно своего хозяина, жил он в подвальном помещении, который сидел с женой за столом перед самоваром. Все со стола полетело на пол, напугав сильно стариков, когда же приехал мой дедушка, мама только кончала надо мной экзекуцию, и я, получив очередную порцию ремня, забился в угол. Но все же в деревню меня взяли, предупредив, что наказание мне продлится там. Мама стала упаковывать подарки для папиных сестер и свекрови, которая недолюбливала маму за то, что она увезла ее сына в город от большого крестьянского хозяйства.
…Наконец показывается тарантас, на котором восседает дедушка. Он в белой косоворотке под кушаком, черная лопатой борода. Я подбегаю к нему, он останавливает лошадь Зорьку, поднимает меня, целует, от щекотания его бороды я громко смеюсь, все рассаживаются в экипаж и мы двигаемся вперед.
Проезжаем через весь город, окраину, еще пару километров и мы в поле. Дорога тянется среди ржи, мелькают головки васильков, ромашки, маячит вдали клевер, а в синем небе трели жаворонков. Это ведь правда все было? И дорога во ржи, и васильки, и ромашки, и жаворонки в небе… А теперь?.. Одни сны, одни тени светлого, прошлого, невозвратного… Дедушка дает мне в руки вожжи и я сам управляю Зорькой, которая начинает бежать рысцой, зная, что скоро будет дом и ее пустят на гумно. Вот и деревня, дедушкин дом большой, палисадник перед домом, лавочки, на которых обыкновенно сидят пожилые люди, обсуждая мирские дела. Дедушку все уважали, и иначе не называли как Устин Иванович.
В Ильин день престольный праздник: все снуют, бегают, что-то носят. Я подбегаю к бабушке, которая принимает подарки от мамы, и прошу колобок, она поднимает меня, целует и говорит одно и то же, что я весь в свою мать. Потом подводит меня к столу, на котором лежат свежие колобки со сметанным запахом, проглотив наспех я бегу на улицу, и с мальчиками сговариваюсь идти ловить рыбу. В первую ночь я спал на сеновале и быстро заснул от запаха свежего сена. А утром дом жужжал как пчелиный рой, скрипели половицы, хлопали двери и несся грозный голос бабушка, подгонявшей всех идти в церковь. Последняя находилась в селе за два километра, по деревенским улицам шли крестьяне, каждая семья в отдельности, проходя мимо нас здоровались и поздравляли с праздником. За речкой, красуясь своей белизной, стояла церковь. Служил в ней отец Александр, у которого две дочери учительствовали в селе. Я шел с дедушкой, он рассказывал мне о пророке Илье, что это он проезжает по небу и гремит колесницей, после чего идет дождь, и что нужно каждый день молиться и просить пророка Илью о дожде, иначе не станет посевов, пересохнут реки, пропадет рыба, чего я больше всего боялся… В церкви было прохладно, пахло ладаном, голубоватый дым подымался к потолку, на котором был изображен пророк на колеснице с двумя белыми лошадьми. А от полумрака и мелькания свечей становилось тепло и радостно на душе. Служба в этот день была долгая, и, когда вышли из церкви, улицы были в теплых солнечных лучах.
С Ильина дня начиналась осень, это был переломной день в природе. У крестьян начиналось приготовление к зиме, после небольшого отдыха. Когда мы возвращались из церкви домой, нас встречал стол уставленный разными яствами: пирогами, от запаха которых щекотало в носу; запеченного в тесте окорока, а над всем этим, словно на пьедестале – на большом блюде поросенок.
После обеда бегу на улицу, которая гудит пьяными голосами. Вот где то «Итальянка» с колокольчиками выводит лихую русскую «барыню», визжа на все голоса, ей поддакивает «Баян» – «Когда б имел златые горы…», а молодежь лузгая тыквенные и подсолнечные семечки собирается вокруг гармониста – где кружились парочки, вытанцовывая «Падеспань». Для нас, ребят, раздолье! Мы бежим в поле, как в джунгли, зарываемся в горох и пасемся до вечера. А когда темнеет, мы с дедушкой едем в ночное. Он сажает меня на Зорьку и мы отправляемся за деревню, где около костра сидят мои однолетки из села, жуя печеную картошку, рассказывая страшные небылицы. Я подвигаюсь ближе к костру и засыпаю. Просыпаюсь от громкого смеха, надо мной стоит дедушка и громко смеется. Оказывается, мальчики, пока я спал, вымазали меня углем, громко хохоча. Быстро пробегает время и, в конце недели, Зорька мелкой рысцой везет нас обратно в город. Этот Ильин день остался надолго в памяти. В деревне этой было приказано свыше – организовать колхоз, иначе землю заберут в совхоз. Деревня не повиновалась и власть отобрала у крестьян землю, оставив приусадебные участки, а на крестьян наложила большие налоги; стали уничтожаться хозяйства, а народ убегал в город.
В селе закрыли церковь, из школы выгнали учительниц, прислали активистов и приказали освободить дом священника. Отец Александр не смог перенести всего, что случилось, и с ним произошел нервный припадок. Однажды, в воскресенье, забрав припрятанные ключи от церкви, он залез на колокольню и стал звонить: то был особенный, последний звон. Люди в недоумении останавливались, крестились, а звон расширялся и несся в небеса, как бы жалуясь Богу. Вдруг сразу все оборвалось: то одна из дочерей, подойдя к отцу, начала просить перестать звонить, а он, с веревкой в руке, осеняя дочь крестом, пятился к окну, и с последним ударом колокола потерял равновесие и полетел вниз. Через три дня его похоронили. Дочерям же дали возможность прожить в доме еще неделю, потом выгнали.
В конце месяца октября, после того как ободрали и увезли все ценное, в городе взорвали Троицкую церковь, переименовав это место в Площадь Советов. Сразу же после взрыва сбросили с собора колокола, а его окружили колючей проволокой, и народ по воскресеньям собирался у этого заграждения и молился на крест, блестевший еще ярче на лучах осеннего солнца. И все, после этого, как-то изменилось, народ помрачнел, люди стали бояться друг друга, пошли субботники и скорыми темпами началось строительство коммунизма, разогнавши по всей земле русский народ…
В стране тогда проводилась коллективизация. По деревням, у крестьян не захотевших организовывать колхоз, отбирали землю. Люди ночами резали скот, забивали избы и разбегались по городам. Не успевших скрыться арестовывали и отправляли на товарную станцию, которая была оцеплена милицией, в помещение станции, без окон и дверей, крестьян впихивали навалом, и мы, мальчишки, часто после школы бегали смотреть на это страшное помещение, откуда несся стон и плач людской.
Ночью подходил товарный эшелон, набивали в него людей, словно сельдей в бочку. Одних «счастливчиков» отправляли в Челябинск на металлургические заводы, как рабочую силу, иных, в худшем случае – в сибирские леса, пилить деревья, откуда возврата уже не было.
Весь ужас тех лет в Советском Союзе я осознал только находясь в Красной Армии, по призыву, увидя воочию жизнь населения в Латвии и Литве, при государственной капиталистической системе, а после в Германии. И вместе с ненавистью к советскому режиму, появилась горячая любовь к Родине, к России, попавшей в руки бессердечных экспериментаторов.
В этом году не стало многих наших знакомых и друзей. Еще вечером были, а утром уже нет: взрослых в ссылку, детей в дома для беспризорных. В школе не успевали вырывать из учебников листки с портретами ликвидированных Сталиным бывших вождей. Папа чудом уцелел от тюрьмы – за правый уклон, но потерял службу и, когда в 1934 году умерла папина сестра в деревне, мы переехали в ее домик на берегу речки Соха. Там, в деревне, снова появился семейный уют, ласка родителей, которую не было видно, пока висел Дамоклов меч над папиной головой. Он получил наконец гражданскую службу и все невзгоды отошли в сторону…
В 1938 г, после окончания ФЗУ, я поступил на работу в одну из ткацких фабрик. Жил как и все русские, под «солнцем» сталинской конституции, о прелестях которой оповещали наши газеты и ругали заграницу, в которой, мол, кроме голода и безработицы, ничего путного нет.
Все наше свободное время проходило в очередях, в которых ожидали прихода коммунизма, при котором каждый станет есть по потребностям и работать по способностям. Работал я в трех сменах и времени на эти очереди не хватало. Не успеешь бывало принести хлеб, как несется весть, что дают картошку или иной какой продукт или мануфактуру, короче говоря – претворялись в жизнь сталинские слова: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»
В нашем городе было до 10 ткацких фабрик и, несмотря на это, с большим трудом приходилось доставать кусочек той или иной материи на рубашку.
Очереди у магазинов устанавливались с вечера. Официально это было запрещено и милиция разгоняла скопление людей, но несмотря ни на что, очередь в советском государстве узаконилась, как одна из необходимейших процедур в жизни.
Сущность самой очереди – довольно характерна. С вечера тот или иной доброволец пишет на руке человека чернильным карандашом очередной номер. Этот номер становится для него «путевкой в жизнь». С ним от магазина нельзя было уже отлучиться. К утру, около магазина, начиналось столпотворение хуже Вавилонского – один ушел домой и проспал, другой отправился на работу, третий отлучился посмотреть на детей: ушедшие путают номера, очередь ломается. Те, кто посильнее, ломятся без очереди, в воздухе крики, свистки милиционеров, ругань, вопли… а в это время, через черный ход, товар уплывает по «блату». «Блат» в Советском Союзе – это самое могущественное слово во всей стране. Оно сильнее Совнаркома и даже самого НКВД.
Бурно проходила жизнь и на производстве. Ежедневно, после работы, собрания, повестка дня стандартная – о невыполнении плана (хотя в газетах публиковали о «перевыполненнии»), о государственных займах, о пятилетке в 3–4 года, о капиталистическом окружении. Так продолжалась моя жизнь до 1940 года, когда она изменилась с уходом моим в Красную Армию.
Армия
«До свиданья, мама, не горюй, не грусти —
Пожелай нам доброго пути…»
1 июня 1940 года, еще не вставая с постели, я услышал голос почтальона, который вручил моей матери повестку, на предмет явки ее сына на медицинскую комиссию, перед отправкой в воинскую часть. В этот же день, в газетах было опубликовано, что государства Прибалтики – Латвия, Литва и Эстония просили о присоединении к Советскому Союзу и, что товарищ Сталин их просьбу удовлетворил. Через 4 для я прошел медицинскую комиссию, а 1 октября, придя с работы домой, увидел свою мать плачущей, она, плача, держала в руках повестку для моей явки 4 октября в городской Военкомат – с вещами.
Через два дня, собрав друзей, родственников, знакомых – устроили проводы и утром, простившись с громко рыдавшей матерью, отцом и сестрой, я покинул навсегда родной дом и родной городок, в котором протекали мое детство и юность. В Военкомате у всех отобрали паспорта и отправили строем на товарную станцию.
В этот пасмурный день и сама природа словно солидаризировалась с нашими родными и знакомыми, которые провожали нас в далекий, еще неизвестный для нас, путь. К их слезам и скорби присоединилось и небо, посылая на землю потоки дождя. Дождь не переставал все время, поливая всех присутствующих и превращая торжественность проводов к которой все время стремился политрук, в комедию – настолько все были измокшие; а оркестр издавал какие-то хриплые звуки, поскольку вода не давала возможности играть на духовых инструментах.
На станции нас всех поместили в пустое багажное отделение, в котором мы должны были ждать до 7 часов вечера. У дверей поставили часового, чтобы никого не выпускать. Ровно в 7 часов подошел пассажирский состав и началась посадка. Попрощавшись с родными я занял место у окна вагона. Дождь не переставал лить. Снова заиграл оркестр, и наш состав тронулся в темноту осенней ночи.
* * *
На душе было тоскливо, хотелось слезами облегчить состояние, но слезы удерживало присутствие других людей.
Когда наш вагон поровнялся с перроном, я увидел мать стоявшую у телеграфного столба, по ее лицу текли слезы и мне припомнились слова из песни: «…Всю глубину материнской печали трудно пером описать…»
Проехали Рыбинск, Бологое, Дно – потом свернули на юг – Великие Луки и Себеж – граница Латвии. Здесь политрук обходил вагоны с вопросом: нет ли больных? Потом двери закрыли и эшелон начал отстукивать километры.
Причина для закрытия дверей была основательная. Каждый новобранец уходя в армию одевался в самую ветхую одежду, поэтому наш вид мог вызвать, у жителей Латвии, превратное суждение о Красной Армии вообще. 7 октября прибыли в Резекне, судя по вокзалу – это был маленький городишко, утопавший в зелени деревьев. Поразмяв ноги в ходьбе по перрону, мы снова разместились по вагонам и состав отогнали за город в тупик. Там мы простояли до вечера. Поздно вечером отправились дальше, и в полночь прибыли в г. Двинск, где и начали выгружаться. Часть, куда я попал, была 152-мм корпусной артиллерией, стоявшей в бывших кавалерийских казармах, в пригороде. Казармы находились в двух местах, ближе к железной дороге – штаб, комендантский взвод, 1-й дивизион и кухня. Через улицу склады, мастерские и большой блок буквой Е, там были клуб, гауптвахта, военторг, 2 и 3-й дивизионы, а напротив через площадь – баня и прачешная.
Полк этот месяц тому назад был переброшен из Финляндии. Многие из комсостава за боевые заслуги имели ордена, в числе таких был и командир полковой школы, в которую я был зачислен. Полк имел новое техническое оснащение: тракторы на гусеничном ходу для орудий, с кузовами для прислуги, автомашины и др. В одной из казарм я и должен был отбывать двухнедельный карантин.
Боец
«Артиллеристы – точней прицел.
Наводчик зорок, разведчик смел.
Врагу мы скажем —
«Нашу родину не тронь
А то, откроем сокрушительный огонь».
Через две недели, утром после завтрака, нас выстроили во дворе и батальонный комиссар вместе с командиром полка, поздравив с окончанием карантина, приступили к назначению нас в то или иное подразделение, считаясь с образованием каждого. Одни шли в батарею, в полковую школу, а другие – с техническим и высшим образование шли в учебный батальон или 1-ю батарею, откуда выходили офицерами запаса. Я попал в полковую школу, во взвод разведки.
Зимой день бойца начинался в 6 часов утра, а летом в 5. Время всегда так было распределено, что боец не мог урвать минутку – написать домой письмо. Передавали, что тов. Тимошенко распределил время так, чтобы некогда было думать о посторонних вещах, кроме учебы.
В Прибалтике мы получали пищу и одежду на много лучшие, чем в Советском Союзе. Правительству нужно было не ударить лицом в грязь перед освобожденными братьями, потому и в город нас не пускали, пока не расформировали Латышскую Армию. Во время карантина мы получали пищу прямо на улице из кухонного окна в котелок, а остатки сливались в стоявшие во дворе бачки. Во время обеда возле забора собирались латыши, преимущественно подростки, с ведрами и, когда мы уходили, перелезали через забор и вычерпывали содержимое бочек. С населением нам разговаривать было запрещено и нам оставалась одна возможность – разговаривать только друг с другом. Эти жирные отходы из бочек направляли наши мысли на то, что латышская скотина на много сытее, чем люди нашего социалистического отечества. Командный же состав старался все время выставить жизнь Латвии в неприглядном виде, уверяя бойцов, что страна эта была в постоянной безработице, в голоде, а жители вынуждены мол питаться – отбросами от обеда, что мы видим за забором.
День курсанта начинался в физкультурном зале, где проходили зарядку. Или бегали 15 минут по улице.
День бойца был заполнен с б часов утра до 10 часов вечера так: подъем, умыванье и заправка постелей, утренняя поверка одежды от насекомых, стрижка, чистка обуви, осмотр противогаза, винтовки и прочего, перекур и подготовка к завтраку, завтрак, политзанятия, тактика или занятие с материальной частью – в любую погоду на дворе, зимой всегда отправлялись на лыжах за город, вели журнал разведки, затем обед, мертвый час, самоподготовка: чтение политической литературы, главным образом сочинений Ленина, подготовка к следующему дню; у кого из бойцов хорошие успехи, тому разрешали в это время писать письма домой. Ужин. Разучивание песен, чистка обуви и подготовка к вечерней поверке. Вечерняя поверка, отбой.
Обмундирование получали следующее: сапоги, шинель, 3 пары портянок, 1 пара нижнего белья лежала в ранце неприкосновенным запасом, 2 гимнастерки, 2 пары брюк, 1 пара выходная.
Верхняя одежда давалась на полгода. Каждую субботу была баня и в этот день менялось белье. Верхнюю одежду стирали сами, покупая мыло на свои деньги, а кто курил, стирал без мыла, деньги шли на покупку махорки. В воскресенье, под руководством среднего командира строем шли в город, а зимой начинался обязательный лыжный кросс, продолжавшийся всю зиму. Одиночные отпуска давались только тому, кто успевал в занятиях. Я, как участник полковой самодеятельности был освобожден от несения караульной службы и имел возможность посещать Дом Красной Армии, где устраивались танцы, сеансы кино, приезжал хор Александрова, выступал и наш хор, получивший на Олимпиаде при Б. В. О. первое место, в этом хоре участвовал и я, а к празднику 7 ноября получил 25 рублей за отличную боевую и политическую подготовку и сфотографировали для газеты.
Происходили в полку и довольно частые самовольные отлучки. К примеру: боец Г-ко, 2-й год службы, за первую отлучку имел 5 суток гауптвахты, за вторую отлучку 10 суток, за третью поймали и судили в полковом клубе – показательным процессом. Приговор – «расстрел». На этом факте надо остановиться. Этот боец имел в городе свою пассию – латышку, к которой и приходил на квартиру в вольной одежде. В третий раз он подарил часовому свои часы и убежал с гауптвахты, был пойман в гражданской одежде у дамы своего сердца, в этой одежде сфотографирован для вещественного доказательства…
Прошла зима, а в апреле полк наш выехал в летний лагерь в Литву.