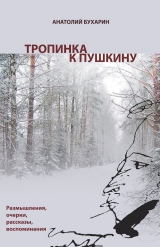
Текст книги "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии"
Автор книги: Анатолий Бухарин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Уверен: мой ведущий оппонент Павел Григорьевич Рындзюнский с энтузиазмом и с пользой для науки включился бы в дискуссию на эту тему, доживи он до наших дней.
Между тем вопрос со вторым оппонентом решился неожиданно и очень просто: им согласилась быть Ирина Ивановна Романова.
В своем отзыве она осталась верна себе, сделав резкое замечание о необходимости более подробного и деятельного обзора источников. Разумеется, как историк русского западничества, она приветствовала мое обращение к В. Боткину, оценила этюд о Н. Полевом, но скептически отнеслась к разделу о кружке Н. Станкевича и, как и следовало ожидать, возразила моим оценкам славянофилов, полагая, что я слишком сближаю их с буржуазными либералами.
Не без оснований посетовала она на отсутствие в диссертации целостного представления философско-исторических и общественно-политических взглядов В. Боткина, однако дала высокие оценки главам о семье Боткиных и об эволюции торгово-промышленного русского капитала.
Не стремясь конфликтовать с господствующей идеологией, Ирина Ивановна подчеркнула неоправданное расширение мною прогрессивного периода русского либерализма и ограничила его исключительно дореформенной эпохой.
«В целом диссертация, – писала оппонент в заключении, – является очень интересным и полезным исследованием, заполняющим пробел в нашей исторической литературе. Автор ввел в научный оборот обширные новые материалы из архивов. Отдельные недостатки работы связаны с общей неразработанностью большой проблемы истории русского буржуазного либерализма. Исходя из вышесказанного, считаю, что А. А. Бухарин заслуживает ученой степени кандидата исторических наук».
Общий одобрительный тон двух приведенных отзывов воодушевил меня. Правда, окрыляющее чувство уверенности в себе ослабевало при воспоминании о том, как мою дипломную работу о Боткине разделал под орех Владимир Евгеньевич Иллерицкий.
Жажда «сатисфакции» подогрела амбиции, и я, заручившись письмом ученого совета, отправился в Москву.
Открываю дверь кабинета. Навстречу мне – профессор собственной персоной. Придержал шаг, не скрывая недоумения, спросил с прежней леденящей вежливостью:
– Что вам угодно?
– Вот, привез диссертацию о Боткине и просьбу ученого совета дать внешний отзыв.
Иллерицкий долго смотрел на меня, силясь припомнить, и наконец, осененный, воскликнул:
– A-а, о Боткине! Так вы все-таки приехали?! Какой молодец!
Взял рукопись, предложил сесть, а сам тут же углубился в чтение. Минут через пять оторвался от страниц и неожиданно предложил:
– Едем на дачу!
Поехали.
Не помню сейчас, на какой станции Ярославской железной дороги мы вышли и направились к густому, темному лесу, где в окружении бронзовых сосен стоял небольшой деревянный домик.
Два дня я наслаждался сосновым ароматом, гулял, а по вечерам слушал рассказы Владимира Евгеньевича о… жене!
Она сидела, мило улыбалась и подтрунивала над своим седым идальго. Суровый критик оказался отнюдь не правоверным марксистом, любящим все человечество, а вполне нормальным смертным, жившим, в основном, для любимой женщины. Пожалуй, это был главный урок Иллерицкого.
12 мая 1972 года я держал в руках готовый отзыв кафедры истории СССР досоветского периода Московского государственного историко-архивного института и торопливо читал его. Для меня это был час постижения человечности и истины.
Я был уверен, что историограф непременно обратит внимание на пробелы в обзоре литературы и не согласится с моими оценками славянофилов. Так оно и вышло. Но вышло и другое. Несмотря на жесткость, даже резкость в оценке недочетов, Иллерицкий обнаружил удивительную способность видеть за недостатками достоинства, прозревать за словесной, порою невнятной, шелухой сущность живой и ценной научной мысли.
Однако лучше вновь обратимся к оригиналу. Иллерицкий писал:
«Диссертация А. А. Бухарина посвящена теме, имеющей безусловное научное значение как вследствие ее слабой изученности, так и в силу того, что она примыкает к большой и сложной проблеме русского исторического процесса – проблеме исторической роли русской буржуазии и особенностей ее идеологии.
…Структура диссертации А. А. Бухарина хорошо продумана и позволяет автору достаточно полно и основательно раскрыть избранную тему. Введение к диссертации характеризует научное значение темы, ее проблематику, историографию и источники. Пробелом введения, по нашему мнению, является отсутствие критического анализа зарубежной литературы по вопросам, рассматриваемым в диссертации.
…В первой главе диссертации раскрывается процесс формирования мировоззрения В. П. Боткина и его истоки. Важной особенностью анализа этого вопроса автором диссертации является его комплексное, всестороннее изучение, при котором различные стороны мировоззрения В. П. Боткина рассматриваются во взаимосвязи, с выделением определяющих процессов развития социальных противоречий в России 20-30-х годов прошлого века. Интересно прослеживается в первой главе воздействие на мировоззрение В. П. Боткина идей Сен-Симона, влияние деятельности Н. А. Полевого, круга Станкевича-Белинского. Уже в этой, вводной по-своему значению, главе автор стремится определить буржуазную природу либерализма В. П. Боткина (в отличие от дворянского либерализма), с его прогрессивными для 20-30-х годов прошлого века чертами и классово ограниченными особенностями.
Отмеченная основополагающая для раскрытия всей темы диссертации тенденция более подробно и основательно раскрывается автором во второй и третьей главах диссертации, посвященных анализу мировоззрения В. П. Боткина соответственно в 40-х и в конце 50-х годов XIX века. Гранью между ними справедливо выдвигается революция 1848 года в Западной Европе. В этих главах характеризуются общественно-политическая позиция Боткина в начале 40-х годов, его участие в полемике западников со славянофилами, а также начала размежевания буржуазных либералов, в их числе В. П. Боткина, с революционными демократами.
В завершающей, третьей, главе диссертации прослеживаются идейная эволюция Боткина как буржуазного либерала после революции 1848 года в Западной Европе, постепенное «выветривание» его оппозиционности в эпоху «мрачного семилетия» и особенно в 60-е годы, ознаменованные польским восстанием 1863 года, его смыкание с дворянскими либералами и укрепление реакционных черт его мировоззрения в борьбе с революционными демократами. Диссертант справедливо усматривает в этих особенностях В. П. Боткина отражение эволюции буржуазного либерализма в России.
Слабыми сторонами второй и третьей глав являются, по-нашему мнению, некоторая переоценка черт оппозиционности и прогрессивности воззрений славянофилов и недостаточное освещение исторических воззрений В. П. Боткина. Указание автора на комплексность разработки темы и опасность «искусственного создания системы взглядов» не снимает наших замечаний.
…В последней главе диссертации следовало в большей мере раскрыть связи В. П. Боткина с буржуазными кругами его времени. Отдельные части диссертации, посвященные русской буржуазии и ее идеологии в середине прошлого века, выглядят изолированно по отношению к характеристике воззрений В. П. Боткина.
Наконец, в той же главе было необходимо более широко и убедительно показать связь буржуазных взглядов В. П. Боткина с последующим развитием буржуазного либерализма в России в пореформенные десятилетия и в период империализма.
Диссертация содержит обоснованные выводы как по отдельным главам, так и по исследованию в целом. Работа читается легко и с интересом, в ней мало стилистических погрешностей.
Диссертация А. А. Бухарина была обсуждена на заседании кафедры истории СССР досоветского периода Московского государственного историко-архивного института 11 мая 1972 года. На основании обсуждения кафедра пришла к заключению, что самостоятельная разработка сложной темы, привлечение новых источников и их умелая критическая обработка, обширная эрудиция диссертанта, его методологическая подготовленность и значительный вклад в научное исследование важной проблемы дают все основания для присуждения А. А. Бухарину ученой степени кандидата исторических наук».
Не скрою: этот отзыв, несмотря на его гораздо большую критическую направленность по сравнению с двумя предыдущими, был мне особенно дорог. Сам Иллерицкий поверил в меня! Сам Иллерицкий дал мне добро на защиту! Я сходил с ума от нетерпения. Я рвался в бой.
Когда удалось решить все организационные вопросы, кафедра определила точную дату защиты. Она состоялась 3 июня 1972 года.
Анализируя ее и многие, многие другие, на которых мне довелось присутствовать, я пришел к твердому убеждению: защита диссертации должна быть свободной, несвязанной с десятками и сотнями формальностей, сковывающих диссертанта по рукам и ногам. А то ведь нередко получается, что легче написать новую работу, чем подготовить имеющуюся к защите. Это во-первых. А во-вторых, результатом защиты диссертации должно быть повышение престижа и расширение круга поисковых возможностей ученого – не более того. Нужно освободить процесс защиты от меркантильного личного интереса соискателей, то есть отказаться от доплат за ученое звание и ученую степень. Платить надо за мастерство, талант и опыт, за востребованность человека в той сфере деятельности, которой он посвятил свою жизнь. Тогда и наука станет нравственно чище, и настоящих ее сподвижников будет больше. Кто знает, сколько русских людей были бы избавлены от инфаркта, откажись чиновники от нелепой практики оценки труда ученого?
Для выступления мне снова дали пятнадцать минут. Что можно было сказать за это время? Тем более о либерализме, искажавшемся волею идеологов на протяжении десятилетий?
Я, конечно, не говорил о фальсификаторах и сделал вид, что исследуемая мною тема просто не до конца изучена. Все понимали, что дело обстоит не так и что история изучения либерализма полна чудовищных издержек. Образно говоря, на протяжении всего своего выступления я явственно ощущал негласнуюсолидарность аудитории с моим негласнымвыстраданным мнением.
К моему великому удивлению, голосование было единодушным: ни одного «черного шара». Не знаю, чем объяснить эту поддержку, но, вероятнее всего, она была формой выражения неприятия партийных идеологем.
А через два дня после защиты я попал в больницу. То была первая вылазка моей верной спутницы – гипертонии.
В состоянии вынужденного безделья после бурного предзащитного периода чувствовал себя неприкаянным, опустошенным и страшно радовался любой весточке с «большой земли».
Одним из первых на мою болезнь откликнулся Павел Григорьевич Рындзюнский:
«Дорогой Анатолий Андреевич!
Очень меня затерло делами, и все никак не мог написать Вам.
Спасибо за хорошее письмо, хочется знать, как здоровье. Вам еще слишком рано быть «с давлением». Это, вероятно, от перенапряжения накануне защиты. А теперь все прошло.
У меня остались хорошие воспоминания о воронежских днях. Я мало пообщался с воронежцами из университета, но в этом виноват сам – на короткий срок приехал. И потом – нелюдим. А по-моему, народ хороший. Очень приятная молодежь. Я с удовольствием пообщался с Мишей (Карпачевым) и Геннадием Михайловичем (Дмитриевым). Передайте им привет от меня, когда увидите.
Вероятно, Вы уже в отпуске, и это письмо не скоро получите. Я опять подтверждаю Вам: будем рады видеть Вас у себя в Москве со всем семейством.
Я тут провинился: запамятовал отчество Вашей супруги. Знаю, что она, как и моя жена, Валентина. Большой ей привет и благодарность за хлопоты в тот день. А ведь он прошел хорошо, и Вы были великолепны! Так и держите.
Хочется знать о Вас все в подробностях. Давайте не прерывать дружеские связи.
Всего хорошего!
19.06.72 года, Москва.
П. Рындзюнский».
Храню это письмо в своем личном архиве как драгоценный дар памяти о человеке большого ума и щедрой души.
Будучи в больнице, я сообщил подробности защиты Сергею Сергеевичу Дмитриеву – профессору Московского университета, давшему отзыв на мою диссертацию и сыгравшему огромную роль в становлении моих либеральных взглядов. Его письмо также порадовало меня в моем заточении и вместе с тем заставило глубоко переживать.
После искренних поздравлений с победой в начале письма Сергей Сергеевич, со свойственной ему прямотой, отругал меня за «игру в слова» в моем автореферате. Под «игрой» он подразумевал мое стремление потрафить официозной идеологии посредством выискивания в мировоззрении В. П. Боткина «элементов материализма».
Я хорошо понимал правоту моего мудрого наставника, но вместе с тем понимал и то, что не вина, а беда моего поколения историков в приверженности нормативному мышлению. Руку на сердце положа, я бы оценил это явление как трагедию нашей историографии. Апологетика атеизма, материализма и партийности оценивалась в дни моей молодости как научная доблесть, и ни о каком диалоге сознаний нельзя было помышлять. Но если в изучении прошлого все-таки можно было найти острова свободной мысли (особенно в сфере всеобщей истории и истории Древней Руси), то в учебном процессе образовательных учреждений всех рангов царил непререкаемый диктат партийного начала. Удержаться на преподавательской должности в вузе можно было только следуя рецепту Омара Хайяма:
Если ты будешь в обществе гордых ученых ослов,
Постарайся ослом притвориться без слов,
Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
Обвиняют немедля в подрыве основ…
После защиты я готовил себя к чтению курса истории досоветской России, а вынужден был читать историю КПСС в Воронежском лесном институте. Получить место преподавателя истории России в этом славном городе было практически невозможно, и оставался только один путь – уезжать в Сибирь, где мне предлагали вакансию. Но тут вмешалась женщина.
Моя верная Валентина просила, умоляла со слезами на глазах не покидать «сытый» Воронеж, не менять насиженное место на голодную, холодную Сибирь. «Я всю жизнь, как нитка за иголкой, шла за тобой, – говорила она, – разделила все трудности, а теперь ты хоть один раз уступи мне!»
Что я мог возразить? Валентина была права: получили квартиру, защитил диссертацию, можно бы и «пожить»… И я уступил.
Это была не ошибка – это была самая настоящая измена самому себе.
Поначалу еще жил иллюзией о возможности читать курс необезличенным, не выбрасывая из него сведения о неугодных, неудобных власть предержащим личностях и событиях. Но политика диктата, духовного геноцида была жесткой и неумолимой.
Пытался смягчать бдительность партийной цензуры с помощью литературы и искусства. «В конце концов, – рассуждал я, – и историю КПСС делали люди, и о каждом из них надо ведь тоже по-человечески писать и говорить». Такие попытки мне милостиво прощали, чем я и «гордился»-насколько позволяла совесть.
Но как быть с миллионами замученных, как закрыть глаза на кровавую роль Советов и КПСС в многострадальной истории моей Родины, как при моем знании прошлого соловьем петь дифирамбы партийным палачам – этого я не знал. На мой взгляд, ни самая совершенная методика, ни талант лектора, ни искусство слова не могли в такой ситуации спасти человека чести от позора проститутки высшей научной квалификации.
Вообще, жить всегда тяжело, ибо жизнь – это вечная трагедия, а мечтать о солнечном потоке счастья – утопия. И надо иметь большое мужество жить, чтобы страдать и идти к своей последней березке.
От страдания не избавлен никто, но можно завершить очередной круг своей судьбы личностью или в стаде. Я оказался в стаде. Видел суету, погоню за степенями, за славой – то была жизнь рабов.
Для открытого бунта у меня не хватило ни мужества, ни сил. Повторить подвиг Солженицына я, как и многие другие, не мог и предпочел «внутреннюю эмиграцию». В переводе с турецкого на русский это означало: периодически уходить от действительности с помощью зеленого змия – вина.
И вот однажды я встретил в центре Воронежа моего любимого учителя Анатолия Евсеевича Москаленко. Он поинтересовался, где я работаю, а получив ответ, сухо попрощался и не подал мне руки.
Это было последней каплей, и я уехал на Урал, надеясь на перемены в своей судьбе.
Догнать в себе человека!Сегодня, по прошествии почти трех десятилетий, я обозреваю из уральского далека пережитое и понимаю до боли явственно: Воронеж был золотой купелью моей молодости, Воронеж выковал мой дух, и если есть во мне святой порыв к честному, бескорыстному служению науке – этим я обязан Воронежу.
А мои послезащитные «хождения по мукам» в Воронеже начались, да не в Воронеже закончились. И тем, что порою они требовали запредельного напряжения всех сил, я тоже обязан славному городу в сердце России. Он разбудил во мне тоску по идеалу, а в России с идеалами, чтобы выстоять и состояться, надо, по зрелому размышлению, пройти все круги ада.
Беда же моя была в том, что я много думал и писал о личности, но сам не стремился «догнать» в себе Человека. То была главная причина, а все остальное – только следствия.
Думаю, это не только беда моя, но и вина. Почти десять лет я постигал смысл истории, ее философию и не понял главного – синтеза временного и вечного, конечного и бесконечного. Если бы я не витийствовал, а действительно слышал за своей спиной гул прошлого, чувствовал на своих плечах тяжесть веков, то пошел бы до конца и нашел бы способ выйти из той судьбы-ситуации, в которой очутился. Я же оказался по-человечески слаб в борьбе с окружающими догматиками и догматизмом в себе самом.
Нельзя играть с историей, ибо историк – это не просто профессия, а состояние души человеческой. Значит, мне еще рано было мечтать о своей полночной сове Минервы. Но я стремился к ней всей душой, и в этом священном стремлении мне тоже помог Воронеж. Воронежский университет дал мне уникальные знания, а воронежская литература разбудила чувство Слова и через него – чувство собственного существования. Именно здесь моими вечными спутниками стали Тихон Задонский, Алексей Кольцов, Иван Никитин, Иван Бунин, Андрей Платонов. Впоследствии они окажутся едва лине полезнее университета.
Серебряный век русской литературы мне открыл писатель и журналист Петр Стрыгин.
Помню теплый воронежский вечер. Пылали огнем сады и бульвары в роскошных нарядах осени. На дворе было 18 сентября 1972 года от Рождества Христова. Мы с моим закадычным другом – «народником» Геннадием Дмитриевым – шли в кафе и мечтали напиться до чертиков. Повод был: в этот благословенный день мне исполнилось тридцать шесть лет. И вдруг Бог весть откуда на голову нам свалился неунывающий, вечно улыбающийся Стрыгин – «золотое воронежское перо». Я пригласил его преломить с нами хлеб.
Пришли. Сели. Заказали «Токайское». И когда подняли бокалы с искрящимся вином, Петр взял слово:
– Ты застал меня врасплох. Я не приготовил тебе подарка, но он всегда со мной. – Тут он сунул руку в карман, однако вместо подарка вынул носовой платок, прочистил нос и, откинув русую прядь с чистого, высокого лба, продолжил: – Я подарю тебе Гумилева!
Я слышал имя поэта, но читать не довелось. Как и большинство моих соплеменников, я пил культуру из разбитых бокалов прошлого. Погруженные в глубокий сон догматизма, мы боялись, как черт ладана, запрещенных имен, но по мере того, как урывками открывали удивительный старый мир, постепенно взрослели и учились избавляться от страха. Думаю, что не особенно преувеличу, если скажу: возраст человека в эпоху социализма определялся не календарными годами, а количеством книг, в которых он прочел правду о прошлом.
Между тем Петр начал читать, и в маленьком ресторанчике воцарилась мертвая тишина. Замерли с подносами официантки, и даже матерые жлобы перестали жевать и пить. Низкий голос Стрыгина заворожил всех. Он читал знаменитое «Шестое чувство»:
Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Под холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой, —
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать —
Мгновение бежит неудержимо.
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.
Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем,
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —
Так, век за веком: «Скоро ли, Господь?!» —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Ни до, ни после мне не дарили такого чудесного подарка. В тот осенний задумчивый вечер у меня появился новый вечный спутник – Николай Степанович Гумилев. Боже мой, сколько я посетил букинистических магазинов в Воронеже, Ленинграде, Москве, пока не отыскал заветные томики его стихов! Они всегда на виду в моей домашней библиотеке: «Жемчуга», «Колчан» и знаменитый «Огненный столп», появившийся после расстрела поэта в 1921 году.
От Гумилева начались тропинки к Иннокентию Анненскому, Константину Бальмонту, Анне Ахматовой и другим звездам серебряного века. Это было начало погружения в мир художественного познания исторического бытия.
Опытным лоцманом в этом мире был П. Г. Рындзюнский. Он открыл мне Льва Толстого. Конечно, я, как и все советские школьники, знал и зубрил тексты великого классика, но человеческий его лик стал мне доступен именно благодаря Рындзюнскому.
Я писал, что отец Рындзюнского в молодости служил одним из секретарей писателя. Вот почему и Павел Григорьевич, и его жена Валентина Альфредовна были примерными вегетарианцами. В науке же Рындзюнский всю жизнь занимался экономической историей и имел дело только с пудами, аршинами, верстами. По первоначальной переписке мне даже казалось, что он начисто лишен чувств и способности к образному мышлению. Однако я неверно истолковал его сухой, лаконичный стиль, за которым скрывались точность и краткость человека, привыкшего мыслить логическими категориями.
Однажды я навестил его в больнице Академии наук на Вавилова. Был полдень. Приоткрыл дверь в палату и увидел дремлющего Павла Григорьевича. В руках, лежавших на синем байковом одеяле, покоился томик Льва Толстого. Заслышав шаги, старик поднял голову и кивнул на стул.
– Что вы читаете? – поинтересовался я скорее из вежливости – чтобы начать разговор.
– «Хаджи-Мурата». Великая повесть. Она стоит всех книг психологов о тайне человеческой жизни.
И полился рассказ о давно ушедшем времени, о людях. Он-то и стал первоначальным толчком для моих размышлений о соотношении исторического и художественного в познании прошлого – проблеме, которой я занимаюсь по сей день.
Забегая вперед, скажу: отечественная историография (в первую очередь, советская) всегда относилась с большим недоверием к художественным открытиям писателей, демонстрируя свою преданность рационализму. Это грустно, ибо научное познание – далеко не единственный способ постижения сущности человеческого бытия. Есть еще Вера. Есть искусство! И надо крепко подумать, прежде чем ответить на вопрос, какой из способов дал больше результатов. Наверное, если вспомнить Шекспира, Пушкина, Достоевского, то ответ будет однозначным.
Кстати, именно литературе мы обязаны постижением правды социалистической эпохи. Я имею в виду повести Андрея Платонова, романы Александра Солженицына и Василия Гроссмана, огненные стихи Ахматовой, Пастернака. Не говорю уже о прозе Шаламова, Домбровского, Аксенова. Пока историки просыпались и распускали нюни, жалуясь на недоступность источников, поэты и прозаики обращались к живому документу – человеку и создавали великие полотна исторической правды о времени и о себе.
Я сохранил чувство благодарности Воронежскому университету, берегу память о нем и по-прежнему люблю родной исторический факультет. Но со временем главным моим университетом стали библиотеки, где правдами и неправдами я получал доступ к сочинениям Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Льва Шестова и других могучих мыслителей русского Ренессанса. И я благодарен судьбе за то, что на тернистом пути постижения «подпольной» истины Слова рядом со мной были мои старшие друзья и товарищи, чью духовную силу я называю великой.
Кроме Стрыгина и Рындзюнского огромную роль в моем литературном воспитании сыграли профессор Московского университета Сергей Дмитриев и его ленинградский коллега Натан Валк. Первый открыл мне Ивана Бунина, второй – Пушкина. При этом замечательно, что и тот и другой, как и Рындзюнский, были историками, но историками Божьей милостью, наделенными удивительным даром самовыражения через Слово.
Уже потом, много лет спустя, я прочитаю у Мартина Хайдеггера: «Слово – это Дом бытия… Бытие, освобождаясь, просит Слова. Оно всегда говорит за себя». Гениально! Но до Хайдеггера эту истину знали и понимали гуманитарии старой формации. Усваивать ее им помогали опыт и традиции нарративной истории, получившей живое воплощение в трудах Карамзина, Ключевского, Костомарова и, конечно, Пушкина.
Карамзин открыл русскую историю, а Пушкин объяснил ее как драму российской национальной жизни, как вечное столкновение смыслов, препятствующее диалогу сознаний. Пушкинская философия истории – это философия личности, пробивающейся через «расцветающие века» к торжеству свободно творящей индивидуальности, но пушкинская свобода (мечта о свободе) ничего общего не имеет с анархической волей, на крыльях которой врывался в русскую историю «бессмысленный и беспощадный» бунт с жутким призывом: «Сарынь на кичку!». Бунт угасал, а его следы еще долго дымились кровью жертв и подавителей вольницы в полуазиатской стране.
Благодаря увлечению Словом, «врастанию» в Слово, я и не заметил, как строго научная тема моей диссертации стала сущностью моей жизни. Я действительно стал либералом по своим убеждениям. Когда упала с глаз моих «классовая» пелена, передо мной предстала поначалу ошеломившая меня картина: почти все талантливое, неординарное и гениальное в России было непримиримым противником революции и классовой борьбы.
Я никогда не подсчитывал количество либералов в Советском Союзе (подпольных, конечно), но я встречал их почти в каждом городе, куда меня забрасывала судьба. Нет, они не выходили на площади с лозунгами, не печатались в «самиздате» и «тамиздате», но они были везде: на кафедрах, в библиотеках, в НИИ. Это, как правило, были скромные, совестливые люди – представители той самой «внутренней оппозиции», о которой я вскользь уже упоминал. Я знавал учителей, которые на свой страх и риск читали ученикам Гумилева; встречал философов (Э. Ильенкова, М. Мамардашвили), не скрывавших приверженности идеализму; общался с историками (К. Тарновским, М. Гефтером), оспаривавшими абсолютизацию формационной теории. Действительность на каждом шагу подтверждала правду о неистребимости русского национального духа: у коммунистов никогда не было полной идеологической победы над инакомыслящими. И причина сокрушительного краха коммунистов в начале девяностых – в их чисто русском неприятии установки на диалог сознаний.
Единственное, чем могли похвалиться правоверные марксисты-ленинцы, – это половодьем двойной морали, двойной политики, двойной экономики.
Вспоминаю встречу с молодым, но уже известным в начале семидесятых историком либерализма Валентином Шелохаевым.
1971 год. Ленинград. Осень. Умаявшись от трудов праведных в архиве, мы ужинаем в маленьком, уютном ресторанчике-поплавке на Неве. Когда прошли по первому, второму и третьему кругу, у моего московского собрата по цеху загорелись глаза и он доверительно спросил меня:
– А кто был в России самым трезвым в общественно-политическом отношении? Либералы, социал-демократы, анархисты, народники, а?
– Конечно, либералы, – ответил я без раздумий.
– Дай руку, старик! Я тоже так думаю!
Через год вышла в свет его монография о роли кадетов в первой русской революции, где он их давил, душил и размазывал на большевистской стенке. И таких Шелохаевых было – не счесть. В приватных разговорах за чашкой чая, на кухне, на даче они не скрывали своих сомнений и симпатий к отверженному племени рыцарей свободы, но как только выходили на кафедру или появлялись со своими статьями в журналах, их было не узнать. Неподкупные могильщики либеральных идей – ни больше, ни меньше!
Конечно, политическая ситуация в стране в начале семидесятых была иная, чем в 1937 или в 1949 годах. Уже никого не расстреливали, за редким исключением (Валерий Саблин), зато работали на полную мощность «психушки» и не останавливался конвейер вынужденной эмиграции. Время от времени отдавались приказы об очередной «охоте на ведьм» или устраивались «воспитательные» погромы в институтах Академии наук. И хотя за нашей спиной уже была хрущевская оттепель и джина из бутылки выпустили, но нашим незримым спутником оставался страх, превращавший умных людей в трусливых рабов, парализовавший их волю. Система продолжала работать.
Многое можно было бы поведать о жертвах страха, но ограничусь только одним эпизодом.
1969 год. Воронеж. Средняя школа № 27. Идет заседание педсовета. Я, завуч, выступаю с докладом о педагогической помощи трудновоспитуемым детям. Указав на банальные причины детской преступности: плохую организацию досуга школьников, вялость работы классных руководителей, заорганизованность пионерской дружины и комсомола, – пытаюсь обратить внимание на ее объективные предпосылки. Говорю о нищете, о безотцовщине, о жестокости Уголовного кодекса и о многом другом.
Директор школы, Александр Дмитриевич Шубин, сидит красный, как рак, и пылает гневом.
– Как?! Вы допускаете наличие у нас объективных причин преступности? Это же антисоветизм! – рычит он, не пытаясь дослушать моих размышлений.
Я начинаю возражать, доказываю правомерность такой постановки вопроса, но он решительно обрывает меня.
Сразу же после педсовета объявляют о заседании партийного бюро и начинают по горячим следам обсуждать мои заявления…
Все было до боли знакомо: та же рутина, тот же набор речевых штампов, тот же металл в голосе. Многое стерлось в памяти, но я хорошо запомнил страстное, накаленное ненавистью ко мне выступление преподавателя военной подготовки – подполковника в отставке, бывшего летчика и кавалера пяти боевых орденов Александра Вяткина. Не вытирая белых клубков слюны в уголках рта, он не говорил, а визжал, требуя моего исключения из партии.
Предложение закаленного большевика не поддержали, но за выговор с занесением в учетную карточку проголосовали почти единодушно. Бюро Ленинского райкома КПСС ограничилось устным выговором.
Помню еще, как, прощаясь со мной на улице, председатель партийной комиссии – седой, как лунь, старик с военной выправкой – посоветовал мне руководствоваться в жизни пословицей: Знайка на порожке сидит и молчит, а Незнайка на печи лежит да песни орет. Мол, будь умницей: умей молчать.








