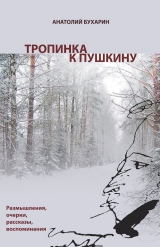
Текст книги "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии"
Автор книги: Анатолий Бухарин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
За первый год аспирантуры я успел только сдать кандидатский минимум. Работа в школе закрыла мне дорогу в московские и ленинградские архивы.
Моим научным руководителем кафедра назначила Лазаря Борисовича, и я каждую пятницу, с пяти до семи вечера, общался с ним в его доме, консультировался и даже спорил.
Это была настоящая академия! Он предлагал к обсуждению самые неожиданные темы. Ну, например: чем отличается французская буржуазия от русской? Или: кто из русских революционных демократов мог бы повторить Робеспьера? Особенно много внимания уделял фигурам российского купечества.
Выяснилось: Генкин всю жизнь проявлял глубокий интерес к судьбе русского «третьего сословия», и познания его в этой области были изумительными. Историю производства и обмена он знал, как свои пять пальцев. Иногда случалось, что наши беседы затягивались до ночи, а он все рассказывал и рассказывал: о представительных организациях купеческого и промышленного капитала в России, о налоговой системе, о таможенной политике царского правительства, о буржуазной периодической печати…
Честное слово, генкинские вечера были для меня полезнее, чем университетские занятия. Оно и не удивительно – ведь даже самые блестящие лекции самых выдающихся профессоров в конечном счете рассчитаны на среднестатистического студента. Живая же, личная связь между учеником и учителем не может сравниться ни с чем.
С каждой новой встречей вести диалоги с профессором мне становилось все труднее: не знал источников. Русской буржуазии не повезло на исследователей в старой историографии, а в новой, советской, эта тема была настолько заидеологизирована, что и родная мать не узнала бы. Племя русских «Форсайтов» не только вырвали с корнем из национального бытия, но и память о них постарались залить грязью, что вполне естественно: советский период нашей исторической науки был временем мистифицированного исторического сознания.
Знал, понимал, что надо ехать в столичные архивы. Но как прорваться в них провинциальному учителю?
К тому же я начал робеть. Сложность моей исследовательской ситуации заключалась в том, что дорога от общего к частному в изучении выбранной темы была дорогой от неизвестного к неизвестному: запутана и темна история либерализма, буржуазии, запутана и темна жизнь ее выдающегося представителя Василия Боткина…
В довершение всех бед ни денег, ни времени на поездку в Ленинград и Москву не было. И я решил уйти из аспирантуры, намереваясь самоутвердиться в педагогической работе. На очередной встрече с Генкиным заявил о своем решении.
Но профессор оказался неуступчивым. Он резко отчитал меня за малодушие и просил не покидать науку.
В июне семидесятого я уехал со старшеклассниками в спортивно-трудовой лагерь в Хохольский район и ничего не знал о дальнейшем развитии событий. А случилось вот что.
После нашей последней встречи Генкин пошел к ректору университета В. Мелешко и попросил его предоставить мне место в дневной аспирантуре хотя бы на год. Место нашли, и моему профессору объявили, что его аспиранта могут перевести на дневное отделение для завершения диссертации на год и четыре месяца. Теперь предстояло вопрос о моем переводе рассмотреть на заседании ученого совета исторического факультета.
Первым в штыки решение Лазаря Борисовича принял декан Владимир Васильевич Гусев. До сих пор не знаю, какими мотивами он руководствовался, отвергая мою кандидатуру, но догадываюсь: речь шла о других кандидатах, удобных и нужных лично ему, Гусеву.
Трудно сказать что-либо определенное об этом человеке, кроме того, что чиновник он был на редкость опытный и знал, что и как делать. Когда открылось заседание совета и зачитали решение кафедры о моем переводе с заочного отделения на дневное, Гусев пошел в атаку. Не умаляя уровня моей подготовки, он напомнил о том, что я учился на вечернем отделении и что-де получил диплом с отличием лишь в качестве поощрения за рабочую биографию. Потом что-то плел о странностях моей судьбы, фамилии, о моем переходе с должности секретаря горкома комсомола на должность рядового рабочего и т. д., и т. п. В итоге же рекомендовал перевести на дневное отделение другого аспиранта Генкина – Михаила Карпачева.
Лазарь Борисович задрожал от гнева, как осиновый лист, встал и что есть силы крикнул: «Мне лучше!..» Он, очевидно, хотел сказать: «Мне лучше знать, кого переводить», – но не успел договорить и упал, сраженный инфарктом. Это был третий инфаркт в его жизни.
Выходец из потомственной семьи интеллигентов, профессор прошел все сталинские «университеты»: ссылку в Томск в черном 1937 году, досрочное освобождение и войну, гонение на евреев в сорок девятом. Одним словом, выпил чашу страданий до дна, и у него давно уже не было сил выносить мышиную возню чиновников от науки.
Умер он через три дня. Меня вызвали телеграммой, и я провел наши последние часы у его постели в больничной палате.
Лазарь Борисович страшно стеснялся своей беспомощности, сам пытался брать с тумбочки стакан с водой, и, когда сгибал в локте руку, игла капельницы еще глубже вонзалась в тело. Он не показывал вида, что ему больно, и просил меня, не теряя времени, ехать в московские архивы. Я успокаивал его и дал слово, что перетрясу все доступные хранилища снизу доверху, но защищу диссертацию в срок.
И действительно, после похорон профессора я уехал на полгода в Москву, а потом – в Ленинград.
Трудное, но счастливое время. В стране происходили какие-то перемены, шла подковровая борьба, заканчивалась одна «охота на ведьм» и начиналась другая. Брежневу бесконечно присваивали звания Героя, разворачивалась во всю ширь коррупция, все больше наглели рукосуи, а я ничего не замечал, обложенный архивными материалами.
И открылась мне иная история русских предпринимателей-либералов. Искаженные черты посрамленного сословия шаг за шагом, документ за документом проступали все четче. Перед моим мысленным взором возникал подлинный, не замутненный идеологической накипью образ энергичных, вездесущих родоначальников русской буржуазной элиты.
Я уже не раз писал, что нет необходимости покрывать сусальным золотом идеализации прошлое наших промышленников и купцов. Были среди них и «аршинники», и «самоварники», были и хищники, и плуты. Это так. Но были и Посошковы, Демидовы, Строгановы, Шелеховы, Боткины, Гучковы, Коноваловы, Рябушинские, Найденовы, Вишняковы, Второвы – несть им числа. Были те, кто приносил Россию себе в жертву, и были те, кто приносил себя в жертву России.
Наше невежество просто чудовищно: мы привыкли представлять предпринимателей-либералов в лучшем случае как меценатов. Однако прошлое свидетельствует о другом. Это сословие выдвинуло на историческую сцену России огромную плеяду истинных творцов культуры – от Посошкова до Мандельштама.
Нелегко далось мне открытие и принятие этих тайн, но еще сложнее было опубликовать выявленные факты. Журналы и газеты принимали только погромные статьи о либерализме, и своего Боткина я «проталкивал» исключительно в связи с чем-то и кем-то. В 1969 году мне удалось поместить в журнале «Подъем» очерк «Близкий его сердцу», где речь шла о многолетней дружбе с Боткиным поэта Алексея Кольцова. С большим трудом опубликовал еще две статьи, необходимые для защиты.
Несмотря на отдельные заморочки, все шло, вроде бы, нормально, но неожиданно мой новый научный руководитель Михаил Минович Шевченко решительно отказался дать положительный отзыв о моей диссертации и предложил повременить с защитой!
Осторожный Шевченко всегда просчитывал шахматные партии на несколько ходов вперед. Просчитал и тут.
В стране разворачивалась очередная кампания по борьбе с инакомыслием. На сей раз «бомбили» Институт истории СССР Академии наук, где «свили гнездо ревизионисты»: директор института П. Волобуев, старшие научные сотрудники К. Тарновский и И. Гиндин, уральский историк В. Адамов и другие. Они выпустили в свет сборники статей об истории капитализма в России, о февральской революции и об облике русского дореволюционного пролетариата.
В сущности, это был бунт на коленях, ибо речь шла не о пересмотре господствовавшей формационной теории, а об уточнении социально-экономических предпосылок Октябрьской революции. «Новое направление» сделало лишь робкий намек на незакономерный характер октябрьского переворота, попытавшись обосновать, что российский капитализм в ту пору еще не устоялся, экономика отличалась многоукладностью и никакого трагического обострения противоречий между производительными силами и производственными отношениями не было.
Воссоздавая образ «гегемона русской революции», новонаправленцы «ахнули»: в России в десятые годы прошлого столетия грамотной была только тончайшая прослойка фабрично-заводского пролетариата!
Зарвавшихся ревнителей исторической истины тут же поставили на место: «самого» (Волобуева) направили «изучать производительные силы» в Институт истории естествознания и техники, а тех, кто занимался сельской общиной, отослали исследовать колхозы. Некоторым вообще закрыли дорогу в научные и учебные институты. Никого не расстреляли, но инфаркты и инсульты выполнили функцию карателей не менее надежно.
Замысел кремлевского «семейства» был прост: ужесточить методологическую дисциплину историка с помощью новой волны страха. И он достиг цели. Инерция страха вновь стала набирать обороты и достигла самых тихих уголков России, в том числе Воронежа. Люди еще не забыли ни тридцать седьмого года, ни сорок девятого. Не забыл их и мой новый научный руководитель. Не забыл. И перепугался.
Второй звонок-предостережение был из Москвы – от Евгения Григорьевича Корнилова. Он работал в Министерстве высшего образования Российской Федерации и тоже готовился к защите диссертации о земской демократической интеллигенции. Умница, добрейшая душа, он сам был живым воплощением старых земцев, но Москва «седых загривков» обточила углы кипучей, страстной натуры и также сделала ее заложницей страха – вполне понятного страха. Корнилов хорошо знал «великосветскую» жизнь, этот жестокий мир лихоимства с вечной игрой, и прекрасно понимал: системене нужна ни правда, ни научная объективность – она, как и всякая другая, тоталитарная по своей природе, нуждается только в лакеях.
Корнилов писал: «Ты ссылаешься на Ленина. Это хорошо, но когда недавно редакцию последнего тома Истории КПСС (1946–1953) вызвали «на ковер» и главный редактор попробовал заявить, что, мол, дорогие товарищи, мы ни слова не написали от себя – все взяли из постановлений ЦК, ему был дан вполне прозрачный ответ: «Документы надо уметь читать и не заниматься очернительством нашей истории». «Полетел» не только Зайцев, но и Поспелов с Кукиным. Следующий том мы получим очень не скоро. Спустясь же с небес на землю, могу сказать, что твои работы производят благоприятное впечатление четкой классификацией проблем исследования. Но, правда, настройся к своим «героям» покритичнее, т. е., я хочу сказать, диссертабельнее».
«Критический настрой» означал: не посмотрев в святцы, бухнуть в колокола. Либералы в советской историографии были обречены на жалкую участь: они или сами идейно и морально разлагались, или их «давили» непогрешимые – от Чернышевского до Ленина. И современному русскому историку тоже еще рано праздновать звездный час: избавление от коммунистических парадигм займет немало времени, ибо годы духовного унижения, беспамятства не могут пройти бесследно…
Дело прошлое, но в моей диссертации никакого «криминала» не было. Мне повезло, поскольку Ленин в свое время дал очень высокую оценку русским просветителям сороковых годов девятнадцатого века, указав на бескорыстие этих людей, отвергавших крепостное право и выступавших за повторение Россией западноевропейского опыта индустриализации. И все-таки Шевченко и иже с ним осторожничали. Понять их можно: у нас в России криминал не ищут, а изобретают по указке власть имущих, поэтому-«как бы чего не вышло»…
Некоторое время я мучился дилеммой: подчиниться руководителю или идти до конца? Предпочел второе: поехал в Москву и получил частные отзывы о своей работе у С. Дмитриева – профессора Московского университета, П. Рындзюнского-доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории СССР, и Е. Рудницкой – известного исследователя революционно-демократического движения. Конечно, они высказали серьезные замечания, но были единодушны в признании тех открытий, которые мне удалось сделать в ходе архивных поисков.
Речь шла о позиции торгово-промышленного сословия в ходе подготовки отмены крепостного права. В официальной историографии утвердился стереотип: русская буржуазия изначально была равнодушна к проблеме и не проявляла никакого действенного отношения к судьбе закрепощенного крестьянства. Но как же так? Неужели купцы и промышленники, платившие немалый выкуп за личное освобождение и страдавшие от недостатка рабочих рук, поскольку рынка рабочей силы не было, могли спокойно созерцать совершавшийся крутой исторический поворот? Я нутром чуял иное и упорно искал документальное опровержение господствовавшей идеологемы. И нашел его в фондах архива Министерства финансов! Суть здесь в следующем.
В 1857 году правительство Александра Второго готовило новый таможенный тариф, ущемлявший интересы отечественной промышленности, поскольку он существенно снижал пошлины на ввозимые в Россию западноевропейские товары. И русские производители закричали «караул!». Дождем посыпались записки, прошения от частных лиц, от купеческих обществ, биржевых комитетов, отделений Мануфактурного совета. В журналах появлялись одна за другой статьи, защищавшие политику протекционизма. А общим для всех этих выступлений было требование отмены крепостного права! Еще бы: уравнивать русскую и западноевропейскую промышленность в экономической конкуренции мог только сумасшедший, ибо первая была связана по рукам и по ногам вековой крепью, а вторая развивалась в условиях свободного рынка со сложившейся функциональной инфраструктурой. Это было для меня откровением. Но надо было обнаружить и прямые свидетельства.
В фондах Н. Милютина я нашел десять проектов отмены крепостного права – десять предлагаемых вариантов выкупной операции, авторами которых являлись купцы и промышленники.
Конечно, эти авторы составляли ничтожное меньшинство молодой русской буржуазии, но ведь меньшинство прокладывает дорогу большинству. Что же касается большинства нарождавшегося сословия, то оно, как и прежде, промышляло обслуживанием интересов дворянства – удовлетворяло потребности аристократии в предметах роскоши или сколачивало капиталы на казенных заказах. Однако в ту пору меня это мало волновало.
Признаюсь честно: собирая диссертационные материалы, я идеализировал «третье сословие» и только со временем, уже после защиты, стал понимать, что оно никогда не было единым ни политически, ни идеологически. В среде промышленников и купцов преобладали люди с интересами,а людей с убеждениямибыло крайне мало. (Впрочем, такая же картина предстает перед нами и в новой России, где на девяносто девять человек с интересами приходится один с убеждениями.) Родовой чертой «третьего сословия» был патернализм, который воплощался в умной покорности самодержавию.
Одно бесспорно для меня сегодня: вопрос о формировании русской буржуазии есть вопрос об индивидуализации России, вопрос о личности.И не имеет никакого значения, в каком обличье она появилась: в крестьянском армяке, в рясе монаха или во фраке светского человека. Самое важное-личность постепенно^ издержками, но все же становилась творцом русской истории, существенный недостаток которой – вечный дефицит яркого личностного начала. История буржуазии интересна прежде всего с этой точки зрения: именно торгово-промышленный мир более всех выдвигал на авансцену русского общества предприимчивых, неординарных людей. Вспомним Посошкова, Голикова, Шелехова, Полевого, Боткиных, Чижова, Кокорева, Мамонтовых, Третьяковых, Гучковых, Рябушинских и несть им числа. Эти люди никогда не были пассивно-страдательными объектами государственной политики. Они делали историю. И трагедия 1917 года – не Апокалипсис, а самая черная, набухшая кровью и слезами история личности в России.
Советская историография, за редким исключением слепо следовавшая принципам официозной идеологии, отводила русским «Форсайтам» роль изначально обреченных на уход с исторической сцены. Всё по Шекспиру: Мавр сделал свое дело – Мавр может уходить. Но 1917 год, по счастью, не был безусловным концом свободной русской мысли. Несмотря на почти вековой идеологический геноцид, эта мысль выстояла и стала предтечей нового обращения России к свободной личности. Сегодня, в муках реформ и преобразований, такая личность утверждается как реальная историческая сила. Жизнь продолжается!
Разумеется, умозаключения такого уровня были недоступны мне в ту пору, когда я делал лишь первые шаги в изучении русского либерализма, однако в ходе многотрудных поисков и размышлений мне удалось воссоздать достаточно многогранный образ полузабытого русского философа и писателя – Василия Петровича Боткина, раннего либерала, купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина. Рецензенты обратили внимание на этот факт и по достоинству оценили.
Вернувшись в Воронеж, я убедительно попросил кафедру поставить вопрос о предварительной защите. Просьба была удовлетворена.
После кончины Л. Б. Генкина кафедру возглавил доктор исторических наук, профессор Валентин Павлович Загоровский. Чемпион мира по шахматной переписке, он всю жизнь занимался историей Воронежа, через которую постигал историю России. В шестнадцатом столетии, когда был основан Воронеж, он чувствовал себя как рыба в воде. Много лет посвятил уточнению даты основания города и не скрывал горделивой радости, когда доказал, что Воронеж был основан в 1585 году. Отношение профессора к моей теме и трудам было лояльным.
Памятное заседание кафедры состоялось 16 марта 1972 года. Я знал и уважал всех, кто пришел на обсуждение моей диссертации. В. П. Загоровский занимает в этом ряду близких моей душе людей одно из первых мест. По сей день храню светлую память и об Арсении Ивановиче Бортникове – вечно молодящемся доценте с крашеными волосами, эстете и ловеласе. О его мини-романах со студентками во время экзаменов по факультету ходили легенды. Но какой это был замечательный историк! Он читал нам спецкурсы по истории Кирилло-Мефодьевского общества и вел факультатив о Буташевиче-Петрашевском. Его лекции были охвачены огнем неподдельного восторга. Бортникова любили. Я же особенно благодарен Арсению Ивановичу за поддержку моего увлечения западниками и славянофилами.
Не пожалела времени и пришла Варвара Александровна Попова. Если Ирина Ивановна Романова, о которой я писал выше, представлялась мне Карлейлем в юбке, то Варвара Александровна была живым воплощением Маргариты Нарышкиной и отличалась прежде всего цветущей женственностью. Годы не трогали ее, ибо в ее душе преобладали черты художника. Житейские дожди упорно смывали краски красоты с ее лица, а душа наносила их снова. Не буду лукавить, курсы Варвары Александровны мне не запомнились, а вот человеческий трепет, неприслоненность к черной зависти, мести до сих пор горят в памяти неугасимой свечой.
Одарила меня вниманием и Анна Николаевна Москаленко, археолог. Если бы я ограничился лишь напоминанием о том, что она была женой Анатолия Евсеевича Москаленко, то и этого было бы достаточно для ее представления на этих страницах. Ан нет, скажу больше! Анна Николаевна представляла тот тип русских женщин, которые умеют отдавать себя в жертву семье и… науке. Бурная деятельность Анатолия Евсеевича, его нестареющий лик были предопределены вектором влияния поразительной силы духа этой женщины.
Анна Николаевна с достаточным основанием оценивается сегодня как основоположник воронежской школы археологов, с ее именем связано исследование знаменитого памятника культуры – стоянки первобытного человека эпохи верхнего палеолита в городище Титчиха. Светлая ей память!
Конечно, уверенности мне придавало и присутствие Веры Михайловны Проторчиной. Она читала курс истории русской культуры. Читала вдохновенно, не жалея ни интеллекта, ни души для погружения нас в тайны литературы, театра, живописи. Зачарованные политической историей, мы, молодые рационалисты, объясняли многие явления прошлого социально-экономическими причинами и не придавали серьезного значения ни духу, ни искусству. На первом плане была классовая борьба, и только борьба! Пройдут годы, прежде чем нам откроется простая, но вечная истина: Дух первичен, а все прочее – вторично. И все-таки Вера Михайловна заронила в наши души зерна сомнения. Именно с ее лекций для меня начался процесс освобождения из плена марксизма.
Однако – к делу, то есть к обстоятельствам предварительной защиты.
На изложение сути диссертации и выводов мне дали пятнадцать минут. Конечно же, волновался и затянул «тронную речь», но отреагировали на это спокойно.
Против моего ожидания обсуждение также прошло ровно, по-деловому. Идеологический страх не ощущался ни в одном выступлении, и кафедра единодушно постановила: диссертация А. А. Бухарина отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук.
Далее было рекомендовано ученому совету исторического факультета:
1. Принять к защите кандидатскую диссертацию А. А. Бухарина на тему «В. П. Боткин: Из истории формирования буржуазного либерализма в России в предреформенную эпоху».
2. Назначить официальными оппонентами по диссертации А. А. Бухарина: доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории СССР АН СССР П. Г. Рындзюнского; кандидата исторических наук, доцента кафедры истории нового и новейшего времени Воронежского государственного института И. И. Романову. Оба оппонента являются специалистами по буржуазному либерализму.
3. Направить диссертацию А. А. Бухарина на внешний отзыв в Московский государственный историко-архивный институт.
Решающую роль в моей успешной предварительной защите сыграли, конечно, частные отзывы о моей работе П. Г. Рындзюнского и С. С. Дмитриева. Мои усилия могли быть перечеркнуты М. М. Шевченко, пожелай он этого, но спорить с москвичами Михаил Минович не рискнул и молча проголосовал «за».
Земной поклон вам, мои учителя и товарищи, за светлые минуты моего тогдашнего счастья! Сбывались мои самые дерзкие, самые возвышенные мечты!
Знал ли я тогда, на какую тяжкую и тернистую стезю вступаю благодаря вашей помощи и поддержке? Конечно, знал, ибо уже хлебнул лиха в поисках научной истины. Однако томое знание сегодня, с высоты пережитого, представляется мне блаженным неведением отрока, впервые преклонившего колени перед жертвенником в языческом храме.
Я был уверен, я ставил сто против одного за то, что успешная защита распахнет передо мной двери в жизнь яркую и достойную, наполненную окрыляющим трудом, всеобщим признанием и заслуженным благополучием. Наивный романтик! Сегодня, когда голова моя бела и сердце, подорванное инфарктом, уже не так быстро гонит кровь по жилам, я анализирую былое и с мудростью стоика, познавшего через лишения высший смысл бытия, констатирую вслед за Маяковским: «Мне и рубля не накопили строчки…»
Да и могло ли быть иначе? В России жизнь ученого-историка, настоящего ученого, а не конъюнктурщика, не дельца от науки, – это печальная повесть о культурной нищете. Чего стоит одно только многолетнее ожидание квартиры и очередного повышения ставки доцента, которое строго регламентировано: через пять и десять лет. Годы уходят на поиски фактов, свидетельств, которые чаще всего входят в научный и учебный оборот без указания имени автора, их открывшего. И вряд ли читатель осознает, какой ценой оплачена каждая строчка исследователя исторических реалий, каждая добытая им цифра или вновь открытое имя. Хранителям памяти человеческой обязаны люди своим нравственным здоровьем, духом, однако испокон веков общество платило им черной неблагодарностью.
И моя судьба – не исключение из правил. Всю жизнь работал по восемнадцать часов в сутки, а кончил все той же культурной нищетой. Но это не самое главное, вернее, не самое больное.
Годами, а то и десятилетиями, рукописи историка ждут публикации. Если раньше, в советской России, на него давили нормативные требования, то теперь в буквальном смысле истязают политическая и экономическая конъюнктура. Попробуй-ка удержись на позициях бесстрастности и объективности! Чего греха таить: многие ломались и ломаются под грузом нужды и житейских забот, погружаются в омут тяжкого нравственного греха. Уста их утверждают высокое, вечное, а руки берут взятки на вступительных экзаменах, на защитах диссертаций.
К слову сказать, я всегда выступал решительным противником употребления при оценке нравственности ученого слова «интеллигент». Выступал потому, что кое-кто пытался, и не без успеха, использовать это слово как синоним не только интеллекта, но и высокой духовности. Между тем Словарь иностранных слов трактует термин «интеллигент» однозначно: человек, занимающийся умственным трудом и обладающий необходимым для такого труда образованием. С этих позиций, интеллигентами являются и Борман, и Геббельс, и Сталин, и Вышинский, и Франко, и Пиночет. А сколько интеллигентных преступников в белых воротничках гуляет сегодня по белому свету и по России! Так не лучше ли, оценивая нравственность, употреблять другое понятие – «порядочный человек»?
Не скрою, проведя смолоду почти половину жизни в рабочей среде, я с пиететом относился к научной, тем более к педагогической, интеллигенции, но в первые же годы сотрудничества с «высоколобыми» стал открывать страшную, мучительную правду о коррупции, конформизме, проституции, которыми кишел каждый угол внешне неприступного храма отечественной науки. К счастью – оговорюсь, – не все в этом храме оказались пленниками дьявола: было немало и независимых, честных людей, но жили эти люди, что называется, под Дамокловым мечом.
Малейшая методологическая ошибка, осторожный скепсис в оценках классиков марксизма-ленинизма способны были погубить и действительно погубили тысячи душ. Даже в тех случаях, когда вы поступали с трудами отцов научного коммунизма, как правоверные мусульмане – с Кораном, вас могли нокаутировать, ссылаясь на негласное правило умелого использования источников. Не удивительно, что большая часть диссертаций по исторической и философской тематике демонстрировала не глубину научного анализа, а приверженность авторов идеям «единственно верного учения». Просмотрите, любопытства ради, авторефераты тех лет – и вы убедитесь в справедливости моих слов. За каждым выводом соискателей ученых степеней тянутся длинные шлейфы ссылок на труды Маркса, Энгельса, Ленина и на решения партийных съездов.
Усиленное стремление тоталитарного режима сохранить самое себя обусловило торжество во всех сферах жизни нормативного мышления. Это, в свою очередь, явилось причиной «мертвого сезона» в нашей историографии.
Помню, как в ноябре семидесятого академик Нечкина, выступая на заседании группы историков по изучению первой революционной ситуации в России, резко оборвала не в меру философствующих: «Научные законы для всех одинаковы, и нужно одинаково судить о методеисследования».
Почтенная воительница за чистоту и монополию марксистско-ленинского учения об историческом процессе знала то, о чем говорила, ибо поседела в борьбе с дворянской и буржуазной историографией. Беда ее как талантливого и во многом глубокого исследователя – в слепой приверженности формационной теории и классовому подходу. Разумеется, с позиций здоровой научной (и общечеловеческой) этики эту систему взглядов, выпестованную тоталитаристами, нельзя ни запретить, ни отменить. Ее можно только преодолеть, выстрадавзакономерность существования альтернативы, а для этого нужны воля и терпение. Их-то и не хватает идеологам тоталитарности, «зацикленным» на «единственно верном», «единственно разумном», «единственно правомочном» подходе к истории, то есть отрицающим диалектичность историографии де-факто при усиленной апелляции к диалектике де-юре.
Искусство манипуляции цитатами достигло в советской науке наивысших пределов: Лениным можно было погубить научную работу или поднять ее на недосягаемую для критики высоту. В «ножницы» ленинских оценок либерализма попался и я со своей диссертацией о Боткине.
Да, основатель социалистического государства, размышляя о ранних либералах-западниках, отзывался о них одобрительно, а вот что касается либералов пореформенной России, то их он крестил налево и направо «либеральными хамами». С его легкой руки, слово «либерал» на долгие годы стало ругательным.
Что было делать мне? Мог ли я сохранить объективность научного анализа, балансируя на смертельно остром в ту пору лезвии плюрализма полярно противоположных оценок бессмертного жреца коммунистической идеологии? Думаю, что не смог бы ни за что, ни под каким предлогом, приступи я к своей диссертации лет на пять раньше. А вот в начале семидесятых…
Пикантная, надо сказать, была историографическая ситуация. По-прежнему не умирали советские легенды об античеловеческой сущности капитализма, о проклятом племени бездушных эксплуататоров нищего русского пролетариата. Пожалуй, весь деготь Советского Союза вылили на память дореволюционных предпринимателей, банкиров, купцов. Но вот посыпались удары из стана «ревизионистов», которые не уставали утверждать: социалистическая революция в России свершилась вопреки объективным законам истории, то есть не по Марксу, и была не чем иным, как заговором большевиков.
Серые кардиналы всполошились. Концепция новой в истории, «единственно человечной» социалистической системы, возникшей на руинах полуколониальной державы, рушилась на глазах. Надо было спасать положение, и прежде всего – пустить в ход «тяжелую артиллерию»: ленинское учение об империализме как высшей стадии капитализма, о промышленном перевороте, который способствовал превращению России в «узел самых острых противоречий», и, конечно, о могильщике буржуазии – пролетариате. «Католиков», считавших себя выше папы римского, оказалось уйма. И вся эта ватага исторических авантюристов кинулась искать следы злополучной капиталистической формации уже в раннем русском средневековье, доказывая, что российский капитализм был не хуже европейского и прошел все стадии развития, пока наконец не испустил дух в 1917 году.








