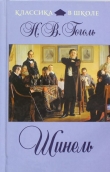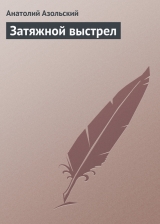
Текст книги "Затяжной выстрел"
Автор книги: Анатолий Азольский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Степенный, основательный, грузный Степан Векшин оборвал Гущина, возводить хулу на адмиралов не позволил. Сказал примирительно, что адмиралов неправильно понимают, руководящие документы штаба огрубляют действительность, дают искаженное представление о благородных намерениях начальства…
– Правда, Олежка? – обратился он за помощью к Манцеву.
Лучше бы не обращался… Обмывка новой шинели – это заметили многие офицеры – сбила с Манцева гонор, полинял командир 5-й батареи, военно– морские анекдоты из него уже не хлещут. Но, к удивлению многих, вспомнил он былое и оживился.
– А как же, еще как огрубляют и искажают… Вот в позапрошлом году был в Питере случай, в цирке… Укротительница львов представление давала… И приперлись в цирк два матроса с «Чапаева», с пьяных глаз не сообразили что к чему, сняли ремни и бросились к укротительнице, спасать ее от хищников, загрызть, мол, хотели они ее. Ну, скрутили матросиков, на губу, скандал – все– таки общественное место, дело дошло до командира Ленинградской военно– морской базы. Тот и врезал матросикам по двадцать суток ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. И такую формулировочку: «За пьянку в городе и драку со львами».
Офицеры шумно расходились. Нет, не зря приходили они в эту каюту, военно– морской мудростью пропитана она. «Драка со львами» – это не намек, это прямое указание: сиди тихо, не обсуждай приказы командования.
Прошло несколько дней, улеглись волнения, и в какой– то день апреля Олег понял, что не такой уж он плохой человек, на линкоре ведь все признают его хорошим. Лейтенанту Манцеву старпом разрешил готовиться к экзаменам на право самостоятельного несения ходовой вахты, а это значит, что он уже «зрелый, опытный» офицер. В штаб пошло представление, третья звездочка скоро появится на погонах. В каюту к нему стал захаживать замполит дивизиона, старший лейтенант Колюшиин, рассказывал о себе, о линкоре, на котором начал служить матросом в предвоенное время.
И пришла уверенность, что ему, Олегу Манцеву, кое– что разрешено сверх разрешенного. И не в том дело, что Милютин или Байков станут чаще увольнять его на берег. Нет. Лейтенант, за стрельбу получивший благодарность командующего флотом, не просто лейтенант и управляющий огнем, не только командир батареи. Над ним простерлось адмиральское благословение. К его словам теперь отнесутся со вниманием, на него ныне не цыкнешь, как на салажонка. Юрии Иванович Милютин такому лейтенанту не воткнет походя пять суток ареста при каюте.
В таком вот размягченном состоянии и дал Олег Манцев 10 апреля опрометчивое обещание стать командиром лучшего подразделения на корабле.
В этот день его вызвали в боевую рубку, к заместителю командира корабля по политчасти капитану 2 ранга Лукьянову. Олег Манцев ужом выскользнул из КДП, скатился по трапам вниз, вошел в полусумрак и духоту боевой рубки.
Придав себе положение «смирно», Лукьянов с легким раздражением сказал, что он недоволен командиром батареи, которая имеет все возможности стать передовым подразделением не только в боевой части. Она обязана быть примером всему линкору. Командир батареи – грамотный специалист и достаточно опытный офицер, что подтверждено последней стрельбой. Личный состав батареи по уровню грамотности превосходит всех, у некоторых матросов есть даже 9 классов образования, батарея сделала определенные сдвиги в боевой подготовке, подчеркнул замполит, но резервы еще не исчерпаны, дисциплина же хромает.
Лукьянов говорил тусклым, ровным голосом. Первые месяцы службы Манцев старался избегать замполита, уклонялся от надоедливых проповедей. Но понял вскоре, поразмыслив, что сухость Лукьянова, чрезвычайно упрощая отношения («Я капитан 2 ранга, ты лейтенант, изволь подчиняться!..»), делает встречи с ним полезными. Надо только говорить с замполитом на его языке.
Колюшин стоял тут же, справа от Лукьянова, в изжеванном кителе, моргал рыжими ресницами, делал страшные глаза, призывая к железному повиновению. И Валерьянов здесь, и комсорг линкора, и командир невдалеке, на ходовом мостике. Все ожидают от Манцева точного и ясного ответа.
– Товарищ капитан 2 ранга! Даю слово офицера и комсомольца, что ко Дню флота 5– я батарея станет лучшим подразделением корабля!
Капитан 2 ранга Лукьянов протянул ему руку. Олег пожал ее.
Все видели, все слышали. И командир слышал. При выходе из рубки Манцев едва не столкнулся с ним. Веселенькое любопытство было в глазах командира линкора, и в любопытстве сквозило уважение к безумному порыву недотепы, и то, что он, Манцев – недотепа, это тоже прочитал Олег в его взгляде.
Именно этот взгляд побудил Олега Манцева дать клятву самому себе: батарея станет лучшей! И пусть на корабле есть офицеры, прославленные газетами и уважаемые матросами. Пусть! Лучшим подразделением линкора будет не дальномерная команда, не котельная группа, не 4– я башня, а 5– я батарея! Она и только она!
Два праздника прошли (23 февраля и 1 Мая), а капитан-лейтенанту Болдыреву Всеволоду Всеволодовичу очередное воинское звание – капитан 3 ранга – так и не было присвоено.
Могла произойти обычная канцелярская путаница. Могли затеряться документы на присвоение. Штаб флота мог попридержать их. чтоб к выгоде своей улучшить или ухудшить какие– нибудь цифры в отчетах.
Но могло случиться и худшее. Капитан 3 ранга – это уже старший офицерский состав. В Москве изучают его прошлое, в котором он, нынешний, выражается. И в прошлое не запрещено вклеивать страницы – как свеженаписанные, так и вроде бы затерявшиеся.
Он вспомнил свою жизнь, анкетную и неанкетную, корабельную и некорабельную, год за годом. Отец, командированный в Среднюю Азию на строительство канала, умер от укуса фаланги, во вредителях не значился, в передовиках не числился. Неуемный темперамент матери бросал ее от одного краскома к другому, пока бабка не забрала внука, отторгнув его от запахов конюшни, от папиросного смрада в комнатах женсовета.
Стоп. Старуха – то ли бестужевка, то ли смолянка – знала французский язык, до последних дней своих боготворила тщедушного старичка, похожего на оперного мсье Трике. Умерла старуха, сгинул и мсье, остался французский язык. Старуха – это от детских впечатлений, взрослым уже, курсантом, Всеволод бабку вспоминал иной – красивой, язвительной женщиной, умеющей жить хорошо, с хохотом. А всего– то – прачка (так уж сложилась судьба), и особое, ей одной понятное наслаждение доставляла карикатура из дореволюционного «Сатирикона», кажется. Бабка надрывалась от смеха, рассматривая двух прачек над корытами с мыльной пеной, пояснение внизу: «Вот стану графиней, буду стирать только на себя!» От злобы на туркменский канал, от ненависти к невестке и обучила она внука языку. И судьба подшутила: в первой анкете Всеволод постеснялся заявить о знании чужого языка, чужой культуры, а там уж, когда анкеты заполнялись по три– четыре в год, противоречить первой было нельзя. Так уж вообще складывалось, что говорить и писать правду о себе, о родителях не представлялось нужным, стало необязательным. Отец? Погиб на строительстве. (Укус фаланги на фоне грандиозных катаклизмов эпохи выглядел бы издевательством.) Мать? Умерла от болезни. (Заражение крови от самодельного аборта к добродетелям не отнесешь.) Бабка? Инфаркт. (Тогда писали: «разрыв сердца».)
До войны все гладко, после нее тоже. Моторист– рулевой на катере, Сталинград, светлые – от пожаров – ночи и дымные дни, медаль, ордена, ранения – бумажечка к бумажечке подшита в личном деле, печати, штампы, подписи, даты. Баку, зачисление в училище, старшина роты – полная ясность, номера и даты приказов подогнаны друг к другу без люфта, как снаряд к нарезам ствола, ни один день его жизни не выпал из поля зрения штабов. И ни одного словечка вредящего – ни в разговорах с однокашниками, ни на собраниях. Не зазывал и не подвывал на разных там массовых мероприятиях, речи только по существу, по делу. В 1947 году – выпуск. Бакинский период жизни можно считать благополучно завершенным. Женщины? И тут полный ажур. Знакомился с теми, кто не испытывал желания показываться на танцульках в училище. Правда, случился один малоприятный эпизод. Девчонку по рекомендации райкома послали обслуживать свиту Багирова. Она рассказывала страшные вещи, пришлось потихоньку отвалить, позабыть девочку, а как хороша была, какая чистота, как страдалось от этой чистоты, потому что не верилось, что может такая голубизна существовать незаплеванной… С той свитой покончено, в центральных газетах еще нет, но уже всполошились многие, бегают по кораблю с «Бакинским рабочим». Ни разу в Баку с той поры не приезжал, адреса своего никому не давал. С лупой рассматривай каждый дециметр бакинских мостовых – все следы его давно затерты. Училищная характеристика – лучше не придумаешь. «Обладает отчетливо выраженными командными качествами…» И ночь помнится, святая для него бакинская ночь.
Все началось в день, который никак не мог предвещать каких– либо изменений или превращений: 1 Мая, праздник из праздников, солнце и зелень юга, уволили после обеда, старший курс в том году на парад не ходил. Все свои, из одного класса. Завидные женихи, последний курс, шли нарасхват, и Женя Боровицын предложил праздник встретить в семье хорошо знакомой девушки, отличной девушки из прекрасной семьи. Папа – механик на промыслах, мама – просто мама, дочь – на первом курсе института, у дочери – подруги, полный комплект. Скромная семья – это сразу выставил условием Женя Боровицын, всех за собой ведя на базар. На скудные курсантские деньги купили мяса для шурпы и бозбаша, долму и мутанджан, оплетенную бутыль с вином несли по очереди, выбирали переулки, в переулках – дворы, чтоб к дому механика подойти, не встретив патрулей. От палашей на левом боку, от темноты в арочных переходах, от игры в таинственность представлялось: мушкетеры с их клятвами, готовящийся набег на охраняемый кардиналом монастырь, женщины, заточенные в нем, ждущие мужчин– избавителей… Монастырь оказался обычным бакинским домом, каких полно в пригородах. Пришли, ввалились, познакомились. Женя Боровицын сильно преувеличивал количество глав романа, закрученного им с дочерью механика, там – после пролога – зияла брешь, которую спешно стали заполнять его друзья. Усердствовал и он, Всеволод Болдырев, уж очень хороша была маленькая хозяйка доброго дома, напоминавшая ему ту, которую не забыл еще. А потом стал передавать другим завоеванные рубежи, он уже тогда был мудрым, уже тогда понимал, что мужская ревность много долговечнее женской. Да и подружки мало чем уступали дочке механика, благоразумно удалившегося. Шашлыки жарились на веранде, нависающей над двориком, где галдели дети, гоняя мяч. Было весело, было много стихов, много музыки, патефонной и пианинной, тревожившей Всеволода. В Баку он часто вспоминал умершую перед войной бабку: если бы у прачки не отобрали пианино, то внук играл бы на нем. Все училищные годы прожил он не в кубрике, а в старшинской комнате, недостаток шумов, в каких– то пределах организму необходимых, возмещался радиопередачами да пластинками. Шопен полюбился, Скрябин, и привычка образовалась – в одиночестве слушать наплывы звуков.
Ранняя ночь была уже во дворе, Всеволод выбрался на веранду покурить, да и сверху откуда– то лилась музыка, профессионально и чисто исполнялась какая– то пьеса Чайковского. Всеволод затаился, чтоб не нарушать собственного одиночества, и – с веранды – увидел в кухне мать механиковой дочки, женщину, которую все они видели не раз в этот вечер, но так и не заметили, настолько была она бесшумна, немногословна н бесплотна. Войдя в кухню, она села. опустив на фартук отяжелевшие от забот руки. Залежи, целые горы немытой посуды ждали ее. Но она сидела и думала. До нее доносилось.то, от чего отключился Всеволод, она слышала шорох павлиньих хвостов, завидные бакинские женихи острили, верещали стихами Блока н Есенина, музицировали, впадали в глубокомысленность, будто окутываясь плащом, или выряжались в простецкие одежонки, подавая себя надежными и свойскими парнями. Она услышала что-то забавное в комнате, усмехнулась, недобро усмехнулась, улыбка осталась на губах, снисходительная, сожалеющая. Эта женщина – начинал понимать Всеволод – как– то по– своему видела все происходящее в доме. Шестеро парней домогались ее дочери, кто-то из них всерьез, кто-то – тренировки ради, совершенствуя способы домогательства. Дочь сделает выбор, дочь может ошибиться, мать ошибки сделать права не имеет, и мать голенькими видела женишков этих, с отрубленными хвостами, без виршей, без поз, она оценивала их применительно не к себе, возможной теще, не к характеру дочери даже, а исходя из потребностей плода, что взбухнет в чреве дочери, вокруг которой и вьются эти шестеро парней в матросских брюках и форменках, около которой трется, возможно, и тот, чье семя вцепится в почву. Что даст этот, самый удачливый, ребенку? Каким голосом запищит дите, из тьмы тысячелетий вырываясь на свет сегодняшнего дня? Каким шагом пойдет оно по земле? Будет ли у него в достатке пища. когда в соске не станет молока? Не будут ли ветром продуваться стены, огораживающие ребенка от безумства непогод? Огонь в жилище засветится или нет? Мужская рука поможет младенцу? Вот о чем думала женщина, вот так рассуждала она, оскорбительно для Всеволода. Он становился всего лишь существом иного пола. Возможным отцом будущего ребенка, не более и не менее. А Блок. Шопен, внешность надменного британца, кортик, что придет на смену палашу, – это не то, из чего шьются пеленки, это каемочка на них.
Подавленный и униженный, пробрался он в прихожую за палашом и мичманкой, не простился, ушел. и спасением от оскорбляющей наготы всего сущего – в него впилась догадка: так есть. так было и так будет! Из века в век плодоносит человеческое древо, и все страсти человеческие произросли из примитивнейшего стремления пить, есть, группироваться в семьи – со все большими удобствами. Людям надо просто жить – из века в век, изо дня в день, и люди так живут, потому что какая– то часть их, меньшая, но лучшая, готова своей жизнью пожертвовать ради таких вот матерей и дочек. Он – мужчина, воин, и чем горше служба, тем счастливее удел мирно живущих граждан… Воин! Мужчина! Офицер!
Слова эти, не раз им повторяемые, помогали служить – честно, грамотно, верно. На линкоре что две звездочки на погонах, что две лычки – служи и служи, поблажек никому. Да еще помощник командира, который его сразу почему– то невзлюбил, а помощник – это расписание вахт и дежурств. «Четыре через четыре!» – определил помощник, и Всеволод ногами своими мог подтвердить свирепость этой формулы: четырехчасовые вахты он отстаивал после четырехчасового отдыха, заполненного бодрствованием, той же службой. И так пять месяцев подряд. Но ни во взгляде Всеволода, ни в походке затравленности не чувствовалось, он проверял себя не перед зеркалом, а способностью безропотно тянуть лямку. Он даже помощника оправдывал: из семидесяти офицеров линкора лишь четверть могла нести вахту на якоре, а на ходу и того меньше, – невелик выбор! И помощник сам – затравленный, в личном деле его, говорят, пометка: выше помощников командиров кораблей 1-го ранга не продвигать! Бедняга погорел еще в военную пору, гонял транспорты из Сан– Франциско во Владивосток, неделями мотался по западному побережью США и где– то что-то совершил; намекали на некоторый американизм в поведении, не отразившийся, правда, на чистоте сине– белого флага. Совершил – а мог и не совершать; вот она, офицерская судьба, вот она, еще одна расплата. Но опять же мог помощник заградительную, пометочку в личном деле зачеркнуть, была у него такая возможность, испытанная дедовским способом – прикосновением брюха к ковру в одном из кабинетов столицы, и возможность эту помощник отверг. Как– то на вахте Болдырев подумал: а что было бы с ним, не оттолкни он в Баку ту льнущую к нему девочку?..
«На тяготы службы не реагирует, в обращении со старшими достоинства не теряет», – такую фразу вписали в его характеристику. Пошел на курсы, окончил, вновь линкор, командование дивизионом. Книги на французском языке – в сейфе, ключ от него постоянно в кармане, вестовой найден идеальный, сплошная таежная дурь, а фамилия – Матушкин – позволяет опускать бранные словечки, они заменены упоминанием вестового.
Нет, к прошлому не придерешься – к такому выводу приходил капитан-лейтенант Болдырев. И обрывал мысли, потому что не хотел думать о настоящем, хотя оно– то, настоящее, никак не могло попасть в личное дело. Как не попала та бакинская ночь, когда поклялся он служить верно, честно и самоотверженно.
Однажды его пробудил сон, сон светлый, потому что в нем было будущее, созданное прошлым, погоны с двумя просветами, папироса, которую только он один, командир корабля, может курить на ходовом мостике… А открыл глаза – все та же каюта, все тот же проклятый вопрос: как жить дальше? Не служить, а – жить?
И не раз его будили такие сны. Не зажигая лампы, он одевался. Пробирался к грот– мачте, переступая через спавших на верхней палубе. Поднимался на мостик, откуда виделись огни упрятанных в бухте кораблей. Два светильника вырывали ют из тьмы, выставляя напоказ, на просмотр плавно закругленный конус кормы, флагшток, стволы орудий 4-й башни, вахтенного офицера, мухой ползавшего по восковой желтизне надраенной палубы.
Этот металлический остров длиною в 186 метров и водоизмещением 30 тысяч тонн был заложен в июне 1909 года, спущен на воду в июне 1911 года, сменил название, вернулся к тому, каким его нарекли, жил, дышал, стрелял, нападал и убегал, сжигал в себе соляр, мазут, порох, прокачивал через себя воду, воздух, механизмами и отлаженной службой пожирая людей, выпрямляя и калеча их судьбы.
Но не этот корабль ломал его судьбу. А то, что лежало в сейфе и было пострашнее книг на французском языке: канцелярская папка с перепискою банно– прачечного треста города Симферополя, случайно попавшая в руки Всеволода Болдырева.
«Случайно ли?» – думал он, стоя на мостике грот– мачты.
Возвращался в каюту, открывал в темноте сейф. нащупывал папку. Уже дважды он пытался бросить ее за борт, утопить, чтоб на дне Северной бухты лежала мина, подведенная под все существование его. Чтоб забылось то, что в папке.
Сейф, куда Болдырев заточил папку, закрывался. Болдырев ложился на койку и засыпал.
3
Переодеваясь к увольнению на берег, Олег всякий раз говорил каюте: – Иду бросаться под танк!
Ночи он проводил на Воронцовой горе, в сухой баньке, куда студентка Соня нанесла подушек из родительского дома. При ветре крышу баньки царапали ветки яблонь. Дверь так скрипела, что могла разбудить родителей. Олег пролезал в окошко и продергивал через него Соню. Она засыпала, а он до утра слушал шелест ветвей, отзванивание склянок в Южной бухте и еле еле слышное шевеление существа, называемого эскадрон. Она была внизу, в Южной бухте, она была за горой, и Северной бухте, она была всюду, и в Соне тоже, в этой курносой и картавящей женщине, полюбившей Олега внезапно и на веки вечные. Все забылось – и шинель, и стыд за стрельбу номер тринадцать, и глупое, невыполнимое обещание сделать батарею лучшей. Все свершится само собою, как эта любовь, как эта банька! Жизнь прекрасна и удивительна! В июле ко Дню ВМФ придет приказ о старшем лейтенанте, он умный, смелый, находчивый, поэтому что-то произойдет еще – и осенью направят его на новый эсминец, помощником, и кто мог подумать, что так великолепно пойдет служба у курсанта Манцева!
Ни вдоха, ни выдоха рядом. Соня спала беззвучно и в момент, когда луна скрылась и оконце стало темным, Олег вдруг оглох и в него вошло чувство времени – застывшей секундой абсолютной тишины, мимо которой промчались куда– то вперед город, линкор, друзья его, оставшиеся живыми после того, как он умер в кромешной тишине и темноте. Это было странно, дико, как если бы на корабле дали ход и нос его стал рассекать волны, а корма продолжала бы держаться за бочку. Олег вскрикнул, стал в испуге целовать Соню, а Соня хрипло сказала, что устала.
Как– то они ужинали в «Приморском», Олег сидел затылком ко входу и вынужден был оглянуться, потому что очень изменилось лицо Сони.
Старший лейтенант, с тральщиков несомненно, физиономия обветренная, походка медвежья… Издали улыбнулся Соне, невнятно и бегло, по Олегу мазнул неразличимым взглядом, подсел к кому– то, чтоб спрятаться за спинами.
Все было написано на честном и страдающем челе Сони. Она сказала плача, что всегда любила только его; Олега, а что было прошлой осенью, так это было прошлой осенью.
– И я тебя люблю, – ласково успокоил ее Олег и добавил, модное словечко: – В таком разрезе.
Он был слишком молод, чтоб ценить такие признания, и Соню забыл до того еще, как простился с нею утром. Уже цвели яблони, несколько шагов – и баньки не видать, Олег перемахнул через забор, отсалютовал танку на постаменте – первому танку, ворвавшемуся в Севастополь, – и невесело подумал: «Того бы, с тральщиков, посадить в танк… Или вместо танка…»
В тех же невеселых думах ожидал он барказ на Угольной пристани. Линкор был рядом, в нескольких кабельтовых, покоился в воде непотопляемым утюгом. Однотипный ему утюг в Кронштадте прозвали «вокзалом» – за трансляцию неимоверной мощности. Про этот же говорили просто: «служу под кривой трубой», имея в виду скошенную первую трубу, след модернизации.
Так что же такое придумать, чтоб батарея вырвалась в передовые?
Манцев еще не вошел в каюту, а старшина батареи мичман Пилипчук доложил: уволенные вчера на берег матросы задержаны комендатурой, комдив приказал разобраться и наказать.
– Три наряда им объявишь вечером… От моего имени.
Можно бы размотать всю катушку, тридцать суток без берега дать. Но нет нужды. И не будет эффекта. На эскадре введено правило: увольнение – мера поощрения. Не уверен в матросе – имеешь право не увольнять его. И этим, побывавшим в комендатуре, что выговор, что замечание, что пять суток ареста, что месяц без берега – все едино, до конца года их фамилии в журнал увольнений не попадут.
Вот и выходи в передовые с такими матросами. Вот и мечтай о помощнике командира на новом эсминце. Так что ж тут придумать?
Три тысячи топоров стучали на Дону, три тысячи плотников, согнанных указом императрицы, заново строили верфи и восстанавливали старые, петровские. В Таврове, Хоперске и Новопавловске рождалась эскадра, и великая нужда заставила Адмиралтейств– коллегию уменьшать осадку кораблей, дабы смогли они по мелководью Дона прорваться к морю.
В лето 1770 года корабли потянулись к югу. Жара вытапливала смолу, чадило прогорклой солониной, пахло пенькой. Слабому течению помогали веслами, иногда налетал ветер, тогда хлопали неумело поставленные паруса. Спешили: Балтийская эскадра уже вошла в Средиземное море, война за Крым была в разгаре. Торопились: линьками обдирали спины ленивых и недовольных. У крепости святого Дмитрия Ростовского кончился волок по обмелевшему Дону, начиналось плавание по большой воде. Морские служители – так называли тогда матросов – перекрестились, поставили орудия на боты и прамы. И – дальше, вперед, к Азову! Туда, где погибли много лет назад петровские корабли.
Голландско– немецкие ругательства уже теснились русской бранью, Россия прорывалась к Черному морю, к Проливам, нарушая европейские равновесия и согласия, делая освоенные земли исконно русскими, и для утверждения власти нужны были только русские люди, русские слова, русские мысли, и лучшие моряки POCCИИ захудалыми родами происходили из краев, где нет ни сосен, прямизной похожих на фоки, ни вод, уходящих за горизонт.
Свершилось! Поднятием флага на «Хотине» была создана эскадра, впоследствии ставшая черноморской, и произошло это в мае 1771 года, и поднял флаг тот, кто вывел Донскую флотилию на морской простор, – вице– адмирал Сенявин Алексей Наумович, первый командующий эскадрой. А где эскадра – там и флот, и первым командующим его стал вице– адмирал Клокачев, самым первым командующим. Последнего не будет!
Сын коллежского регистратора Федор Ушаков, угрюмый человек, отказавшийся от придворной карьеры, моряк скрытный и наблюдательный, всматривался в морских служителей, виденных им в детстве на пашнях без матросской робы, и с радостью находил, что морскому делу научить их можно. Было что-то в укладе характера, в строе жизни тамбовских, олонецких, тверских и воронежских мужиков, что приспосабливало их к морю. «С такими людьми можно не только за свои берега быть спокойным, но и неприятельским берегам беспокойство учинить…» Они лихо лазали по вантам, шили паруса, управляли ими, крепили снасти. Самым трудным оказалось: как отучить их от «мира», от привычки сообща делать все? Внушениями, розгами, кулаками в харю (дворянский сын Федор Ушаков дубиною согревал холодных к учению), мытьем и катаньем, но приручили матроса быть на местах, отведенных ему корабельным расписанием. У орудий, у мачт, в погребах навесили «билеты» с фамилиями морских служителей и проверяли, здесь ли служители. Сотни шкур было спущено, пока не привили начала индивидуальности. Зато в Крымскую войну при обороне Севастополя, как и во всех последующих войнах, матрос, пересаженный в окоп, менее солдата подвержен был панике и позывам к бегству.
Необыкновенная по живучести эскадра. Ее уничтожали и запрещали договорами, с ее кораблей высаживались десанты по всему Средиземноморью, корабли ее бесславно ржавели в Бизерте и героически шли на дно Новороссийской бухты. Берег напирал на нее, окатывая революциями, махновщиной, разрухой, горячкою строительств, эскадра жила – и ничто береговое не было ей чуждо…
Такой представилась Долгушину эскадра, когда где– то за Воронежем показался Дон, излучина его, и серая лента реки поплыла под крылом самолета. Он прильнул к окну, смотрел: да, вот здесь и было положено начало тому, чему он отныне служить будет, отсюда мужики пошли на заброшенные петровские верфи, здесь сто восемьдесят два года назад плыли по Дону корабли и жара стояла такая, что смола вытапливалась из пазов.
А как отказывался, как возражал, не желая служить!.. После академии вызвали в Главное Политуправление, предложили: начальник политотдела эскадры Черноморского флота. Нет, нет и нет, отказывался он. Он катерник, он окончил войну командиром дивизиона, после ранения перевелся в штаб, – это вам понятно? Да, он был заместителем начальника политотдела бригады, по это же – катера! Он же катерник! И сейчас, получив диплом, окончив военно– политическую академию, он все равно остается катерником, он и на катера назначен уже, начальником политотдела бригады ТКА, вся служба его прошла на торпедных катерах – так зачем ему политотдел эскадры, где крейсера и линкоры?
Ему возражали – веско, убедительно. Ну и что – крейсера и линкоры? Зато у него свежие силы, свежий взгляд. Да, у него нет опыта. Но нет у него и груза прошлого.
Уговорили. Согласился. И рад был теперь, когда под крылом самолета петляла река и плыла земля.
Великое и сладкое чувство причастности к земле, по которой ступали сапоги и лапти дедов!.. И благодарность судьбе, скрепившей твою жизнь с жизнью страны, флота, и давно надо было бы прийти этому чувству благодарности, да где уж на войне расслабляться в эмоциях, что-то сопоставлять, вымерять и определять. И пришло оно, и понял он тогда назначение свое человеческое: он, человек, коммунист, капитан 1 ранга Долгушин Иван Данилович, живет для тех, кто потомками олонецких и тверских мужиков прибыл служить на эскадру.
Он любил их за преданность Олонцу,. Калуге, Орлу, Ржеву. Их было тысячи человек – на кораблях эскадры, они служили с охоткою, они оживляли металлические коробки, начиненные оружием и механизмами, они гордились бескозырками с золотым тиснением «Черноморский флот» на развевающихся ленточках, они согласны были в любую секунду прервать сон, еду, мысли, жизнь, чтобы выполнить сигнал или команду. За последние три года политотдел зафиксировал только один (один) случай намеренного, продуманного отказа от службы, но и в этой дикости обвинили не матроса, а офицеров, его начальников.
Но этой людской массе, привязанной к рукояткам, педалям, кнопкам, штурвалам и маховикам, требовался отдых. Тому же самоотверженно служившему матросу хотелось того, чего устав открыто не предусматривал, а обходно и расплывчато сводил в понятие: увольнение на берег. (Для офицеров – съезд на берег.) Матрос, физически и психически здоровый парень, существовавший в однообразном корабельном мирке, нуждался в эмоциональной встряске, как насыщавшей его, так и опустошавшей. Он, получавший сытую норму флотского довольствия, искал то, к чему его звал полнокровный мужской организм. Да – кинотеатры, да – концерты, да – просто гуляние по южному городу, да – экскурсии, но и – женщина. В идеале мыслилось так: напутствуемый добрыми пожеланиями старшин, проверенный офицерами на все виды искушений, матрос, одетый строго по объявленной форме одежды, сходит на берег, дышит береговым воздухом совместно со знакомой девушкой (преимущественно комсомолкой), приглашает знакомую в кино, на стадион, на читательскую конференцию. Время увольнения, однако, подходит к концу, и на пути к кораблю матрос обсуждает с подругою виденный фильм отечественного производства, и после здорового сна в хорошо проветренном кубрике парень в форменке и бескозырке готов продолжать очень нелегкую (чего уж тут скрывать!) службу.
Идеальная картина! Мечта! Такой матрос, так проводящий увольнения был нужен эскадре, эскадра давила на все штабы, и штабы поощряли людей, причастных к созданию идеальной картины на страницах книг и журналов. Охочих к сотворению таких картин было достаточно, в изобилии появлялись романы и повести о флоте и моряках.
Признавался, не получая официального утверждения, и такой вариант: матрос идет к своей знакомой на дом, прихватывая бутылку сухого вина, тесно общается с нею (что с медицинской точки зрения весьма полезно) и смирнехонько возвращается на корабль. Или, пообщавшись, идет со знакомой в театр, обходя патрульную службу. Во многих отношениях этот вариант был предпочтительнее официального.
Настоящие же увольнения, никак не отражаемые повестями и романами, выглядели по– другому. Какая– то часть матросов увольнение проводила по официальным рекомендациям, еще большая часть время на берегу зря не теряла и мгновенно рассасывалась по квартирам, общежитиям или просто кустам… Но в том– то и дело, что дежурные по кораблям, дивизионам и бригадам докладывают штабам не число вернувшихся с увольнения матросов, а фамилии тех, кто задержан комендатурой, опоздал, опаздывает или неизвестно где находится. Не попадают в доклады матросы, просочившиеся сквозь все фильтры и пьяными добравшиеся до кубрика.