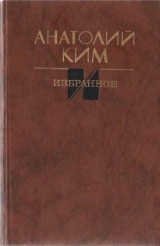
Текст книги "Лотос"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Но я подходил к ней, когда она лежала недвижная, словно колода, я кулаком бил ее по голове и кричал: чтоб ты скорее сдохла, почему ты мучаешь меня и не умираешь…
Но ты четыре года ходил за мной, стирал мое нечистое белье и кормил меня с ложки.
Я подходил к ней и бил ее, плачущую, а она здоровой левой рукой доставала тряпицу из-под подушки и вытирала свои слезы.
А наутро ты бывал нежен со мной и смущен, словно жених, отведавший первых ласк невесты, юной жены, пролившей слезы страха и жертвенную кровь любви. И я знала, какая горечь лежит у тебя на сердце, какая постылая опустошенность и усталость. Но ты варил мне кашу или суп, сажал меня на постели, обложив подушками, ты неуклюжей, топорной рукою совал мне в рот кашу и старался при этом не стукнуть по моим зубам железом ложки, зная, как я не выношу этого.
Но я напивался пьян и, плача, кричал тебе в лицо страшные слова. В нашем доме никого, кроме нас, не было, ты отвечать уже не могла – только мычала жалобно, и я, злобно радуясь безответности твоей, говорил такое, чего ни один человек не должен говорить другим, уж лучше бы ему родиться скотиной бессловесной. Я высовывал язык и дразнил тебя, торжествуя, что никто не видит, с каким наслаждением я истязаю тебя. А после где-нибудь рядом хлюпал носом, жалея не тебя, а себя, свою пропащую жизнь и обвиняя тебя в ОБМАНЕ!
Старик, лучше вспомни перед смертью те жаркие дни июля, когда сахалинское лето, разгораясь, восходит к своему жаркому зениту. Ты переносил меня на руках через высокий порог дома, сажал на песок, и я ползла к морю в одной длинной полотняной рубахе. Сумасшедшее, неистовое солнце источало с неба, с одинокой своей высоты, щедрую любовь на все живое земли и моря. Под этим солнцем огромные сахалинские травы зрели мгновенно, ягоды наливались яркими красками, полнились терпким соком, вдоль берега порхали, приплясывая над шаткими волнами, свадебные пары бабочек, а я ползла по сухому крупному песку к отмели, сверкавшей, как брошенное на землю серебряное блюдо неимоверных размеров. Я ползла и радовалась всему, что попадало мне под руки: старой рыбьей чешуе, сухим палочкам, пригнанным волнами из дальних стран, голубым матовым окатышам стекла, серым обрывкам сетей, крабьей шелухе и маленьким прыгающим букашкам – чилимам.
Какое-то лихорадочное, беспокойное, неуемное счастье светилось на румяном лике июльского солнца, и оно, казалось, готово было наделить этим счастьем все живое на земле и в море. Столь глубок был каждый вздох ветра, несущий в себе благовония тучных трав, которые буйствовали в любовном разгуле, размахивая яркими чепчиками и косынками разноцветья, а голубизна небесных далей так нежно вмывалась в перламутровый тон перистых облаков, что людям, охваченным счастьем жизни, бывало даже тревожно. Они не понимали тайного значения всего этого великолепия, излишества милостей солнца, и мнительно предрекали наступление скорой непогоды, и беспомощно улыбались, стоя на берегу моря. Только два старика, жившие в самом последнем домике поселка у широкой отмели, ничем не тревожились: старики от завтра не могли ждать ничего хорошего, поэтому нечаянное тепло и радость жизни сегодня принимали со смиренной радостью.
Старуха влезала в воду и ворочалась на мели, словно тюлень, блаженно пыхтела и, надолго упокоившись, лежа на боку, торжественным взором уставлялась вдаль, за горизонт моря, словно бы высматривая там появление белопарусных кораблей из стран вечножителей, но на самом деле лишь осторожно прислушиваясь к ощущениям своего тела, к еле заметным сигналам бесчувственной руки и ноги. В блаженном равновесии остатков здоровья и придремавшей болезни она давала полную свободу и выход тем желаниям и надобностям тела, которые были раньше естественны и просты, но с приходом болезни стали мукой, стыдом и постоянным страхом женщины. Теперь же, ворочаясь в теплой соленой воде отмели, она не боялась лишний раз измарать белье.
Старик, ее благодетель и хозяин, в это время копался на своем крохотном огороде позади дома, вторгаясь тяпкой и корявыми темными сильными пальцами в недра грядок, выдирая слабый и нежный молодняк сорных трав, тщательно и тщетно прятавшийся под листьями редиски – второго за лето урожая. Эту редиску, когда придет срок, старик выдернет из земли, свяжет в пучки, обрежет ножницами ботву, сполоснет в воде, и тугие малиново-белые связочки своего товара вынесет на поселковый рынок.
Там он будет стоять, привалясь боком к дощатому прилавку, как бы отвернувшись в сторону от двух-трех выложенных из мешка пучков редиски, и поджидать покупателя, равнодушно поглядывать на него, когда тот подойдет, ничем не отвечать на его торговую горячность и ругань и лишь спокойно произносить, подбирая отвисшую губу и сверкая стальными зубами, одно и то же: «Пятнадцать копеек» или «Двадцать копеек» – в зависимости от того, какую цену на редиску держит рынок в этот день. И пока разъяренный покупатель в праведном гневе на всех торгашей мира будет с ненавистью утыкаться взглядом в бесстрастное костлявое безобразное лицо старика, он сочинит в уме какую-нибудь сказочку на забаву себе или в полудреме увидит что-то вроде грезы или сна. Поверх клокочущей от злости головы покупателя вдруг мелькнут вдали белые плечи жены юности его, некрупное сильное тело молодой женщины, жаждущее бессмертного своего продолжения в малых детях своих…
Но теперь нет ни этого светлого тела, ни детей от милой супруги. Есть продолжение сна, который был когда-то мечтою его молодой жены о счастье. Море, светлое, туманное в своей водной дали, и воздушное небо, плотное в своей выси, и чайки с ленивыми взмахами острых изогнутых крыльев, и три куста крыжовника с рыжими мохнатыми ягодами, старый скомканный ватник рядом с этими кустами, ласковый бред волн за краем отмели, тени от трав на глиняной тропинке, чей-то призывный, звонкий напрасный крик и рыбий хвостик, облепленный мелкими муравьями, и что-то жаркое, влажное, омывающее склоненную голову старика, – все это и есть продолжение сна его молодой жены, но уже без нее самой! Этот сон, говорит старик самому себе, вечен, и мы лишь по частям видим его, и кивает в согласии с самим собою.
Затем он, спохватившись, откладывает крошечную тяпку, встает с корточек; осторожно перенося через грядки кривые жилистые ноги, обутые в рваные кеды, идет к дому, огибает угол его и, вытягиваясь, смотрит поверх палочного забора на отмель. Там пусто и светло над вымытым и насухо вытертым огромным зеркалом. Только чайки беспорядочно мечутся в разные стороны, словно поссорившись между собою и потому старательно избегая друг друга. Старик выходит со двора сквозь широко раскрытую калитку и под некрутым взгорком, на котором стоит его домик, находит уснувшую лицом в землю старуху. Седые, со слабой желтизною пакли, сырые волосы ее струятся по песку, песок облепил всю мокрую рубаху, беспомощные толстые ноги, вяло раскинутые руки…
Лежит огромная кукла, вся из песка, и лишь кое-где сквозь отвалившуюся песчаную корку виднеется нежно-алая, обожженная солнцем кожа. Старик присаживается на корточки, с улыбкой смотрит на спящую, похрапывающую старуху и думает: вот натешилась, как поросенок в теплой луже; вот дитя, у которого ум слабый; и ходить не может, только ползать; вот еще одно несчастье мое; ты рада, женщина, что жива еще, ах, если бы такое жаркое лето продолжалось всегда и неизменно… Жила бы ты, ползала по земле, а я бы кормил тебя. Если бы знать наверняка, что ты не умрешь скоро, а будешь жить, да разве я желал бы твоей смерти? Мне только иногда кажется, что ты давно уже у врат смерти, остается лишь войти туда, назад же дороги нет. Так чего же цепляться за эту треклятую жизнь? Неразумная. Что ты в ней такого хорошего знала, чтобы так желать ее? Иди ТУДА, бедная. К чему терпеть этот позор… быть такой жалкой, о владыка неба! Замучила меня со своим халатом. Пристала однажды ко мне: если умру, ты отдашь, наверное, кому-нибудь мой халат? Не отдавай, мол, носи сам. На что мне твой дырявый халат, сказал, а она – горькими слезами… Пришлось пообещать, что буду сам, дескать, носить его. Не успокоилась, нет же! Надень, мол, сейчас же и носи. И в голос, и слезы градом по толстым щекам. Ах, дурочка! Что оставалось мне делать? Надел поверх рубахи бабий халат, неделю в нем ходил по дому, дрова колол, да в огороде работал в нем…
Однажды выползла из-под буфета тощая мышка. Черная, словно обугленная. Я хотел убить ее веником, а старуха здоровой рукой перехватила веник и, странно взглянув на меня, заплакала. Не убивай, попросила. Это моя мышка. Как твоя? А она: это Катя. Значит, мышку так назвала. Я, дескать, кормлю ее крошками. И подползла к буфету, вынула из кармана халата корку хлеба и, всхлипывая, как обиженное дитя, положила хлеб перед мышкой. И та вправду не испугалась, взяла зубами корочку, утянула ее под буфет, а потом снова высунулась. Так и живет у нас до сих пор эта мышка Катя.
Лицо его было светло, глаза ясны, и улыбка на этом лице хороша. Не знал, что скоро, всего пятнадцать лет спустя, умрет и он в больничном коридоре на глазах у многих пробегающих мимо больных и МЫ пошлем к нему – в недоступный и таинственный простор его бреда, в пучину духа, принимающего последние страсти преображения, – своего гонца с Лотосом Солнца в руке. МЫ не отдадим смерти то, что ей не принадлежит, – добродушную улыбку человека, который однажды смог быть милосердным, хотя никаких веских причин у него не было быть таким.
Снег. О снег! Падает, тает, возносится хлопьями облаков и вновь летит на землю стаями тихих бабочек. Прохладный круговорот снега. Чист белый саван на мертвых телах прошлогодних трав. Прекрасен путник, чьими ногами нарушена божья целина зимнего кладбища. Это он, мой сын! Пришел мой сын наведаться ко мне, океан гремит, шуршит льдами и крошевом ледяного сала – шуги. Следы легли через сугробы голубым ожерельем. Прихотливо изрезаны, узорчаты края каждой ямки следа – как красив путь, по которому сын пришел из жизни к моей смертной вечности, к подземному гробу, к могиле моей!
Я пришел к тебе с Лотосом Солнца в руке, незабвенная моя, неискупленная вина моя, бедная мама, чей последний вздох я принял как залог повинной своей любви. Над твоей могилой промелькнула озабоченная ворона, не знающая о несравненном своем счастье махать крыльями, скользить по воздуху, неведомо ей и то, почему шуга, ледяная кудрявая шуба на тугих волнах, издает такой терпеливый шорох, словно шепот согласия и примирения – мудрых чувств, ведомых снегу и льду, небу и океану, мне и тебе, холодная подземная матерь.
Что мне счастливые птицы всего мира и волны всех океанов, что мне яркие ливни весеннего светопада, в клочья рвущие саван зимнего снега. Сын мой пришел навестить меня – от мира живых протянул ко мне ровный след, бросил на чистые сугробы голубое ожерелье следов своих! Он принес мне апельсиновый Лотос Солнца и положил на снежный холмик, на ослепительно белый сугроб положил золотой плод, словно разъятое сердце свое.
Гремит океан, взламывает крутыми спинами волн булыжный панцирь ледяной шуги. И на высоком берегу моря, на сопке, покрытой глубоким снегом, замерло кладбище, тихий град мертвых. МЫ никуда не ушли, остались на земле, стали белыми, как снега, летающими, как птицы, бегающими, как лисицы, и неумолчными, как океанский прибой.
Я стою на коленях по пояс в снегу у твоей могилы, мать, но в душе моей больше нет скорби. Грудь моя объята снежным холодом, душа согрета светом солнца, она стала ускользающим в блеске простором, океанской слепящей равниной. У горизонта растет туманная завеса, она кое-где размыта потеками синевы, и я знаю, что розовая мгла туманов родственна белизне снегов. За полудиском моря, добела вылощенным ежедневным солнцем, продолжаются и небо, и моя душа, и моя виноватая сыновняя любовь, и мой дальнейший путь по жизни.
Снег, снег! Мягкая, как пух, вода. Пушистая ипостась воды. Я стала снегом, белой как снег, пушистой и невесомой.
Я снегом стала, а потом ручьем, который весело скакал по камешкам и раздувал свой шлейф, с крутой скалы отважно спрыгивая вниз, на каменную тропку к океану.
Ты стала, облаком, подводной тишью океана, струей луны на перекатах речки и звездными крупинками в бездне ночи.
ГЛАВА 3
Созвучен синий цвет небес косматым соснам, растущим на горе снегам – лесным, пространным, горным, – насквозь прохладным; в их глубине стоят недвижно высохшие травы; не виден им сквозь толщу звездочек морозных высокий синий потолок безоблачного неба. И голубой сапфирный грот, где пряталась, дремала куропатка, пещерка снежная вдруг взорвалась, и грохот взрыва, и дым сверкающий, означившись, явили в свет стремительное теплое крылатое виденье, большую каплю жаркой жизни и испуга, а на снегу осталась голубая ямка, дышавшая алмазной пылью. С таким же громким треском из сугроба рвались на волю, в воздух и другие птицы, собратья стаи, зимующей на склонах снежной сопки: ее вершину горную обжили цепкие приземистые сосны. Их крепкие, совсем короткие стволы согнуло ветром, что с незапамятных времен летит с морских просторов; на жилистых, кривых провислых ветках зонтом раскинулась хвоя, и цвет ее, глубокий, плотный, каменный, созвучен синеве небес и цвету моря – громадного и безотрадного в суровом одиночестве своем – и промелькнувшим над вершиной сопки белым птицам.
Лиса, спугнув большую стаю куропаток, металась с тявканьем у снежных ямок, обнюхивая их с голодным вожделеньем, и поднимала злую голову, тоскливо вглядывалась в даль, в пустую голубизну над дальним краем сопки, где реяли, как белые снежинки, прочь улетающие птицы. И рыжая лиса, так чисто, пламенно горевшая на солнце, так беззащитно-ярко видимая издали на белоснежном фоне, была созвучна также синеве небес, как и пещерные щербины в чистом теле снега, откуда вылетели с шумом выстрелов округлые, как ядра, куропатки… И, простирая вверх надломленные руки, стояли под сугробами сухие травы – покинутые жилища жизни, а над головой у них металась, корчилась, томилась рыжая лиса – какая-то одна из Рыжих Лис земли, похожих на огонь, на лист кленовый, опалый, желто-багровый, на яркую зарю в февральское седое утро, на саранку, сахалинскую оранжевую лилию, на Лотос Солнца, сотворенный нами из круглого плода далекой Африки – из апельсина.
Синий цвет созвучен также Солнцу, Огненной Лисе – глядите, как на краю морском, от нас далеком, она свой круглый приподнимает лоб и тут же, бросив алый взгляд на землю, встает по плечи из воды, затем карабкается вверх, хвостом махая, ползет в просветах меж туманных глыб, наваленных вчерашним штормом и ненастьем. (Вчера весь день, боясь спугнуть добычу, лисица пряталась за пеленой белесой мги и дыма; лишь изредка мелькал ее пушистый мех сквозь обычные рваные прорехи.) И вот сегодня тучи унеслись, усталый океан улегся спать – ногами к берегу и головою к горизонту, и ледяные пятки океанские покрыты трещинами и снежным прахом.
Частичка солнца – рыжая лиса бежит голодная по белу снегу, спугнула понапрасну куропаток и думает теперь: два раза за день такого случая не выпадает, нет, придется, видно, сегодня поголодать… Бежит, струится по снегу, и рыжий мех ее сверкает и горит и так созвучен холоду небес и белизне снегов.
И в это зимнее мгновение все завершено Великим Колористом – цвета приведены к созвучной гамме, контрасты тона выверены точным чувством меры, и даже радость белых куропаток, которых не удалось поймать лисе, сопряжена в гармонии единой с голодной злобой и печалью зверя.
Вот тихое кладбище на плавном склоне сопки: кресты и плиты памятников покрыты белопенным, пышным снегом, могильные холмы похожи на тучных сивучей, которые вползли сюда из моря. Безмолвие, печаль, спокойный рокот волн.
Лиса сбежала с сопки по тугому насту, скользя на животе, как на салазках, там, где было очень круто, и вскоре оказалась у могил и побежала по выбоинам спутанных тропинок, среди оград, покрытых шершавым мхом инея. Она пришла на тихое людское городище смерти, чтобы собрать случайную добычу – те приношенья добрых родственников, что остаются на могилах: конфеты, яблоки, печенье, яйца, рисовая каша сладкая – кутья… Лиса заранее, еще до снега, прорыла под оградами иных, особо посещаемых могил едва заметные ходы, чтобы только как-нибудь протиснуться, больших подкопов хитрая не делала, отлично зная, что ревностные родственники мертвых тотчас же их заделают… Проклятые вороны, воробьи и чайки очень часто лишали рыжую обеда, она дралась с воровками, свирепо разгоняла их, но когти и клыки ее бессильны были против быстрых крыльев. На этот раз лиса отправилась к окраине погоста, туда, где похоронен был недавно парень из поселка, разбившийся на собственной машине, которую купили старики любимцу – единственному сыну… Он ехал через мост не очень быстро, курил, окутывая волокнистым дымом румяные, еще так мало бритые тугие щеки, о чем-то думал, впереди внезапно появился мальчик с ранцем за спиною, опаздывающий в школу первоклассник. В смятении думая о том, что скажет он учительнице, школьник плакал на ходу от безысходности такого горя, шмыгал носом и, спотыкаясь, брел через мост, не чуя под собой дороги. Машина на волосок промчалась мимо, свернув направо, и, не сбавляя хода, пробила деревянные перила, повисла в воздухе и рухнула с пятиметровой высоты на занесенный снегом лед… В тот краткий миг, когда, повиснув в воздухе, окруженная взлетевшим снегом, щепками, обломками разрушенных перил, машина стала невесомой, легче пуха, свободной до невероятности парения во сне, водитель привскочил, пытаясь прочь отпрянуть, прочь, назад от края бездны, ударился жестоко головою о верх машины, как о днище бочки, куда его насильно заточили безжалостные слуги жестокого царя, который… Конец сей сказки был досказан тяжким грохотом и треском ломающегося льда, трехдневным воем непогоды, когда могильный ров, пробитый сквозь печаль и снег скорбящими друзьями, доверху занесен был новым наметенным снегом… Его друзья, все эти поселковые лихие парни, опасные и строгие, как рыцари, в делах невнятных чести, никак не в силах были вдруг постичь, что Юрка Путрин… что самый смелый, независимый из них, удачливый во всех делах и самый верный братству… его любила Жанка, он ее любил, она же, сука, на похороны даже не пришла… Они ходили к Юрке ежедневно, по двое-трое, пили водку на снегу, закусывая сыром плавленым и мерзлым хлебом, с недоумением взирая на высокий холм из траурных венков, бумажных, целлофановых цветов, измятых черных лент и неумело плакали, стыдясь друг друга…
Теперь лиса, довольная удачей, рыча, косясь на подлетевшую ворону, бесстыдно чавкала остатками закуски, лежавшими на лоскуте газеты, присыпанной недавним мелким снегом (и оттого ворона с воздуха не видела добычи, прозевала; теперь с напрасной злобой сидела рядом на ограде, раскрыв блестящий, как железный штырь, огромный клюв), лиса поддела край газеты лапой и перевернула, смотря, не завалилось ли чего-нибудь под смятую бумагу. Еды, увы, не оказалось там. Ворона улетела.
Лиса ушла, прочь побрела от вздыбленной могилы, сооруженной на скорую лишь руку и неуютной в своем нелепом пестром хламе траурных венков, цветов из восковой бумаги, – был скучен для лисы бумажный шелестящий дом, шалаш, времянка, поспешное пристанище юнца у края вечности, куда влетел он неожиданно, бездумно, впопыхах… Далекая, далекая от этих скорбных помыслов, лиса приблизилась к другой могиле, богато убранной гранитом черным, с оградой, позлащенной бронзой. Из снега торчали кованые копья, и меж ними виден был лишь белый пухлый несъедобный снег.
И вот она – та неожиданная встреча, которая случается по прихоти искусства, но в мире несвершающихся судеб и надежд людских такого не бывает… (Не встретит больше Юрка Путрин Жанку, и девушка об этом знала и потому напрасно не надеялась и не искала холодящих кровь свиданий на заснеженном погосте, на белой сопке у окияна-моря.) А рыжая лиса опять в тоске голодной, лишь раздраженная кусочком скудным сыра, нырнула в старую нору, подснежный ход, в подкоп, известный только ей, и оказалась за оградой неухоженной могилы с плоским камнем, где, сколько помнила лиса, еды или объедков, даже запаха съестного не бывало; лишь горечь жухлых трав весною, да летом слабый дух цветов несеяных, да зимний запах снега овеивали тихую могилу; здесь днем лиса порою отдыхала, скрываясь в маленькой берлоге под сугробом, здесь прятала добычу, когда в иные времена, под праздники и в дни поминовения мертвых, на кладбище бывало много пищи… Вдруг с ужасом увидела лиса перед собою огромного сидящего в снегу по пояс человека.
Он был в роскошной шубе с длинным, в блестящих искрах, мехом, небрежно, широко распластанной по снегу; сидел он неподвижно, с заиндевелой, белой головой, словно мертвец, морозом превращенный в ледяную глыбу, настолько тихо, потаенно, что лиса заметила его, лишь выйдя из норы и пробежав внутри ограды половину круга (обычно делала она обходной круг на всякий случай, как будто исполняя ритуал врожденной осторожности)… Он сидел, прижавшись в угол ограждения спиною, совсем вблизи от лаза зверя, и поверни лиса, бесшумно проскочив к могиле, направо от себя, не влево, как тотчас бы уткнулась носом прямо в шубу…
Она отпрянула назад, в прыжке слепом наткнулась на ограду, что тихо загудела от удара; она перенеслась, как брошенный над снегом факел, в другую сторону, и вновь раздался в тишине тот звон ограды, странный, печальный, – глухой аккорд железных струн, как будто бы исторгнутый не ужасом и огненным метанием лисицы, а благородным, точным, рассчитанным желаньем музыканта… Лиса не смела подойти к спасительному лазу, предвидя, что человек, сверкающий бесчисленными звездами своей ужасной шубы – огнями смерти на ворсинках меха, – успеет протянуть стремительную руку, ухватит за хвост ее, когда она посмеет, поползет, полезет, задыхаясь, взрывая снег когтями, сквозь узкий лаз…
В глазах ее мелькнули куропатки, такие белые, белейшие на чистом, голубом, прозрачном небе; в душе возникло вдруг отчаяние, такое же бездонное и черное, как те провалы в небе, где даже нет привычных звезд; отчаяние живого существа по поводу того, что оно здесь зачем-то, почему-то, а не там, где счастье, вседоступность, всемогущество, свобода, сверкание белого на голубом, тугие звуки крыльев, которые уносят тебя вдаль, за склон отлогий неба, в его блистающий зенит – туда, где, может быть, нет голода, и страха, и одиночества, и также, может быть, нет смерти, чье смрадное дыхание столь невыносимо… Лиса, мечась и стукаясь лбом о решетку – не странно ли? – с тоской пронзительной, завистливой, прощальной вспоминала куропаток, что с треском, хлопаньем и вихревым смятеньем крыл взлетели утром из-под снега, оставив под собой в сугробе голубые ямки, наполненные вкусным паром своих тел и свежим ароматом снежной пыли. И хищнице хотелось в этот миг чудесным образом постичь преображение – стать частью стаи, клочком летящей белизны ее, стать птицей, питающейся почками, зерном, орехами, несущей яйца и любимой небом, синевою, прозрачным воздухом… любимой белыми снегами, лесом… Белой птицей… Одной из жертв своих, которая, бывало, предсмертно билась, трепеща в ее зубах, и орошала пьяной кровью язык, и губы, и клыки ликующей лисицы.
Лохов испытал уже многое за свою жизнь, и все то значительное, удачливое, что пришло после трудной юности и нелегкого становления художника, далось ему сравнительно легко, без тяжелой борьбы, как бы само собою, когда он, пережив смерть матери, научился относиться к своей жизни со спокойным равнодушием и ничего вроде бы и не желать для себя. Так он думал, вспоминая, что уже много лет его картины на выставках, где он участвует, пользуются успехом, покупаются известными музеями и богатыми коллекционерами. Он много поработал, хорошо, скромно прожил лучшие годы свои, повидал мир – сейчас он возвращался из своего четвертого путешествия в Японию, вез прекрасные подарки своим детям, внукам, двум зятьям и молоденькой невестке, и где-то по воздушным путям международной почтой везли в сторону его дома объемистую, надежно упакованную посылку с его новыми работами, и среди них была небольшая картина темперой: ночная улица японского города, светящиеся в густой, почти багровой мгле сполохи реклам и вывесок, яркие пятна стен и голубой, наискось падающий сверху вниз сноп света, и в этом луче спящие, обняв друг друга, японская женщина с ребенком… В сущности, всего лишь кусок картона, измазанный пятнами краски, но на нем удалось запечатлеть ему свою давнюю юношескую любовь к этой трагической и прекрасной стране. И вовсе не важно было, что его восхищение и любовь выражены настолько условно, что надобно их еще и расшифровать с помощью кода искусства…
Может быть, посылка с картинами пропадет, погибнет во время дорожной катастрофы, не важно это было, важна была сама любовь, которую человек испытывал к таким явлениям Земли и Солнца, как эта островная страна со своей странной судьбой и историей, с трагической отмеченностью – познать апокалипсический ожог ядерного взрыва и постоянно пребывать в тревоге, что огонь гнева земного вырвется из адских жерл, взорвет, как пороховые бочки, все острова и над ними сомкнутся волны океана. Любовь Лохова к Японии, равно как и к другим заморским странам, была сама по себе гораздо сильнее и ярче, чем произведения, которые он создавал, оказываясь в разных диковинных краях. И, сопоставляя подлинное великолепие долины Аосты, гор Киргизии, залива Туфолд-Бей с теми картинами, что были написаны им при посещении этих дивных, как грезы, уголков Земли, Лохов чувствовал вину и стыд за свою известность (понимая, однако, что цель искусства вовсе не в том, чтобы картине стать равнозначной жизни, а в преображении последней с помощью человека, то есть в конечной своей цели искусство сводится к тому, например, чтобы апельсин превратить в Лотос) – преувеличение своего художнического значения он видел в том, что значение-то в первую очередь придавали не его явному, для всех открытому методу, а его колористическому дару, хорошей технике. Он-то считал, что его картины лишь тем и хороши, что на основе любви и готовности умереть в любое утро, полдень или вечер где-нибудь у гремящих струй Кара-Алмы или у залива Туфолд-Бей, на этой простой, радостной готовности его сердца, спокойно внимающего зову смерти и чутко вздрагивающего от каждой крошки счастья, зиждется сложный, и всегда таинственный, и своих конечных возможностей никогда не раскрывающий труд работника преображения. То есть Лохов считал, что картина – и его, и любого живописца – не есть какой-то самодовлеющий, окончательный и неоспоримый результат, как лопнувшая коробочка хлопка или рычащий лев, нет же, она есть сложный, тяжкий окаменевший труд преображения, сиречь видимый след, образ, замершее отражение, яростный ход и гул бесконечно желанного людям таинственного процесса.
Так и теперь, сидя у могилы матери по пояс в белом, запредельно белом снегу, он положил на пушистый снежный холм разъятый апельсиновый Лотос – он делал это теперь всегда в память того первого дара, что был принят умирающей матерью.
И вспоминал, как прошлой ночью бродил по улицам Хакодате, замерз, зашел в какой-то маленький ночной бар, сел к стойке на высокий, обтянутый клетчатой тканью мягкий табурет и заказал чашку кофе. За стойкой, украшенной стеклянными витринами, где, заманчиво разложенные, виднелись разные закуски, сласти, жареные бобы и обыкновенные европейские бутерброды с сыром, хозяйничали две девушки. В длинном узком зале желтый свет был словно притушен, исходя из каких-то потайных глубоких люков на потолке; лишь в самом конце зала возле искусственного камина со светящимся электрическим поленом горели яркие бра. За низенькими, словно детскими столиками сидели всего три человека. Юная парочка: он – с косым черным чубом, без галстука, с поджатой нижней губой; она – некрасивая, унылая, густобровая, с широким бледным носом; сзади них сидел какой-то худощавый, с очень больным, несчастным лицом японец. На высоких тумбах, разделяя тихую парочку и пожилого человека, стояли ряды кактусов в больших глиняных горшках.
Эти вычурные бра, сложные светильники на потолке, кактусы, глянцевитая стойка со сверкающей кофеваркой, блестящие миксеры – какими чужими казались среди всего этого европейского, старательно вылощенного интерьера сами японцы и японки! Две девушки, тихо возившиеся за стойкой, были в каких-то незаметных, очень простых нарядах и причесаны просто, по-домашнему безыскусно. И он, седовласый старый иностранец, пьющий черный кофе и подогретое саке…
Чуть в стороне от его чашек стоял сосуд из декоративной тыквы. Рядом с сосудом возлежал длинноухий рыжий сеттер из фаянса. Непонятно было, зачем поставлены здесь эти странные, не подходящие друг к другу предметы – для украшения стойки или для надобности сервиса… Он долго смотрел на продолговатую, плавно закругленную тыкву и вдруг нашел, что одна из девушек, а именно та – с подобранными к затылку волосами, еще не вполне развившаяся, нежная – была весьма похожа и лицом и телом на эту тыкву: такая же плавная сглаженность форм и глянцевитая нежность выпуклого чистого лба, блеск детских щек…
А теперь, глядя на кучу низких кривых сосен, застывших на вершине каменного гребня, которым увенчивалась макушка пологой и просторной сопки с кладбищем, переводя взгляд на тускло-синие, почти черные дали зимнего моря, за которым в голубом тумане воздуха таилась Япония, и снова оглядывая карликовые вершинные сосенки, обсыпанные белыми хлопьями снега, и звонкую лазурь неба над деревьями, и самоцветную плотность их зеленой хвои, старый художник грезил, сидя перед Лотосом, что он напишет картину, в которой выразит несомненное родство и волнующую тайную связь между этими беспредельными снегами зимы, сумрачным морем, цветом сосновой хвои, лицом той девушки из бара, гладким тыквенным сосудом, внутри которого заключено, возможно, пространство таких же миров, как и наш, белый и синий. Да, существовало родство этих разных явлений, объединенных могучей волею к жизни.
…Как раз в эту минуту раздумья и появилась перед ним лиса. Он не мог представить, откуда, каким образом всего в трех шагах от него возник этот красивый зверь. И оттого что разум никак не справлялся с подобной загадкой, в нем сразу же возникло – вместе с испугом, нет, скорее, с темным безмерным ужасом и одновременно с нарастающей лавиной восторга – предположение чуда, великое долгожданное ликование по поводу того, что мир жизни, который всегда с неизменным постоянством являет нам полное свое бесчудесье, мгновенно разоблачил себя: ЕСТЬ ЧУДО! Оно свершилось на его старых глазах, чтобы доказать истинность человеческого упования в преображение: он в первую минуту решил, что покойная мать превратилась в лисицу! И хотя это было не совсем то, чего пожелал бы он матери в ее смертном перевоплощении, но сын неимоверно обрадовался и ТАКОЙ ВСТРЕЧЕ… Ибо всю свою жизнь после смерти матери он тайно, горько, по-детски тосковал из-за того, что уже никогда, никогда не увидит ее живою, дышащею – теплым воплощением жизни. И только в сновидениях сына мертвая мать оживала: вставала из гроба, воскресала, открывала глаза, протягивала к нему руки, сидела у окна, за которым бушевала гроза, плескался ливень…








