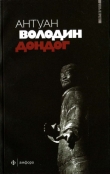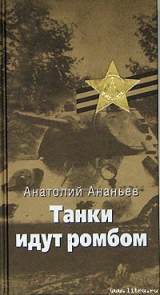
Текст книги "Танки идут ромбом"
Автор книги: Анатолий Ананьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Жив, черт! Жив, черт!
Немцы почти не стреляли, лишь изредка, шурша и шепелявя, проносилась над траншеей мина и шлёпалась где-то позади, между развилкой и берёзовым колком; и наши батареи отвечали вяло – или от усталости, или берегли снаряды; но, вернее всего, тихо было потому, что и по ту, и по эту сторону переднего края, отложив автоматы и винтовки, солдаты горбились над котелками с кашей; и бойцы из роты Володина, ещё по распоряжению младшего сержанта Фролова, взяв термосы, ушли к походной кухне и бродили сейчас по оврагу, среди воронок, разглядывая изуродованные трупы повара и ездового, трупы коней со вспоротыми животами и самое походную кухню, разбитый котёл от которой валялся в одной стороне, а колёса в другой. Бойцы с термосами смотрели на эту обычную картину войны, сожалея о том, что «пропала каша», а в это время младший сержант Фролов, освободившись наконец из объятий лейтенанта, предупредительно говорил ему, что притихли немцы неспроста, что надо ждать новой атаки, а людей в роте мало, и патронов мало, и связи с командным пунктом батальона нет.
– А на линию вышли?
– Давно.
– Тогда почему?…
– Провод изорвало в клочья, концов не найдёшь!
– Есть запасная катушка.
– Тоже богу душу отдала…
Володин наклонил голову и потёр ладонью лоб; с минуту молча смотрел себе под ноги, обдумывая решение, потом все так же негромко, но уже иным, жёстким тоном произнёс:
– Возьмите людей, Фролов, и ступайте за патронами.
Фролов ушёл, вслед за ним покинул командный пункт и Володин. По ходу сообщения, по которому утром бежал к пулемётным гнёздам, выполняя приказание капитана Пашенцева, – по тому же ходу сообщения, теперь почти совсем завалившемуся, он шёл к траншее; как и младший сержант Фролов, он был возбуждён и, несмотря на усталость и головную боль, ни на минуту не затихавшую, несмотря на то что все ещё ныло и подёргивалось контуженое плечо, чувствовал необычный прилив сил – и оттого, что был сейчас среди своих, в роте, а бой ещё не кончился, немцы ещё пойдут в атаку, и ему, Володину, будет где развернуться, отплатить за свои предыдущие неудачи; и ещё оттого, что он теперь уже не командир взвода, а командир роты и идёт осматривать позиции, что так же, как о Пашенцеве, теперь о нем будут говорить солдаты: «Наш ротный!» Он не думал о том, справится или не справится с этой новой должностью, какие трудности ожидают его, потому что не знал и не мог представить себе эти трудности, – он брался за дело с лёгким сердцем, со всей юношеской решимостью и даже немного гордился собой в эту минуту. Может быть, подполковник Табола прав – для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки? Володин вглядывался в знакомые солдатские лица. Он прошёл мимо бронебойщиков Волкова и Щеголева, которые сосредоточенно считали засечки на глинистой стенке траншеи, считали, сколько было удачных и неудачных попаданий; остановился и поговорил с Белошеевым, который будто нарочно сгрёб к ногам горку матово-жёлтых автоматных гильз; прислушался к пулемётчику Сафонову, который, покачивая головой, то и дело с ухмылкой произносил: «Хоть один, да влип! Хоть один, да втюрился!» – кивая на немецкий танк, попавший в танколовушку; а за Сафоновым, дальше по траншее, в окружении солдат сидел Чебурашкин, он только что лазил осматривать тот самый попавший в ловушку фашистский танк и теперь, вернувшись, показывал добытые «трофеи» – открытии с изображением голых женщин, и Володин ещё издали услышал шумные голоса:
– И стоило лазить за этой пакостью?
– А ты не кори мальца, эт-то тоже агитация.
– Ну и фриц, вот стервец, губа не дура…
– Кабы б не развешал вокруг ся бабьих сисек, тады б нам труба.
Володин подошёл ближе:
– Что это?
– Шлюхи фашистские…
Белое женское тело, чёрные распущенные волосы… Открыток было много. Кто-то посоветовал немедленно уничтожить их, чтобы и духу не было; кто-то шутливо предложил Чебурашкину оставить этих «упитанных постельных русалок» на память, на что боец обидчиво ответил: «Сам оставь!» – покраснел до ушей, но открытку все же не выпустил из рук; кто-то зло заметил: «Каждому по одной – на всю роту!» – и ехидно засмеялся; а Володин, хотя ему тоже хотелось просмотреть все эти поблёскивающие глянцем открытки, хотя он и с улыбкой разглядывал первую, – он приказал собрать «немецких шлюх» и вышвырнуть их за бруствер. Это был его первый приказ по роте, и Володин произнёс его сухо, сдержанно, как обычно произносил капитан Пашенцев, и потом, уже не оборачиваясь, пошёл вперёд по траншее. Ещё больше, чем младший сержант Фролов, он хотел быть похожим на капитана, и не только внешне, разговором и осанкой, но и обладать той чуткостью, тем непосредственным ощущением боевой обстановки, способностью угадывать и в нужный момент подавать нужную команду, той самой способностью, которая всегда вызывала восхищение и которая как раз и отличала Пашенцева от других командиров. Володин то и дело останавливался, наваливался грудью на бруствер и прикладывал к глазам бинокль; он смотрел так часто не потому, что это было нужно, что немцы могли незаметно подкрасться к траншее и затем неожиданно атаковать, – вся местность от бруствера до гречишного поля, и само гречишное поле, и дальше, до лесной опушки, все было залито ярким солнцем, и, кроме жёлтых воронок, чёрных обгорелых остовов танков и тягачей, кроме маленьких, сизых, как пятна, трупов автоматчиков, ничего не было видно, никакого движения, – он смотрел так часто потому, что хотел именно ощутить обстановку. Позднее Володин с улыбкой будет вспоминать об этом. Он научится и ощущать, и находить нужные команды, все это придёт, и он будет так же легко и умело командовать ротой, как читать боевую карту, и все же первый день Курской битвы, день боевого крещения, ярче всех сохранится в молодой памяти Володина. Когда он, спустя много лет после войны, снова заедет в Соломки, придёт на свекловичное поле и, остановившись среди грядок зеленой ботвы, мысленно прочертит линию от берёзового колка до стадиона, где проходила траншея, среди прочих воспоминаний отчётливо представит себе и эту картину, как шёл по траншее, неопытный, смешной, с одним только желанием совершить подвиг, как отдал первую команду по роте: «Вышвырнуть „шлюх“ за бруствер!» Но солдаты тогда не выполнили приказание, открытки растеклись по траншее, и в красноармейских книжках, в документах, которые приносили Володину и которые он сам забирал у убитых в тот день, попадались и эти омерзительные снимки…
Володин шёл по траншее, то и дело останавливаясь и направляя бинокль в сторону белгородских высот; больше, чем кто-либо, он был насторожён и готов к бою, и все же когда кто-то из солдат зычным голосом крикнул: «Воздух!» – Володин откачнулся к стене, будто вражеский самолёт уже шёл в пике и уже прижимающим, шепелявым тоном запела над головой бомба.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
С того часа, как Пашенцев принял батальон, ещё ни минуты он не был свободен; и обедать сел не потому, что ощущал голод, – просто бывший ординарец майора Гривы принёс на командный пункт хлеб и котелок с дымящейся кашей и поставил все это перед капитаном; но и обедая, Пашенцев то и дело оборачивался и спрашивал: не восстановлена ли связь с третьей ротой? Он даже подозвал старшину-связиста и послал его самого на линию. Но чаще всего Пашенцев смотрел на близорукого сутуловатого лейтенанта, бывшего сельского учителя естествознания, который старательно вписывал в лежавшие перед ним красноармейские книжки одну и ту же фразу из трех слов: «Погиб смертью храбрых!» – потом крестом перечёркивал фотографии, ставил число, месяц и свою фамилию внизу, – смотрел Пашенцев с нетерпением и наконец, не дождавшись, пока тот закончит, строго спросил:
– Много ещё?
– С десяток.
– Поторопитесь, лейтенант, есть важное задание.
– Хорошо, хорошо, – совсем не по-военному, а так, как сотни раз, наверное, отвечал своему директору школы, выслушивая поручения, – совсем не по-военному ответил близорукий лейтенант, понимающе кивнул и опять, склонившись, – очки он так и не нашёл тогда – принялся вписывать все ту же фразу в красноармейские книжки, теперь будто проворнее, но на самом деле, как и прежде, с тем же фанатическим старанием выводя буквы: «…смертью храбрых!»
– Кому нужна эта каллиграфия!
Но Пашенцев не мог сердиться на этого человека, которому – прикажи сейчас пойти и убить Гитлера, и он встанет и пойдёт, хотя до Берлина тысячи вёрст, пойдёт, не спросив дороги, не посоветовавшись, как лучше выполнить задание и можно ли выполнить вообще, или оно совершенно бессмысленное и невыполнимое; пойдёт, потому что поверит – так надо, раз приказывает старшее начальство. Подумал Пашенцев об этом не осуждая, а удивляясь; то, что случилось час назад, дало ему повод так подумать; капитан улыбнулся, вспомнив, как час назад этот близорукий сутуловатый лейтенант водил в атаку бойцов резервной группы. А случилось вот что: к стадиону, где стояла противотанковая батарея, прорвались немецкие автоматчики, они обстреляли артиллеристов и, рассредоточившись, стали заходить в тыл первой роте. Пашенцев приказал лейтенанту поднять только что сформированную из тыловиков подвижную резервную группу, незаметно провести её в тени изб и плетней к стадиону и атаковать противника. Лейтенант выполнил задание, немцы были отбиты, и даже захвачен пленный – раненый унтер-офицер, которого лейтенант сам принёс на спине в окопы, на командный пункт; но притащил он уже мёртвого немца и потом обливал водой, чтобы привести в сознание и допросить… Унтер лежал как раз на том месте, где теперь сидел лейтенант и делал записи в красноармейские книжки; на гимнастёрке, обтягивающей худую и сутулую спину лейтенанта, виднелись расплывшиеся чёрные пятна уже успевшей подсохнуть чужой крови.
Связи с третьей ротой все ещё не было, и Пашенцев с заметным раздражением отодвинул котелок, уже опорожнённый, бросил в него ложку и, хмурясь, подошёл к связисту:
– Не отвечает?
– Нет.
Теперь ему были одинаково видны и согнутая спина связиста, который то и дело уже безнадёжным тоном выкрикивал в трубку позывные, и сутулая спина лейтенанта, который либо солгал, что у него осталось всего «с десяток» красноармейских книжек, либо просто затягивал работу; и связист, и лейтенант – оба вызывали досаду, и капитан, чтобы сохранить спокойствие, прислонился к брустверу и принялся в бинокль разглядывать вражеские позиции. Ни за гречишным полем, ни на лесной опушке, откуда уже трижды выползал чёрный танковый ромб, не было видно противника. Именно этим затишьем Пашенцев и хотел воспользоваться, чтобы успеть сделать кое-какие приготовления к отражению новой атаки. Особенно беспокоила третья рота, его рота, где не осталось в живых ни одного офицера, а младший сержант Фролов хотя и расторопный, хотя и есть в нем командирское чутьё, но все же он только младший сержант и в бою может не все учесть и растеряться; Пашенцев не знал, что в траншею вернулся лейтенант Володин и сейчас, как раз в этот самый момент, осматривает позиции, что вопрос с третьей ротой уже решён и надо думать о другом, – он опять, в который раз в эти полчаса, принялся мысленно перебирать фамилии офицеров батальона, кого можно было направить в третью; близорукий сутуловатый лейтенант казался самой подходящей кандидатурой, с ним капитан и хотел поговорить и потому снова взглянул на сгорбленную спину лейтенанта, на расплывшиеся пятна крови по гимнастёрке, и подумал: «Странный человек!» Странным казалось и то, как лейтенант, не пригибаясь под пулями и осколками, повёл бойцов в атаку, и то, как он панически бежал по огородам, спасаясь от вражеского танка; и бесстрашие, потому что он совершенно спокойно, будто сделал обычное дело, докладывал о своей удавшейся атаке, и трусость, потому что с тем же спокойствием и без смущения, будто в этом действительно не было ничего предосудительного, говорил о паническом бегстве; он больше испугался, когда вдруг обнаружил, что унтер мёртв, – Пашенцев вспомнил, какой виновато-растерянный и испуганный вид был в ту секунду у лейтенанта. «Службист, исполнитель чужой воли, и нисколько самостоятельности. Впрочем, какая тут к черту самостоятельность, все мы – только исполнители чужой воли, всем нам с детства, со школьной скамьи преподносили только готовые, завёрнутые в пергамент истины и не научили думать; может быть, эта война научит размышлять?» Однако как ни старался Пашенцев хотя бы перед самим собой оправдать поступки лейтенанта, именно безынициативность бывшего сельского учителя больше всего и настораживала Пашенцева; он был уверен, что, если бы майор Грива приказал подбить танк, лейтенант не пустился бы в паническое бегство, а с поднятой в руке гранатой ринулся на вражескую железную махину (граната, кстати, висела у него на поясе), не задумываясь над тем, что может погибнуть, а помня только одно, что нужно выполнять приказ, – Пашенцев был почти уверен, что это так, и мысленно прикидывал, насколько это хорошо и насколько плохо. «Инициатива придёт, ничего, и думать научится, когда своя вошь укусит», – он все ещё смотрел на сгорбленную спину лейтенанта и расплывшиеся пятна по гимнастёрке, но взгляд был спокоен и мысли текли ровно, потому что то, что тревожило его все эти последние полчаса, теперь объяснилось одной фразой: «Научится, когда своя вошь укусит!» Он ещё подумал, что близорукий лейтенант, переписавший сотни бумаг в штабе, сам, наверное, рвётся на строевую должность, потому что, как полагал Пашенцев, каждый офицер мечтает об этом, – сам, наверное, рвался и сейчас должен обрадоваться своему назначению. «Впрочем, это мы сейчас увидим!» Но увидеть не удалось, на командный пункт пришёл Фролов; ещё издали Пашенцев услышал бас младшего сержанта: «Капитан здесь?» – и Пашенцев сразу узнал этот голос.
– Зачем пришёл Фролов?
– За патронами, товарищ капитан.
– А люди, рота?
– Там лейтенант Володин, – возразил младший сержант, для которого это давно уже не было новостью.
– Володин?!
– Да. Не ранен, не контужен. Говорит, только угорел под танком.
– Он уже принял роту?
– Да.
– Сколько человек в роте?
– Шестьдесят два.
– Пулемётов?
– Два разбито, остальные все целы.
– Хорошо, Фролов, идите, получайте патроны. – Пашенцеву хотелось поподробнее расспросить о Володине, но он сдержался; он всегда считал Володина смелым командиром и теперь был доволен, что не ошибся в человеке; немцы все ещё не стреляли, все ещё длилось затишье между атаками, и Пашенцев решил, что успеет сам сходить в расположение третьей роты, посмотрит позиции, поговорит с Володиным и пожмёт ему руку.
Когда близорукий сутуловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, подошёл и доложил, что работу закончил и готов выслушать новое задание, Пашенцев взглянул ему в глаза и негромко проговорил:
– Задания пока не будет.
– Тогда разрешите, я схожу к своим. – Лейтенант назвал «своими» тех самых бойцов из резервной подвижной группы, которых водил в атаку. – Они на запасной траншее, помните, что тянется от стадиона к низам огородов? Это как раз на стыке рот. Её завалило, так я… я приказал расчистить её, – уже смущённо докончил лейтенант.
– Идите.
Только когда сутулая спина лейтенанта скрылась за поворотом хода сообщения, Пашенцев подумал: «А ведь это инициатива!» – и улыбнулся этой запаздало пришедшей мысли. Все пока складывалось для него хорошо: и то, что Володин вернулся в роту – хороший признак, в этом, конечно, сказалось его, капитана Пашенцева, воспитание; и то, что он, так же, как и в Володине, не ошибся в близоруком сутуловатом лейтенанте, что лейтенант оказался гораздо лучше, чем о нем думал Пашенцев; и выигранный первый бой, когда он ещё командовал ротой, и этот второй, тоже выигранный, когда он уже принял батальон, и уверенность в том, что будут отбиты следующая и ещё следующая атаки, потому что есть патроны, есть пулемёты и солдаты обозлены и решительны; но главное, что приятно волновало капитана, – недавний приезд члена Военного совета фронта в Соломки. Конечно, Пашенцев был далёк от мысли, что генерал приезжал в село только затем, чтобы поздравить его с наградой, но именно это радовало и поднимало настроение. Значит, заметили, значит, удастся наконец восстановить своё доброе имя, командира, а заодно и звание полковника, и, может быть, снова получить полк? Хотя он, как ему казалось, давно примирился со своей участью, но в душе всегда теплилась надежда на лучший исход, и вот теперь выпадал случай одним разом смыть, стряхнуть с себя совершенно незаслуженное, как он считал, грязное пятно. Все, что он с этой минуты делал, – он делал с особым вдохновением и надеждой, но внешне по-прежнему оставался спокойным, холодно-спокойным, и никто, даже Табола, когда они встретились на командном пункте артиллерийского полка, возле развалин двухэтажной кирпичной школы, не заметил ни в жестах, ни в лице капитана ни тени волнения.
Подполковник Табола между тем тоже думал о недавней встрече с членом Военного совета фронта. Его не удивляло, что генерал так рискованно приехал сюда, на передний край, едва лишь затихла артиллерийская канонада, – за войну приходилось видеть разных генералов, и таких, которые относили свои командные пункты за семь вёрст от окопов, и таких, которые и в стрелковой? ячейке, рядом с солдатом, чувствовали себя так же отлично, как в блиндаже под накатами брёвен; ничего необычного не было и в том, что генерал лично хотел увидеть Пашенцева, увидел, пожал руку и сказал, что представит к награде, что капитан, вернее, уже может считать, что на его груди висит орден Александра Невского, – ничего необычного не было и в этом, потому что Табола помнил такой случай, когда командир какой-то стрелковой дивизии на глазах у всех снял со своей груди орден и приколол его к гимнастёрке отличившегося бойца, и это в сорок первом, когда отступали все и повсюду и строем, и толпами, и поодиночке, когда ещё и в помине не было ни битвы под Москвой, ни сражения на Волге и победный блеск серии зелёных ракет под Калачом, где замкнулись гигантские клещи двух фронтов, ещё даже и в грёзах не снился ни командующим, ни солдатам; недолго размышлял Табола и над тем, что рассказал член Военного совета о событиях на других участках фронта: туго приходится, всюду танки, танки, танки подразделения с трудом удерживают оборону, так оно и здесь, в Соломках, не легче, здесь тоже танки, танки, танки, а до вечера ещё далеко, ещё кто знает, как может обернуться дело; и сообщение генерала, что на северном выступе Курской дуги, в районе Орла, немцы в это утро тоже перешли в наступление, – и это не было большой новостью, потому что наступления ждали с двух сторон, с севера и юга, к нему готовились, а важным было другое, что так же, как и здесь, на Белгородском направлении, Шестая гвардейская, так же стойко отбивает натиск врага на Орловском направлении Тринадцатая армия, а на участках дивизий полковника Джанджгавы и генерала Баринова, где атака следует за атакой, где немцы наносят основной удар, солдаты не отступили ни на один метр, – это было главным и важным в рассказе, и все же подполковник Табола, вспоминая сейчас о встрече с членом Военного совета, думал совершенно о другом. Приезд генерала напомнил ему об иных боях – сорок первый год, отступление из-под Киева; тогда штаб Юго-Западного фронта, которым командовал генерал-полковник Кирпонос, находился в Прилуках, и Табола, артиллерийский капитан из командирского резерва фронта, был прикомандирован к штабу (дивизионы расформировывались, не хватало орудий), дежурил в приёмной командующего; вспомнился именно этот сентябрьский день, когда он дежурил и когда неожиданно в приёмной появился начальник оперативного управления фронта генерал Баграмян, тот самый генерал, с которым Табола уже спустя несколько дней пробивался из окружения к Гадячу. Вся трагедия четырех армий – Двадцать пер-вой, Пятой, Тридцать седьмой, Двадцать шестой, – попавших в окружение на Киевском плацдарме, произошла на глазах или почти на глазах у Таболы: века не стирают позора нации; все, что он увидел потом: отступающие солдатские толпы, обугленные железнодорожные составы, колонны подорванных грузовиков, их подрывали потому, что не было горючего, людские трупы, выброшенные волнами на отмели ниже переправ, – в тот день дежурства как бы приподнялась завеса над этими горькими картинами первых месяцев войны; не все наши поражения происходили только оттого, что немцы были сильнее нас; в приёмной ещё держалась известковая пыль, а на полу валялись выбитые взрывной волной стекла, и они хрустнули под сапогами вошедшего генерала Баграмяна; это хорошо запомнилось – и хруст, и запылённый плащ, и жёлтый блеск пуговиц на кителе; Табола прошёл к командующему, чтобы доложить о прибытии начальника оперативного управления, но Баграмян почти следом за ним открыл дверь; Табола слышал начало разговора двух генералов:
«Привёз приказ».
«Отлично. Давай…»
«Устный. Военный совет направления предлагает нам оставить Киев и отвести войска на рубеж реки Псел, пока это ещё возможно, пока немцы не замкнули кольцо. Отвод начать сегодня же ночью».
«А как думает командующий направлением?»
«Отводить!»
«Но у меня есть другой приказ – Ставки Верховного Главнокомандования. Я только вчера лично разговаривал с Верховным».
Кольцо замкнулось, войска попали в окружение; их никогда не забыть, ужасы отступления, кровавые картины переправ; кому-то суждено было прорваться и выйти к своим, кому-то мучиться в фашистских концентрационных лагерях смерти… Спустя семнадцать лет после войны генерал Табола, седой генерал в отставке, взявшийся изучать историю, размышляя о Киевском сражении, проникнется ещё большей ненавистью и презрением ко всему нерешительному, трусливому. Но до того как Табола, отставной генерал, примется изучать историю, заполнит первый листок дневника, ещё далеко, ещё никто не знает, чем закончится Курская битва, ещё идёт только первый день этой битвы, и он, артиллерийский подполковник, стоит на наблюдательном пункте, возле развалин двухэтажной кирпичной школы, курит трубку, смотрит на капитана Пашенцева – странно знакомое лицо у этого капитана! – и думает о Прилуках, о приёмной командующего, где пахло известковой пылью и на полу валялись выбитые взрывной волной оконные стекла…
– Вы знакомы с генералом?
– С каким? – удивлённо переспросил Табола.
– Который сегодня приезжал к нам.
– Да, знаком. Я знаю его ещё по сорок первому, когда он был членом Военного совета Юго-Западного направления…
Табола снова набил трубку и раскурил. Он не стал рассказывать то, о чем думал и вспоминал; гибель четырех армий и гибель командующего (под хутором Дрюковщина Кирпоноса тяжело ранило) – все это было слишком большой болью, чтобы вот так, двумя – четырьмя словами, высказать её.
Но Пашенцеву непременно хотелось поговорить о приезжавшем в Соломки генерале, и потому он снова спросил:
– Как вы думаете, проскочили «виллисы» или нет? Огонь был плотный.
– Да, стреляли густо.
– По шоссе, по шоссе, по развилке…
– Думаю, проскочили все же. – Табола сказал неуверенно, но он точно знал, что «виллисы» проскочили; он разговаривал по телефону с командиром четвёртой батареи, стоявшей у развилки, и ещё посылал солдата на шоссе, который, вернувшись, доложил, что ни на полотне дороги, ни на обочине разбитых «виллисов» не обнаружено. – Думаю, проскочили… Не беспокойтесь, капитан, генерал сдержит слово, награда вам обеспечена.
Совсем не о награде думал Пашенцев, и эти слова подполковника были оскорбительными, но он промолчал; с тех пор как он побывал в окружении и лишился звания полковника, он привык молча переносить обиды; он был уверен, что Табола и тот заросший артиллерийский капитан под Малыми Ровеньками, на Барвенковском, – одно и то же лицо, и намеревался поговорить об этом, потому что генерал, конечно, хотя и заметил его, капитана Пашенцева, хотя и заглянет в личное дело, когда будет составлять наградную, все же неплохо, если кто-то третий подтвердит, какая сложная обстановка была тогда под Малыми Ровеньками, скажет и о приказе командующего Пятьдесят шестой армией генерала Подласа, – Пашенцев собрался поговорить обо всем этом, но разговора явно не получилось, и он с сожалением подумал, что напрасно завернул сюда, на наблюдательный пункт, что лучше бы прошёл мимо и уже был бы теперь на позициях третьей роты и пожимал руку Володину. Он решил встать и уйти, и только одно удерживало его – надо подкрепить левый фланг обороны, и, может быть, подполковник согласится выдвинуть в берёзовый колок взамен подбитых новые два орудия? И ещё нужно было согласовать кое-какие совместные действия, потому что батальон ослаблен, роты понесли большие потери, а сдать Соломки врагу и открыть его танкам выход к шоссе – это все равно что допустить прорыв обороны фронта. Но вместе с тем Пашенцева не покидала мысль, что ещё может подвернуться случай вспомнить о Барвенковском сражении; он словно чувствовал, что если не поговорит с подполковником сегодня, сейчас, то навсегда потеряет эту возможность, и потребуется много усилий, чтобы восстановиться в звании, в партии и снова получить под начало стрелковый полк. Ведь не он в конце концов виноват в том, что разыгралось тогда на Барвенковском плацдарме.
Едва Пашенцев начал говорить о левом фланге, о переброске орудий в берёзовый колок, как над Соломками появились немецкие бомбардировщики, и Табола предложил спуститься в укрытие – открытый в развалинах кирпичной школы и оборудованный под блиндаж подвал – и переждать там налёт.
Когда вошли, подполковник обернулся и сказал: – Не в пять накатов, не как у вашего майора, но, я думаю, мы не побежим отсюда, а?
В его зажатой ладони дымила трубка; на лице, обращённом к двери, к свету, Пашенцев заметил хорошо знакомую пренебрежительную усмешку. Но Табола, казалось, и не пытался скрывать своего пренебрежения, он ещё с минуту стоял так, лицом к двери, выжидательно оглядывая капитана, что тот ответит; он все ещё не мог забыть, как майор Грива, толстый, в белой нательной рубашке, бежал по огородам среди грядок зеленой капустной ботвы, и это паническое бегство, и трупы-калачики артиллеристов на площадке, артиллеристов, которые выкатывали орудие, чтобы спасти майора, и само орудие, разбитое, исковерканное, с отсечённым колесом и задранным к небу жерлом, вспомнившиеся теперь, вызвали новую волну негодования; трусость всегда оплачивается чужой смертью, а на войне – десятками, сотнями смертей; Табола не мог равнодушно смотреть на Пашенцева уже потому, что тот служил под командой майора, уже одно это раздражало артиллерийского подполковника; но была ещё одна причина, отчего он сейчас с неприкрытой неприязнью и насмешкой обратился к капитану, – он решил, что только боязнь потерять награду привела Пашенцева сюда, на наблюдательный пункт, иначе чем объяснить такое настойчивое желание поговорить о генерале? «И здесь, на войне, – шкурничество!» Теперь и смелость – контратака с восемнадцатью смельчаками – представлялась подполковнику по-иному, и он уже не верил в честность и искренность капитана; он даже не подумал, что может ошибиться, и не хотел вдаваться в подробности; вполуоборот смотрел он на Пашенцева и ожидал, что тот ответит.
Пашенцев едва переступил порог и стоял в тени, и только уши его, тоже побагровевшие, как и лицо, были освещены проникавшим в дверь неярким дневным светом; он сдержался и на этот раз, хотя стоило ему больших усилий, и лишь потому, что от него ждали ответа, негромко проговорил:
– Плохо воспитали.
– Воспитали… – повторил Табола и снова уже мысленно, но с большей усмешкой: «Плохо воспитали!…» Потом ещё раз повторил это слово, тоже мысленно, но с гневом; прежде чем начать деловой разговор с капитаном, он несколько раз прошёлся из угла в угол сырого, полутёмного, оборудованного под блиндаж старого школьного подвала.
О ней говорили разное: будто бы, когда ей было четырнадцать лет, она родила ребёнка, но никто ничего не знал, жив ли этот ребёнок и где он сейчас или умер; будто бы она с тех пор, с четырнадцати лет, с кем только не гуляла: когда ещё в Воеводской тюрьме были каторжане – с каторжанами, потом с надзирателями, потом с поселенцами; а когда однажды «Святая Мария», переименованная в «Красный трудовик», привезла в порт Дуэ не арестантов, а добровольцев, когда эти добровольцы разбили лагерь в Воеводской расщелине, перебралась в лагерь к лесорубам и теперь, как говорил старый поселенец из каторжан Карл Карлов, совращала молодых парней. О ней ходили разные слухи, даже такие невероятные, будто она на спор в одну ночь переспала с шестерыми надзирателями и выспорила золотой крестик, около четверти века болтавшийся на жирной надзирательской шее; этот крестик она всегда носила с собой, и, когда Табола впервые встретил её одну в лесу, у ручья, у огромного серого валуна, когда-то обожествлённого гиляками, а затем испещрённого именами арестантов (на валуне, между прочим, было высечено и её имя – Мария), когда впервые близко увидел её, полуобнажённую, в чёрных трусах и чёрном бюстгальтере, сидевшую на валуне и загоравшую под скудным сахалинским солнцем, – на груди её переливался искорками золотой крестик. Память бережно хранит события тех лет; в памяти они даже ярче, потому что из отдаления годов все прошлое окрашивается в романтические тона. Серый валун, белые ноги, спущенные к воде, тощая сахалинская лиственница, одна шагнувшая из леса на поляну, трава под ней тоже тощая и редкая, ещё никем не примятая, где потом Табола проведёт столько ночей с ней, Марией, будет целовать, обнимать её податливое тело, забыв обо всем, что говорили про неё, не чувствуя ревности, лишь утоляя пробудившуюся мужскую страсть; будет гладить её волосы, мягкие, пахнущие травой и хвоей, как эта ночь, как все вокруг на поляне, у валуна; где пройдёт его первая – его, а не её – брачная ночь, и он, охваченный искренним желанием сделать добро, предложит ей руку. Может быть, для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки? Тогда, на Сахалине, Табола не думал об этом, – тогда он ещё только шагал в жизнь и ему ещё только суждено было познать её полюсы; он жил и мыслил, как тысячи юношей, его сверстников, тех самых парней и девушек, о которых теперь сложены песни, – комсомольцы тридцатых годов!
Все началось в тот день и час у валуна, когда Табола впервые близко увидел её; этот день не затерялся в памяти среди тысячи других, проведённых потом с Марией; что говорил он, что говорила она, – Табола в любое время мог повторить те грубые прощупывающие друг друга реплики, какими они обменивались при встрече: