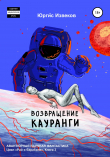Текст книги "Господин Бержере в Париже"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
X
Вдова великого барона, мать маленького барона, баронесса де Бонмон, ласковая Элизабет, лишилась своего друга Рауля Марсьена при известных нам обстоятельствах. У нее было слишком доброе сердце, чтобы жить в одиночестве. Да это было бы и жаль. Случилось так, что в некую летнюю ночь между Булонским лесом и площадью Звезды она приобрела нового друга. Надлежит сообщить об этом событии личной жизни, ибо оно связано с общественными делами.
Баронесса де Бонмон, проведя июнь месяц в Монтиле, на берегу Луары, проезжала через Париж по дороге в Гмунден. Но дом ее был закрыт, и она поехала в Булонский лес пообедать в ресторане со своим братом бароном Вальштейном, с супругами де Громанс, г-ном де Термондром и юным Лакрисом, тоже находившимся проездом в Париже.
Все они принадлежали к хорошему обществу, а потому все были националистами. Барон Вальштейн не менее других. Австрийский еврей, обращенный в бегство венскими антисемитами, он обосновался во Франции, где финансировал крупную юдофобскую газету, и примостился под крылышком церкви и армии. Г-н де Термондр, худородный дворянин и захудалый помещик, проявлял ровно столько склонности к военщине и клерикализму, сколько нужно было, чтобы не отставать от высшей земельной аристократии, среди которой он вращался. Чета Громансов была слишком заинтересована в восстановлении монархии, чтобы не желать этого от всего сердца. Их денежные дела были в плачевном состоянии. Г-жа де Громанс, красивая, хорошо сложенная и располагавшая полной свободой в своих поступках, еще кое-как изворачивалась. Но Громанс, который уже не был молод и приближался к возрасту, когда люди нуждаются в покое, обеспеченности, уважении, вздыхал о лучших временах и с нетерпением ждал возвращения короля. Он твердо надеялся, что Филипп после реставрации пожалует ему звание пэра Франции. Это право на кресло в Люксембургском дворце он основывал на своей принадлежности к «присоединившимся» и причислял себя к республиканцам г-на Мелина, которых король будет вынужден оплачивать, чтобы привлечь их на свою сторону. Юный Лакрис был секретарем союза роялистской молодежи в том департаменте, где у баронессы были земли, а у Громансов долги.
Сидя под листвой вокруг накрытого столика, при свечах под розовым абажуром, привлекавших бабочек, эти пятеро людей чувствовали себя спаянными одной и той же идеей, которую Жозеф Лакрис удачно выразил так:
– Надо спасать Францию!
То было время широких замыслов и крылатых надежд. Правда, монархисты потеряли президента Фора и министра Мелина, из которых первый во фраке, в бальных туфлях и гордый, как павлин, а второй в деревенском сюртучишке, в грубых, подбитых гвоздями башмаках и с семенящей походкой, старались загнать в гроб республику вместе с правосудием. Мелин лишился своего поста, а Фор лишился жизни в самый разгар успехов. Правда, похороны президента-националиста не дали того, чего от них ожидали, и попытка «похоронного переворота» кончилась провалом. Правда, после того, как продавили цилиндр президенту Лубе, социалисты помяли кулаками цилиндры господ из «Белой гвоздики» и из «Василька». Правда, сформировалось республиканское министерство и обеспечило себе большинство. На стороне реакции были духовенство, магистратура, армия, земельная аристократия, промышленность, коммерция, часть палаты и почти вся пресса. И, как правильно заметил юный Лакрис, если бы министр юстиции попытался произвести обыски в штаб-квартирах роялистских и антисемитских комитетов, он не нашел бы во всей Франции ни одного полицейского комиссара, для того чтобы конфисковать компрометирующие бумаги.
– Надо признать, – заметил г-н де Термондр, – что этот бедный Фор оказал нам немалые услуги.
– Он любил армию, – вздохнула г-жа де Бонмон.
– Несомненно, – ответил г-н де Термондр. – А кроме того он своими роскошествами приучил народ к монархии. После него король не покажется обременительным, а его выезды не вызовут насмешки.
Госпоже де Бонмон захотелось услышать подтверждение того, что король торжественно въедет в Париж в карете, запряженной шестью белыми лошадьми.
– Прошлым летом, проходя однажды по улице Лафайет, – продолжал г-н де Термондр, – я увидал вереницы остановившихся экипажей, группы полицейских в разных местах в шеренги прохожих вдоль тротуаров. Я спросил у какого-то, малого, что все это значит, и он ответил мне внушительно, что. уже час как ожидают прибытия в Елисейский дворец президента, возвращающегося из Сен-Дени. Я стал присматриваться к этим почтительным ротозеям и к добрейшим буржуа, которые выжидательно и терпеливо сидели в остановившихся фиакрах, держа свертки в руках и умиленно пренебрегая опозданием на поезд. И я с удовольствием убедился в том, что все эти люди покорно осваивались с нравами монархии и что парижане вполне готовы приветствовать своего государя.
– Париж уже больше не республиканский город. Все идет отлично, – подтвердил Жозеф Лакрис.
– Тем лучше, – сказала г-жа де Бонмон.
– А ваш батюшка разделяет эти надежды? – осведомился г-н де Громанс у молодого секретаря союза роялистской молодежи.
Он спросил это потому, что мнением мэтра Лакриса отнюдь не следовало пренебрегать. Мэтр Лакрис работал вместе с генеральным штабом и подготовлял реннский процесс. Он составлял для генералов текст их свидетельских показаний и репетировал с ними их выступления на суде. Его причисляли к националистским светилам адвокатуры, но подозревали, что он питает мало доверия к успешному исходу монархических заговоров. Старик в свое время работал на графа Шамбора и на графа Парижского. Он знал по опыту, что республику не так легко вышвырнуть за дверь и она не такая покладистая девица, какой выглядит. Он не доверял сенату. Но, недурно зарабатывая во Дворце правосудия, он примирился с тем, что ему приходится жить во Франции при условиях монархии без монарха. Он не разделял надежд своего сына Жозефа, однако был слишком терпим, чтобы осуждать пыл восторженной молодежи.
– Отец действует в своей сфере, я – в своей. Но цель у нас одна, – ответил Жозеф Лакрис.
И наклонившись к г-же де Бонмон, он добавил вполголоса:
– Мы сделаем свое дело во время реннского процесса.
– Помогай вам бог, – произнес г-н де Громанс со вздохом искреннего благочестия. – Пора спасать Францию.
Было очень жарко. Мороженое ели молча. Затем беседа возобновилась, но тусклая, неоживленная, и вертелась вокруг личных дел и банальных тем. Г-жа де Громанс и г-жа де Бонкон завели речь о туалетах.
– Говорят, что в зимнем сезоне будут носить платья «простушка», – сказала г-жа де Громанс, глядя на баронессу и не без удовольствия представляя себе ее талию, отяжеленную пышной юбкой.
– Вы ни за что не угадаете, где я сегодня был, – сказал г-н де Громанс. – Я был в сенате. Заседания не было. Лапра-Теле показал мне дворец. Я видел все, залу, галерею бюстов, библиотеку. Это прекрасное здание.
Но он не поведал ничего о том, что в амфитеатре, где должны были заседать пэры после реставрации короля, он ощупал бархатные кресла и выбрал для себя место в центре. А перед уходом он спросил у Лапра-Теле, где помещается касса. Этот осмотр палаты будущих пэров снова оживил его вожделения. Он с полной искренностью повторил:
– Спасем Францию, господин Лакрис! Спасем Францию! Время пришло.
Лакрис брался за это. Говорил он очень уверенно и прикинулся большим конспиратором. Он уверял, что все готово. Придется, вероятно, раздробить скулы префекту Вормс-Клавлену и двум-трем другим дрейфу сэрам в его департаменте. И он добавил, проглотив кусок засахаренного персика:
– Все совершится само собой.
Тогда заговорил барон Вальштейн. Он говорил долго, дал почувствовать, что прекрасно во всем ориентируется, сделал кое-какие предложения и рассказал несколько венских анекдотов, казавшихся ему забавными. Под конец он добавил с неистребимым венским акцентом:
– Все это очень хорошо, все очень хорошо. Но надо признать, что вы промахнулись на похоронах президента Фора. Если я так говорю, то потому, что я вам друг. Не делайте второй такой ошибки, – иначе за вами больше никто не пойдет.
Он взглянул на свои часы и, увидев, что едва поспеет в Оперу до окончания спектакля, зажег сигару и встал из-за стола.
Жозеф Лакрис был сдержан; к этому его обязывало положение конспиратора. Но, с другой стороны, он охотно подчеркивал свое могущество и влияние. А потому он извлек из кармана синий сафьяновый бумажник, который носил на груди у самого сердца, вынул оттуда письмо и, передав его г-же де Бонмон, сказал с улыбкой:
– Пусть делают обыск в моей квартире. Я все ношу с собой.
Госпожа де Бонмон взяла письмо, прочла его про себя и, порозовев от почтительного волнения, отдала его слегка дрожащей рукой Жозефу Лакрису. А когда это августейшее письмо, вернувшись в синий сафьяновый бумажник, заняло свое место на груди секретаря союза роялистской молодежи, баронесса Элизабет направила на эту грудь долгий, увлажненный слезами, пылающий взгляд. Юный Лакрис представился ей внезапно в сиянии героической красоты.
Сырость, и прохлада ночи понемногу пронизывали сотрапезников, засидевшихся под деревьями ресторана. Розовые огни, озарявшие цветы и бокалы, угасали один за другим на осиротевших столиках. По просьбе г-жи де Громанс и баронессы Жозеф Лакрис вторично достал из бумажника письмо короля и прочел приглушенным, но внятным голосом:
«Дорогой Жозеф!
Весьма рад патриотическому воодушевлению, которое наши друзья проявили под вашим влиянием. Я видел П. Д. Он настроен бодро.
Всегда к Вам благосклонныйФилипп».
Прочитав это письмо, Жозеф Лакрис вложил его обратно в синий сафьяновый бумажник, который покоился у него на груди под белой гвоздикой, украшавшей его петлицу.
Господин де Громанс пробормотал несколько одобрительных слов:
– Прекрасно! Так должен говорить глава, настоящий глава.
– Я того же мнения, – отозвался Жозеф Лакрис. – Истинная радость исполнять распоряжения такого доверителя.
– И какой сжатый язык, – продолжал г-н де Громанс. – Герцог Орлеанский словно унаследовал тайну эпистолярного стиля у графа Шамбора. Вам, сударыня, конечно, небезызвестно, что никто на свете не писал таких бесподобных писем, как граф Шамбор. Он мастерски владел пером. Совершенно бесспорно, что письма ему особенно удавались. Что-то напоминающее его импозантную манеру есть и в записке, которую нам только что прочитал господин Лакрис. Пожалуй, у герцога Орлеанского даже больше живости, больше юношеского пыла… Какая великолепная внешность у этого молодого принца! Настоящий сын Марса и истый француз! Он привлекает, он пленяет. Меня уверяли, что он почти популярен в предместьях, – ему там дали прозвище Солдатский Котелок.
– Да, массы все больше и больше склоняются на его сторону, – сказал Лакрис. – Булавки для галстуков с изображением короля, которые мы обильно раздаем, начинают проникать на заводы и в мастерские. У короля больше здравого смысла, чем принято думать. Мы приближаемся к цели.
Господин де Громанс ответил благожелательным и авторитетным тоном;
– При таком рвении, такой осторожности и преданности, как у вас, господин Лакрис, можно питать любые надежды. И яубежден, что вы добьетесь победы, не вызывая слишком много жертв. Ваши противники сами толпами придут к вам. Причастность к партии «присоединившихся» не мешала г-ну Громансу желать восстановления, монархии, но, и, не позволяла открыто одобрять те насильственные мероприятия, которые предлагал Жозеф Лакрис за десертом. Г-н де Громанс, посещавший балы префектуры и флиртовавший с г-жой Вормс-Клавлен, деликатно хранил молчание, когда молодой секретарь союза роялистской молодежи высказался за необходимость расправиться с жидовским префектом, но приличие отнюдь не препятствовало ему хвалить письмо принца и дать понять, что он готов на любые жертвы для спасения страны.
Господин де Термондр отличался не меньшим патриотизмом и с не меньшим удовольствием смаковал слог Филиппа. Но, завзятый собиратель редкостей и ярый любитель автографов, он прежде всего подумал о том, как бы ему заполучить у юного Лакриса королевское письмо – в обмен ли, даром ли, или, так сказать, заимообразно. Он раздобыл такими способами письма некоторых лиц, замешанных в процессе Дрейфуса, и составил интересное собрание. Теперь он подумывал о том, чтобы собрать коллекцию материалов о «Заговоре» и включить в нее в качестве наиболее ценного документа письмо принца. Он сознавал, что дело будет нелегким, и весь погрузился в обдумывание своего замысла.
– Приезжайте ко мне, господин Лакрис, – сказал он, – приезжайте ко мне в Нейи: я пробуду там еще несколько дней. Я покажу вам любопытные автографы, и мы еще поговорим об этом письме.
Госпожа де Громанс выслушала с должным вниманием записку короля. Она была светской дамой. Ей очень хорошо было известно, к чему обязывает этикет в отношении августейших особ. Она склонила голову при словах, начертанных Филиппом, как сделала бы реверанс, если бы имела честь присутствовать при церемониальном выходе короля, шествующего в обеденный зал. Но она не испытывала ни энтузиазма, ни благоговения. А кроме того, она доподлинно знала, что представляют собой подобные августейшие особы. Она видела на самом близком расстоянии одного из родичей герцога. Это случилось однажды днем в укромном доме близ Елисейских полей. Сказали друг другу все, что можно было сказать, но свидание не имело продолжения. Его высочество был корректен, однако не проявил широты натуры. Безусловно, она оценила оказанную ей честь, но не видела в этой чести ничего из ряда вон выходящего. Она уважала принцев; она любила их при случае, но не мечтала о них. И письмо не вызвало в ней никакого волнения. Что же касается юного Лакриса, то в ее симпатии к нему не было ничего пылкого или захватывающего. Она понимала, одобряла этого маленького русого молодого человека, немного щуплого, довольно милого, который не был богат и выбивался да сил, чтобы свести концы с концами и придать себе весу. Она знала из личного опыта, что нелегко вести широкую жизнь при небольших средствах. Оба они подвизались в высшем обществе. Это могло служить поводом для доброго согласия. Помочь друг другу при случае, – с удовольствием! Но и только.
– Поздравляю, господин Лакрис! Примите мои наилучшие пожелания, – сказала она.
Насколько чувства баронессы Элизабет были рыцарственнее и нежнее! Ласковая венка всем сердцем отдалась элегантному заговору, которому служила эмблемой белая гвоздика. Она к тому же так обожала цветы. Причастность к заговору дворян в пользу короля давала ей возможность войти и окунуться в общество родовитого французского дворянства, проникнуть в самые аристократические гостиные и вскоре, быть может, попасть ко двору. Она была растрогана, восхищена, смущена. Но нежность преобладала в ней над честолюбием; со всею искренностью своего легко распахивающегося сердца она уловила поэзию в письме принца. И она простодушно высказала то, что думала:
– Господин Лакрис, это письмо поэтично.
– Да, верно, – подтвердил Жозеф Лакрис.
И они обменялись долгим взглядом.
Ничего достопамятного не было произнесено больше в ту летнюю ночь за маленьким столиком ресторана, уставленным свечками и цветами.
Настал час разъезда. После того, как баронесса встала из-за стола и Жозеф Лакрис накинул на ее пышные плечи манто, она протянула руку г-ну де Термондру, который прощался со всеми. Он решил идти пешком в Нейи, где временно снимал квартиру.
– Это совсем близко отсюда, всего в пятистах шагах. Уверен, сударыня, что вы не знаете Нейи. Я открыл в Сен-Жаме остатки старинного парка с группой Лемуана в решетчатой беседке. Надо вам как-нибудь ее показать.
И его рослая, коренастая фигура тотчас же углубилась в аллею, залитую синим светом луны.
Баронесса предложила Громансам отвезти их домой в клубной карете, которую прислал за ней ее брат Вальштейн.
– Садитесь, мы вполне уместимся втроем.
Но Громансы были люди тактичные. Они крикнули фиакр, стоявший у решетки ресторана, и так быстро юркнули в коляску, что баронесса не успела их удержать. Она осталась одна с Жозефом Лакрисом перед открытой дверцей экипажа.
– Довезти вас, господин Лакрис?
– Боюсь вас стеснить.
– Нисколько, Где вас ссадить?
– На Площади Звезды.
Они покатили среди безмолвия ночи по голубой дороге, окаймленной зеленью деревьев… И неизбежное свершилось.
Когда карета остановилась, баронесса спросила тихим голосом, будто очнувшись от сна:
– Где мы?
– Увы, уже на площади, – ответил Жозеф Лакрис.
Он сошел, а баронесса поехала в одиночестве по проспекту Монсо в похолодевшей карете, держа помятую белую гвоздику в руках без перчаток, с полузакрытыми веками и полуоткрытыми губами. Она все еще трепетала от жгучих и нежных объятий, которые, приближая к ее груди королевское письмо, слили в ее душе сладость любви с гордостью славы. Она испытывала сознание, что это письмо приобщило ее интимное приключение к национальному величию и к многославной истории Франции.
XI
Это происходило на улице Бэри, в глубине двора, в квартирке на антресолях, куда с трудом проникал свет, такой же унылый, как и камни, по которым он скользил. Сын герцога Жана, Анри де Бресе, председатель исполнительного комитета, сидя за своим бюро, превращал на листе белой бумаги чернильную кляксу в аэростат, пририсовывая к ней сетку, канаты и гондолу. Позади него на стене висела большая фотография принца, который выглядел на ней молодым, но очень дряблым, разбухшим и вульгарно торжественным. Портрет окружали трехцветные знамена с геральдическими лилиями. По углам комнаты стояли развернутые флаги с золотыми эмблемами и монархическими девизами, вышитыми вандейскими и бретонскими дамами. В глубине комнаты на панели развешаны были кавалерийские сабли с картонной полоской, на которой красовалась надпись: «Да здравствует армия!» Под ними – пришпиленное булавками карикатурное изображение Жозефа Рейнака в виде гориллы. Всю обстановку этой комнаты, одновременно интимной и административной, составляли конторский шкап в несгораемая касса, вместе с диваном, четырьмя стульями и бюро черного дерева. Вдоль стен были навалены кипы пропагандистских брошюр.
Жозеф Лакрис, секретарь департаментского комитета союза роялистской молодежи, стоя у камина, молча проверял членские списки. Сидя верхом на стуле, устремив взгляд в одну точку и морща лоб, Анри Леон, вице-председатель юго-западных роялистских комитетов, развивал свои взгляды. Он слыл за дерзкого и брюзгливого человека, видевшего все в мрачном свете. Но его наследственные финансовые способности придавали ему вес в глазах сообщников. Он был сыном Леон-Леона, банкира испанских Бурбонов, обанкротившегося во время краха «Всеобщего объединения».
– Нас теснят; что ни говорите, а нас теснят. Я чувствую это с каждым днем. Тиски сжимаются. При Мелине нам было где развернуться, нам было приволье, полное приволье. Мы чувствовали себя свободно, и никто нас не стеснял.
Он раздвинул локти и сделал жест проталкивающегося вперед человека, как бы для того, чтобы дать представление о той легкости, с которой можно было двигаться в счастливые, ныне отошедшие времена. И он продолжал:
– При Мелине у нас было все. Мы, роялисты, пользовались поддержкой правительства, армии, суда, администрации, полиции.
– У нас и теперь есть все это, – возразил Анри де Бресе. – А общественное мнение более чем когда-либо стоит за нас, с тех пор как министры потеряли популярность.
– Нет, теперь совсем не то. При Мелине мы были официозной организацией, державшей сторону правительства и консервативной. Самое благоприятное положение для устройства заговоров. Не заблуждайтесь: француз в массе консервативен. Он домосед. Переезды его пугают. Мелин оказал нам крупнейшую услугу: он придал нам безвредный вид, безобидный вид, – да, безобидный, такой же, как у него самого. Он утверждал, что республиканцы – это мы, и народ верил ему. Глядя на его лицо, нельзя было заподозрить, что он шутит. Он способствовал тому, что общественное мнение нас признало. Услуга не маленькая!
– Мелин был порядочным человеком! – вздохнул Анри де Бресе. – Надо отдать ему справедливость.
– Это был патриот, – сказал Жозеф Лакрис.
– При этом министре, – продолжал Анри Леон, – у нас было все, мы представляли собой все, нам было доступно все. Нам даже не к чему было скрываться. Мы не стояли вне республики, мы стояли над ней. Мы господствовали над ней с высоты нашего патриотизма. Мы были всем, мы были Францией. Я не питаю нежных чувств к этой потаскушке-республике, но надо признать, она бывает порой славной девчонкой. При Мелине полиция была чудесна, просто пленительна. Во время роялистской манифестации, которую вы, Бресе, премило организовали, я кричал до хрипоты: «Да здравствует полиция!» И кричал от чистого сердца. Полицейские с увлечением дубасили республиканцев!.. Жиро-Ришара упрятали в кутузку за то, что он крикнул: «Да здравствует республика!» Мелин устроил нам слишком райскую жизнь. Ну, прямо добрая нянюшка! Он нас баюкал, он вас укачивал. Да, да, сам генерал Декюир сказал: «Раз у нас есть все, чего мы желаем, то зачем нам громить лавчонку с риском опозориться!» О, блаженные времена! Мелин водил хоровод. Националисты, монархисты, антисемиты, плебисцитники, все мы дружно плясали под его деревенскую скрипку. Все – поселяне! Все – блаженные! Уже при Дюпюи я был менее доволен; при нем дело шло не так открыто. Мы были не так спокойны. Безусловно, он не желал нам зла. Но его нельзя было назвать настоящим другом. Это уже не был добрейший деревенский скрипач, который заправлял свадебным хороводом. Это был толстый извозчик, который тряс нас напропалую в своей коляске. Вез он ни так, ни сяк, то и дело застревая – вот-вот опрокинет. Рука у него была неловкая. Вы скажете, что он притворялся ротозеем. Но притворное ротозейство сильно смахивает на настоящее. А кроме того, он сам не знал, куда везти. Бывают такие трепалы-извозчики, которые не знают вашей улицы и тащат вас без конца и края по невозможным дорогам, хитро прищуривая глаз. Это действует на нервы!
– Я не защищаю Дюпюи, – сказал Анри де Бресе.
– А я вовсе не нападаю на него; я рассматриваю его, изучаю, определяю. Я не ненавижу его. Он оказал нам большую услугу. Не надо это забывать. Без него нас бы уже упрятали под замок. После провала на похоронах Фора в великий день параллельного выступления наша песенка была бы уж спета, милые мои ягнятки.
– Не нас он щадил, – отозвался Жозеф Лакрис, уткнувшись носом в список.
– Знаю. Он сразу понял, что ничего не может нам сделать, что тут замешаны генералы, что заварилась слишком густая каша. Тем не менее мы должны поставить ему толстую свечу.
– Ба! – сказал Анри де Бресе. – Нас так же оправдали бы, как Деруледа.
– Возможно. Но он дал вам помаленьку оправиться после похоронной катастрофы, и, признаюсь, я ему благодарен за это. С другой стороны, он нас сильно подвел, хотя, вероятно, невольно и без злобных намерений. Вдруг, в самый неожиданный момент, этот толстяк сделал вид, что мечет против нас громы и молнии. Знаю, что положение дел обязывало его. Знаю, что это не было всерьез. Но создалось дурное впечатление. Я опять и опять повторю вам: наша страна консервативна. Дюпюи не говорил, как Мелин, что консерваторы – это мы, что республиканцы – это мы. Да если б он и сказал, ему бы никто не поверил. Ему никогда не верили. Во время его министерства мы отчасти утратили наш авторитет в стране. Нас перестали считать безвредными. Мы внушили тревогу записным республиканцам. Это было почетно, но опасно. Дела наши обстояли хуже при Дюшои, чем при Мелине; они еще хуже при Вальдек-Руссо, чем были при Дюпюи. Такова правда, горькая правда.
– Несомненно, – возразил Анри де Бресе, покручивая ус, – совершенно несомненно, что министерство Вальдека – Мильерана питает дурные намерения; но, повторяю, оно непопулярно, оно не продержится.
– Оно непопулярно, – продолжал Анри Леон, – но уверены ли вы в том, что они не продержатся достаточно долго, чтобы нам повредить? Непопулярные правительства держатся столь же долго, как и другие. Прежде всего, популярных правительств вообще не бывает. Править – значит возбуждать недовольство. Мы здесь между своими, нам незачем умышленно говорить всякие глупости. Неужели вы думаете, что мы будем популярны, когда станем правительством? Неужели вы думаете, Бресе, что народ заплачет от умиления, глядя на ваш камергерский мундир с ключом у поясницы? А вы, Лакрис, неужели вы полагаете, что, когда будете префектом полиции, предместья в день стачки встретят вас триумфальными кликами? Взгляните в зеркало и скажите сами, похожи ли вы на народного кумира! Незачем обманывать самих себя. Мы говорим, что правительство Вальдека состоит из идиотов. Вполне разумно так говорить. Но неразумно в это верить.
– Для нас утешительно то, что правительство слабо и ему не будут повиноваться, – заметил Жозеф Лакрис.
– У нас уж давненько слабые правительства, – сказал Анри Леон. – А все они нас били.
– У правительства Вальдека нет ни одного надежного комиссара, – возразил Жозеф Лакрис. – Ни одного!
– Тем лучше, – сказал Анри Леон, – потому что одного было бы достаточно, чтобы сцапать всех нас троих. Говорю вам, тиски сжимаются. Поразмыслите над изречением философа, оно того стоит: «Республиканцы плохо управляют, но хорошо обороняются».
Между тем Анри де Бресе, склонившись над бюро, превращал вторую чернильную кляксу в жука, пририсовывая к ней голову, два усика и шесть лапок. Он остался доволен своим произведением, поднял голову и сказал:
– У нас еще есть недурные козыри в нашей игре: армия, духовенство…
Анри Леон прервал его:
– Армия, духовенство, суд, буржуазия, молодцы из мясной, словом, весь удешевленный воскресный поезд… И он катит… и будет катить, пока машинист его не остановит.
– Ах! – вздохнул Жозеф. – Если бы Фор был еще президентом…
– Феликс Фор, – продолжал Анри Леон, – держал нашу сторону из тщеславия. Он был националистом, чтобы охотиться у Бресе. Но он обрушился бы на нас, как только бы увидел, что у нас есть шансы победить. Восстановление монархии было не в его интересах. И действительно, какого чорта! Что бы дала ему монархия? Мы ведь не могли бы предоставить ему шпагу коннетабля. Пожалеем о нем: он любил армию; всплакнем о нем, но не будем безутешны из-за этой утраты. А кроме того, он не был машинистом. Лубе тоже не машинист. Ни один президент республики, каким бы он ни был, не управляет паровозом. Самое ужасное, друзья мои, то, что ведет республиканский поезд лишь призрак машиниста. Его не видно, а локомотив катит. Вот что меня положительно путает!
– Есть еще и другое, – продолжал Анри Леон. – Это всеобщая тряпичность. Приведу вам по этому поводу глубокомысленное изречение гражданина Бисоло. Это было тогда, когда мы устраивали вместе с антисемитами внезапные манифестации против Лубе. Наши банды проходили по бульварам с криком: «Панама! В отставку! Да здравствует армия!» Было чудесно. Малыш Понтье и оба сына генерала Декюира шли впереди, – восемь бликов на цилиндре, белые гвоздики в петлицах, в руках тросточки с золотым набалдашником. А цвет роялистских молодчиков составлял колонну. Охотников было много: плата хорошая, а риска никакого. Их заела бы досада, если б они упустили такой праздничек. Зато какие глотки, какие кулаки, какие дубинки!
Контрманифестация не заставила себя ждать. Отряды, менее многочисленные и менее блестящие, чем наши, но все же решительные и закаленные, двигались нам навстречу с криком: «Да здравствует республика! Долой попов!»
Изредка из рядов противников раздавался выкрик: «Да здравствует Лубе!», выкрик, как бы сам удивлявшийся тому, что огласил воздух. Именно этот необычный клич, прежде чем замереть, возбуждал озлобление полицейских, которые как раз в этот час выстраивались шеренгой вдоль бульвара, подобно мрачному бордюру из черной шерсти на цветистом ковре. Но вскоре этот бордюр по собственному почину ринулся на авангард контрманифестации, которую другой отряд полицейских уже обрабатывал с хвоста. Таким образом полиции быстро удалось разнести в клочки приверженцев господина Лубе и уволочь неузнаваемые остатки в роковые глубины мэрии на улице Друо. Таков был распорядок этих беспокойных дней. Находился ли господин Лубе, сидя в своем Елисейском дворце, в неведении относительно приемов, какие пускала в ход его полиция, чтобы поддержать на бульварах авторитет главы государства? Или, осведомленный о них, он не мог, не хотел ничего изменять? Не знаю. Понял ли он, что даже сама его непопулярность, несмотря на прочность и непоколебимость, почти что рассеивалась, испарялась при этом приятном и необычайном зрелище, ежевечерне предлагаемом остроумному народу? Не думаю. Ибо в таком случае этот человек был бы страшен: он был бы гениален, и я больше не верил бы, что буду спать этой зимой в Елисейском дворце, на пороге королевского покоя. Нет, я думаю, что и на сей раз, к счастью для себя, он был бессилен что-либо предпринять. Во всяком случае несомненно, что полицейские, действуя совершенно инстинктивно, усердствуя как бы по наитию и внушая симпатию к репрессиям, окружили вступление президента на его пост некоторой атмосферой народной радости, которой оно было совершенно лишено. Тем самым, если вдуматься, они причинили нам больше зла, чем добра, так как успокоили публику, тогда как в наших интересах было усилить всеобщее недовольство.
Как бы то ни было, а в одну из последних ночей этой знаменательной недели, когда намеченный маневр выполнялся со всею точностью и контрманифестация оказалась атакованной с фронта и тыла полицией, а с фланга нами, я увидел, как гражданин Бисоло отделился от авангарда елисейцев, находившегося под угрозой, и огромными шагами, судорожно корчась всем своим крохотным телом, перемахнул на угол улицы Друо, где я стоял в то время с дюжиной королевских молодчиков, кричавших по моей команде: «Панама! В отставку!» Уютное местечко. Я отбивал такт, а моя команда отчеканивала по слогам: «Па-на-ма!» Это было аранжировано поистине со вкусом. Бисоло прикорнул у моих ног. Он меня меньше боялся, чем шпиков, и был прав. В течение двух лет гражданин Бисоло и я сталкивались лицом, к лицу на всех манифестациях при входе и выходе на собраниях, во главе всех шествий. Мы обменялись всеми политическими ругательствами: «Скуфейник наймит, поддельщик, предатель, убийца, враг родины!» Это сближает, порождает взаимную симпатию. А кроме того, меня забавляло, что социалист, почти анархист, вступается за Лубе, который скорее принадлежит к умеренным. Я подумал: «А президент-то, наверно, здорово сердится, что его прославляет этот Бисоло, карлик с громовым голосом, требующий на публичных собраниях национализации капитала. Он предпочел бы, этот буржуй, чтобы его поддерживал другой буржуй, вроде меня. Чорта с два. «Панама! В отставку! Да здравствует армия! Долой жидов! Ура королю!» Все это способствовало тому, что я принял Бисоло с величайшей учтивостью. Мне стоило только крикнуть: «Э, да вот Бисоло!», и мои двенадцать молодчиков тотчас бы его изувечили. Но мне это было не нужно. Я ничего не сказал. Мы мирно стояли друг подле друга и наблюдали за маршем пленных сторонников Лубе, которых без всяких церемоний гнали в полицейский участок на улицу Друо. Предварительно избитые до бесчувствия, они по большей части висли на руках полицейских агентов, как тряпичные куклы. Среди них был депутат-социалист, красавец мужчина с окладистой бородой. Ему оборвали рукава… Мальчишка из мастерской заливался слезами и кричал: «Мама! мама!..» Тут же – редактор какой-то бездарной газетки с подшибленным глазом и носом, из которого кровь била искристым фонтаном. И подите же! Марсельеза! «И кровью вражьей нивы оросим…» Особенно бросился мне там в глаза один – более почтенный по виду и более несчастный, чем другие. Нечто вроде профессора, человек пожилой и солидный. Видимо, он хотел дать какие-то разъяснения, старался воздействовать на полицейских изысканными и убедительными словами. Иначе трудно было бы объяснить, почему они гвоздили ему ребра подкованными сапожищами и потчевали его звонкими тумаками в спину. А так как он был очень высок, очень худ, очень слаб и легок, то он комично подпрыгивал под ударами и делал какие-то ужимки, словно стремился вознестись на воздух. Его обнаженная голова вызывала жалость, у него был вид утопающего, – такой, какой бывает у близоруких, когда они теряют пенсне. Лицо его выражало бесконечную муку существа, для которого наносимые ему удары увесистых кулаков и подбитых гвоздями сапог составляли единственную связь с внешним миром.