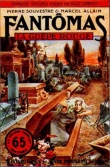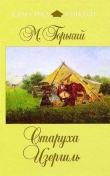Текст книги "3том. Красная лилия. Сад Эпикура. Колодезь святой Клары. Пьер Нозьер. Клио"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц)
Так сидела она без мысли, без движения, сама не зная, сколько времени, – может быть, полчаса. Раздались шаги, отворилась дверь. Он вошел. Она увидела, что он весь промок, весь в грязи, что он пылает в лихорадке.
Она остановила на нем взгляд, полный такой искренности, такой прямоты, что он был поражен. Но почти тотчас же он вновь разбередил в себе боль.
Он сказал:
– Чего вам еще нужно от меня? Вы мне сделали все зло, какое только могли сделать.
От усталости он казался каким-то кротким. Это испугало ее.
– Жак, выслушайте меня…
Он сделал жест, означавший, что слушать ему нечего.
– Жак, выслушайте меня. Я вам не изменяла. Нет, нет, я вам не изменяла. Разве могло это быть? Разве…
Он прервал ее:
– Пожалейте меня. Не мучьте меня больше. Оставьте меня, умоляю вас. Если бы вы знали, какую ночь я провел, у вас не хватило бы духа снова терзать меня.
Он тяжело опустился на тот самый диван, где полгода тому назад целовал ее через вуалетку.
Он бродил всю ночь, шагал куда глаза глядят, прошел вверх по Сене вплоть до того места, где ее окаймляют уже только ивы и тополя. Чтобы меньше страдать, он придумывал себе развлечения. На набережной Берси он смотрел, как луна мчится меж облаков. Он целый час глядел, как она то заволакивается, то показывается вновь. Потом он с крайней тщательностью стал считать окна в домах. Начался дождь. Он пошел на Крытый рынок, выпил водки в каком-то кабаке. Толстая косая девка сказала ему: «Тебе, видать, не весело». Он задремал на скамейке, обитой кожей. То была хорошая минута.
Образы этой мучительной ночи вставали перед его глазами. Он сказал:
– Мне вспомнилась ночь на Арно. Вы отравили мне всю радость, всю красоту мира.
Он умолял оставить его. Он так устал, что испытывал острую жалость к самому себе. Он хотел бы уснуть; не умереть, – смерть страшила его, – а уснуть и никогда больше не просыпаться. Между тем он видел Терезу перед собой, такую желанную, такую же очаровательную, как прежде, несмотря на потускневший цвет лица и мучительную напряженность сухих глаз. И к тому же – теперь еще и загадочную, еще более таинственную, чем когда бы то ни было. Он видел ее. Ненависть возрождалась в нем вместе со страданием. Недобрым взглядом искал он на ней следы ласк, которых она еще не дождалась от него.
Она протянула к нему руки:
– Выслушайте меня, Жак.
Он сделал жест, означавший, что говорить бесполезно. Все же ему хотелось выслушать ее, и вот он уже жадно слушал. Он ненавидел и заранее отвергал то, что она собиралась сказать, но одно только это и занимало его сейчас в целом мире. Она сказала:
– Вы могли поверить, что я вам изменяю, что я живу не в вас, что я живу не вами? Значит, вы ничего не понимаете? Значит, вы не соображаете, что если бы этот человек был моим любовником, ему незачем было бы говорить со мной в театре, в ложе; он нашел бы тысячи других способов, чтоб назначить мне свидание. Ах нет, мой друг, уверяю вас, что с тех пор, как мне дано счастье, – даже и сейчас я, измученная, готовая отчаяться, говорю: счастье – счастье знать вас, я принадлежала только вам. Разве бы я могла принадлежать другому? То, что вам вообразилось, – ведь это же чудовищно. Я тебя люблю, я тебя люблю. Я люблю тебя одного. Я только тебя и любила.
Он ответил медленно, произнося слова с жестокой отчетливостью:
– «Я каждый день с трех часов буду у нас на улице Спонтини». Это вам говорил не любовник, не ваш любовник? Нет? Это был чужой, это был незнакомец?
Она выпрямилась и страдальчески торжественно сказала:
– Да, когда-то я принадлежала ему. Вы же это знали. Я отрицала это, я лгала, чтобы не огорчать вас, чтобы вас не раздражать. А я видела, что вы встревожены, мрачны. Но лгала я так мало и лгала так неудачно! Ты же это знал. Не упрекай меня. Ты ведь знал, знал об этом, ты часто заговаривал со мной о прошлом, а потом тебе сказали в ресторане… И ты вообразил больше, чем было на самом деле. Я, когда лгала, не обманывала тебя. Если бы ты знал, как мало это значило в моей жизни. Я не знала тебя – вот в чем вся причина. Я не знала, что ты появишься. Я томилась.
Она бросилась на колени.
– Я виновата. Надо было ждать тебя. Но если бы ты знал, до какой степени все это перестало существовать, да и не существовало никогда!
И в голосе ее прозвучала нежная певучая жалоба:
– Отчего ты не пришел раньше? Отчего?
Не поднимаясь с пола, она тянулась к нему, она хотела схватить его руки, обнять колени. Он ее оттолкнул:
– Я был глуп. Я не верил, не знал. Не хотел знать.
Он поднялся и в порыве ненависти крикнул:
– Я не хотел, я не хотел, чтобы это был он!
Она села на место, с которого он только что встал, и жалобным, тихим голосом заговорила о прошлом. Ведь она была тогда так одинока в свете, а свет ужасающе пошл. Все случилось само собой, она просто уступила. Но тотчас же стала раскаиваться. О! если бы он знал, как тускла и уныла была ее жизнь, он не стал бы ревновать, он пожалел бы ее.
Она тряхнула головой и поглядела на него сквозь распустившиеся пряди волос:
– Да ведь я с тобой говорю о совсем другой женщине. С этой женщиной у меня нет ничего общего. А я – я существую лишь с тех пор, как узнала тебя, с тех пор, как стала твоей.
Он неистово скорыми шагами, такими, какими недавно шел по берегу Сены, принялся расхаживать по комнате. И вдруг разразился смехом, полным муки:
– Да, хорошо, но пока ты меня любила, что делала та, другая женщина, не ты?
Она с негодованием взглянула на него.
– Ты мог подумать…
– Вы не встречались с ним во Флоренции, не провожали его на вокзал?
Она рассказала ему, зачем он приезжал к ней в Италию, как она виделась с ним, как с ним порвала, как он уехал в гневе на нее и как с тех пор стремится вернуть себе ее любовь, а она даже не обратила на него внимания.
– Друг мой, я во всем мире не вижу, не знаю никого, кроме тебя.
Он покачал головой:
– Я тебе не верю. Она возмутилась:
– Я вам все сказала. Обвиняйте меня, осуждайте, но не оскорбляйте мою любовь к вам. Это я вам запрещаю.
Он левой рукой закрыл себе глаза.
– Оставьте меня. Вы сделали мне слишком много зла. Я так вас любил, что принял бы все страдания, которые вы могли бы мне причинить, берег бы их, любил бы их; но эта боль отвратительна. Я ее ненавижу. Оставьте меня, мне слишком тяжко. Прощайте.
Она стояла прямо, ее маленькие ножки словно приросли к ковру.
– Я пришла к вам. Я отстаиваю свое счастье, свою жизнь. Я упрямая, вы это знаете. Я не уйду.
И она повторила все, что уже говорила ему. Искренне и страстно, не сомневаясь в себе, она рассказала, как порвала связь, и без того непрочную и уже начинавшую ее раздражать, как с того дня, в который она отдалась ему в домике на Виа Альфьери, она принадлежала только ему, ни о чем, конечно, не сожалея, ни о ком не думая, ни на кого другого не глядя. Но одним упоминанием о другом она уже сердила его. И он кричал:
– Я вам не верю!
Тогда она опять начала говорить то, что уже говорила.
И вдруг невольно взглянула на часы:
– Боже мой! Двенадцать!
Сколько раз у нее вырывалось это тревожное восклицание, когда неожиданно подкрадывалось время расстаться. И Жак вздрогнул, услышав эти привычные слова, на этот раз такие скорбные и безнадежные. Еще несколько минут она что-то говорила – горячо, со слезами. Потом ей все-таки пришлось уйти; она ничего не достигла.
Дома, в передней, она увидела рыночных торговок, которые дожидались ее, чтобы поднести ей букет. Она вспомнила, что ее муж – министр. Лежали уже целые груды телеграмм, визитных карточек и писем, поздравлений, просьб. Г-жа Марме просила рекомендовать ее племянника генералу Ларивьеру.
Она вышла в столовую и в изнеможении опустилась на стул. Г-н Мартен-Беллем кончал завтракать. Его в одно и то же время ждали и в совете министров и у бывшего министра финансов, которому он должен был сделать визит. Низкопоклонство осторожных чиновников уже успело польстить ему, обеспокоить его, утомить. Он сказал:
– Не забудьте, дорогая, съездить к госпоже Бертье д'Эзелль. Вы знаете, что она щепетильна.
Тереза не ответила. Окуная свои желтые пальцы в хрустальный сосуд с водой, он вдруг поднял голову и увидел ее, такую усталую и расстроенную, что больше ничего не решился сказать.
Он столкнулся с какой-то тайной, которую не желал узнать, с сердечным горем, которое от одного слова могло прорваться. Он почувствовал беспокойство, страх и как бы уважение.
Он бросил салфетку на стол:
– Вы меня извините, дорогая.
И вышел.
Она пробовала поесть, но ничего не могла проглотить. Все вызывало в ней непреодолимое отвращение.
Около двух часов она вернулась в домик в Тернах. Жака она застала в спальне. Он курил деревянную трубку. На столе стояла чашка кофе, почти уже допитая. Во взгляде, которым он посмотрел на нее, была такая жестокость, что она вся похолодела. Она не решалась заговорить, чувствуя, что все, сказанное ею, только оскорбит и раздражит его и что, даже храня смиренное молчание, она разжигает его гнев. Он знал, что она вернется, ждал с нетерпением ненависти, с такой же тревогой в сердце, с какою ждал ее во флигеле на Виа Альфьери. Она вдруг поняла, что сделала ошибку, придя к нему; что, не видя ее, он бы стремился к ней, желал ее, может быть, позвал бы. Но было слишком поздно, да, впрочем, она и не пыталась действовать с расчетом.
Она ему сказала:
– Вот видите. Я вернулась, я не могла иначе. Да это ведь и естественно, раз я тебя люблю. И ты это знаешь.
Она уже чувствовала, что все сказанное ею будет только раздражать его. Он спросил, говорит ли она то же самое на улице Спонтини.
Она с глубокой печалью посмотрела на него:
– Жак, вы не раз говорили мне, что есть в вас и затаенная злоба и ненависть ко мне. Вы любите мучить меня. Я это вижу.
Она с упорным терпением опять подробно рассказала ему всю свою жизнь, которая раньше так мало значила для нее, рассказала о том, как уныло было ее прошлое и как, отдавшись ему, она с тех пор жила только им, только в нем.
Слова текли прозрачно ясные, как ее взгляд. Она села рядом с ним. Порою она касалась его пальцами, робкими теперь, и обвевала его своим дыханием, слишком горячим. Он слушал ее со злобной жадностью. Жестокий к самому себе, он пожелал знать все, – о последних встречах с тем, другим, об их разрыве. Она в точности рассказала ему, что произошло в гостинице «Великобритания», но перенесла эту сцену в одну из аллей в Кашинах – из страха, что картина их печальной встречи в четырех стенах еще сильнее раздражит ее друга. Потом она объяснила свидание на вокзале. Она не хотела доводить до отчаяния человека неуравновешенного и измученного. Потом она ничего не знала о нем вплоть до того дня, когда он заговорил с нею на бульваре Мак-Магона. Она повторила то, что он ей сказал под иудиным деревом. Через день после этого она увидела его в своей ложе в опере. Разумеется, он пришел без приглашения. Это была правда.
Это была правда. Но давний яд, медленно скопившийся в нем, сжигал его. Прошлое, непоправимое прошлое после ее признаний превратилось для него в настоящее. Перед ним вставали образы, терзавшие его. Он ей сказал:
– Я вам не верю… А если бы и верил, то от одной мысли, что вы принадлежали этому человеку, не мог бы больше видеть вас. Я вам это говорил, я вам об этом писал, – помните письмо в Динар. Я не хотел, чтобы это был он. А потом…
Он остановился. Она сказала:
– Вы же знаете, что потом ничего и не было.
Он с глухой яростью в голосе договорил:
– А потом я его увидал.
Они долго молчали. Наконец она сказала – удивленно и жалобно:
– Но, друг мой, вы же должны были представлять себе, что такая женщина, как я, замужняя… Ведь постоянно случается, что женщина приходит к своему возлюбленному с прошлым гораздо более тяжелым, чем у меня, а он все-таки любит ее. Ах! мое прошлое! если бы вы только знали, какая это малость!
– Я знаю, какое вы приносите счастье. Вам нельзя простить то, что можно было бы простить другой.
– Но, друг мой, я такая же, как все другие.
– Нет, вы не такая, как все другие. Вам ничего нельзя простить.
Он говорил, злобно стиснув зубы. Его глаза, глаза, которые она видела широко открытыми, которые раньше горели мягким огнем, были теперь сухи, жестки, словно сузились между складками век и смотрели на нее незнакомым взглядом. Он был ей страшен.
Она отошла в глубину комнаты, села на стул и долго сидела, трепеща, задыхаясь от рыданий, по-детски удивленно раскрыв глаза; сердце у нее сжималось. Потом она заплакала.
Он вздохнул:
– Зачем я вас узнал?
Она ответила сквозь слезы:
– А я не жалею, что узнала вас. Умираю от этого и все-таки не жалею. Я любила.
Он со злобным упорством мучил ее. Он чувствовал, как это отвратительно, но не мог совладать с собою.
– В конце концов вполне возможно, что вы, между прочим, любили и меня.
Она, плача, ответила:
– Но ведь я же только вас и любила. Я слишком вас любила. И за это вы меня наказываете… И вы еще можете думать, что с другим я была такой, какой была с вами!
– А почему бы и нет?
Она беспомощно, безвольно взглянула на него.
– Скажите, это правда, что вы не верите мне?
И совсем тихо прибавила:
– А если бы я убила себя, вы бы мне поверили?
– Нет, не поверил бы.
Она отерла щеки платком и, подняв к нему глаза, блестевшие сквозь слезы, сказала:
– Значит, все кончено!
Она встала, еще раз оглянула комнату, все вещи, с которыми она жила в такой веселой и блаженной, в такой тесной дружбе, которые казались ей своими и вдруг стали для нее ничем, начали глядеть на нее как на незнакомку, как на врага; она увидела флорентийские медали, напоминавшие ей Фьезоле и волшебные часы под небом Италии, головку смеющейся девушки, которую когда-то начал лепить Дешартр, оттенивший ее милую болезненную худобу. На минуту она с сочувствием остановилась перед этой маленькой газетчицей, которая тоже приходила сюда, а потом исчезла, унесенная страшным и необъятным потоком жизни и событий.
Она повторила:
– Значит, все кончено?
Он молчал.
Сумерки уже стирали очертания вещей. Она спросила:
– Что же будет со мной?
Он отозвался:
– А что будет со мной?
Они с жалостью взглянули друг на друга, потому что каждому было жаль самого себя. Тереза сказала еще:
– А я-то боялась состариться, боялась ради вас, ради себя, ради нашей прекрасной любви, которой не должно было быть конца. Лучше было бы и не родиться. Да, мне было бы лучше, если б я вовсе не родилась на свет. И что за предчувствие было у меня еще в детстве под липами Жуэнвиля, около мраморных нимф, у Короны, когда мне так хотелось умереть?
Она стояла, опустив сложенные руки; когда она подняла глаза, влажный взгляд ее засветился, как луч в темноте.
– И никак нельзя заставить вас почувствовать, что мои слова – правда, что ни разу с тех пор, как я стала вашей, ни разу… Да как бы я могла? Самая мысль об этом мне кажется отвратительной, нелепой. Неужели вы так мало знаете меня?
Он грустно покачал головой.
– Да! Я не знаю вас.
Она еще раз бросила вопрошающий взгляд на все вещи вокруг, которые были свидетелями их любви.
– Так значит, все, чем мы были друг для друга… все это напрасно, не нужно. Можно разбиться друг о друга, а слиться друг с другом нельзя!
Ее охватило негодование. Невозможно, чтобы он не чувствовал, чем он был для нее.
И в порыве своей попранной любви она бросилась к нему, осыпала его поцелуями, плача, вскрикивая, кусая его.
Он все забыл, он схватил ее, измученную, разбитую, счастливую, сжал в объятиях с мрачной яростью пробудившегося желания. И вот уже, откинув голову на край подушки, она улыбалась сквозь слезы. Вдруг он оторвался от нее.
– Вы больше не одна. Я все время вижу возле вас того, другого.
Она взглянула на него, – безмолвно, с возмущением, с безнадежностью, – встала, с незнакомым ей чувством стыда оправила платье и прическу. Потом, сознавая, что все кончено, она окинула комнату удивленным взором ничего уже не видящих глаз и медленно вышла.
САД ЭПИКУРА [148]148
«Сад Эпикура» является одним из самых своеобразных произведений Франса. Первую часть его составляют фрагменты статей, опубликованных в «Temps» в 1886–1893 гг. и затем частично перепечатанных в «Echo de Paris». Фрагменты эти различны по размеру – от одной фразы до нескольких страниц, – но всегда содержат в себе какую-нибудь законченную мысль. Статьи, составляющие вторую часть книги, первоначально появлялись в тех же газетах в 1892–1894 гг. В четыре серии «Литературной жизни» эти материалы не включены. «Сад Эпикура» вышел в свет в издательстве Кальман-Леви 7 ноября 1894 г., хотя и был помечен 1895 годом. Второе издание, напечатанное при жизни автора, датировано 1922 годом.
Объединяя в книге статьи различных лет и разного содержания, Франс отнюдь не заботился о последовательности изложения. Мысли общефилософского характера чередуются с декларациями по эстетике и рассуждениями о психологии игрока или библиофила. За филологическим экскурсом в историю происхождения алфавита следуют размышления о женском образовании. Фрагменты, извлеченные из статей 1880-х годов, перемежаются с более поздними отрывками, иногда содержащими принципиально иную точку зрения Франса, – в начале 1890-х годов писатель во многом отошел от своих взглядов предыдущего десятилетия. Так, рассказ 1886 г. о двух монахинях, включенный в статью «О женских монастырях», еще поэтизирует христианские обряды и говорит о своеобразном очаровании монастырской жизни, между тем как статья 1894 г. «О чуде», рационально объясняющая лурдские чудеса, исключает самую возможность эстетического оправдания чуда. Все это нисколько не смущало Франса. Автор «Литературной жизни» и «Сада Эпикура» вслед за философом-позитивистом Э. Ренаном неоднократно заявлял, что не стремится создать ни систему, ни догму, а лишь высказывает свои субъективные мнения, ничуть не навязывая их читателю и сохраняя при этом интимный тон беседы. Такая «свободная» форма представлялась Франсу не только возможной, но и наиболее пригодной для выражения философских взглядов: она не содержала ничего догматического.
И все же, при всей фрагментарности своей формы, «Сад Эпикура» с большой полнотой отразил мироощущение Франса конца 1880-х – начала 1890-х годов. Здесь нашли свое воплощение философские и этические взгляды писателя, его идейная эволюция этих лет – вся сложная система его воззрений. Называя книгу «Садом Эпикура», Франс хотел воскресить «атмосферу» сада, в котором древнегреческий мыслитель Эпикур, окруженный учениками, неторопливо беседовал на философские темы. Вместе с тем он хотел подчеркнуть свою близость к античному материалисту, утверждавшему смертность души и развивавшему философию душевного покоя, разумного наслаждения жизнью вдали от общественной борьбы.
Уже в ранней юности, читая античных мыслителей и энциклопедистов XVIII в., Франс воспринял сенсуалистические взгляды, имевшие большое значение для всего дальнейшего его развития. В 1860—1870-е годы, в период его увлечения физиологией и экспериментальными науками, Дарвином и Тэном, он усваивает идею естественно-научного детерминизма и эволюционного развития природы. В «Саде Эпикура» Франс выступает как стихийный материалист. Он убежден в объективном существовании реального мира, ведущая роль в котором, по его мнению, принадлежит стихийным физическим силам. То, что представляется человеку сверхъестественным и магическим, имеет свои вполне естественные причины. В противовес религиозным доктринам Франс отрицает бессмертие души и самое понятие чуда, утверждает безграничность вселенной, а жизнь определяет как «деятельность организованной субстанции». Умирать – значит рождаться, и смерть солнца есть, быть может, лишь рождение планеты.
С точки зрения естествоиспытателя Франс рассматривает и человеческое общество. Он видит в человеке биологического индивида, находящегося во власти своих инстинктов. Люди никогда не руководствуются рассудком, они послушны своим страстям – любви, ненависти и страху. Голод и любовь – вот две оси мира. Перенося на развитие общества биологические законы, Франс говорит о естественном отборе, о жизненной конкуренции в обществе, о «битве за жизнь». Он отрицает социальные революции, сопоставляя их с разрушительными, не подготовленными всей предыдущей эволюцией геологическими катаклизмами, о которых говорил французский естествоиспытатель Кювье, и признает лишь медленные эволюционные изменения, «милосердную медлительность естественных сил».
Франс все еще движется в русле современного ему буржуазного позитивизма. Однако уже к началу 1890-х годов его философско-социологические построения приобретают иное значение, чем в системах его учителей-позитивистов, так как служат уже не оправданию, а критике буржуазной действительности. Утверждая, что человек от природы зол, Франс имеет в виду буржуазного человека и созданные им законы и институты. Он говорит о страданиях и преступлениях, сопутствующих общественной «борьбе за существование», и тем самым выражает свое отрицательное отношение к захватническим войнам и колониальной политике Третьей республики. Свое неприятие современной действительности Франс распространяет на весь космос. «Сад Эпикура» поражает своим мрачным, пессимистическим тоном. Земля – это «капля грязи», ее орошают слезы и кровь, и если другие планеты походят на Землю, то и там господствует то же зло, те же несчастья, скорбь и безумие.
Центральное место в «Саде Эпикура» занимают вопросы гносеологии. Франс признает ощущения единственным источником человеческого познания, но в ощущениях видит непроходимую стену на пути к «вещи в себе». Подобно Конту, Спенсеру и Ренану, в вопросах познания он стоит на позициях агностицизма и субъективного идеализма. Сущность вещей, первопричины или конечные цели навсегда сокрыты от человека. Видимый мир, доступный нашим чувствам, ни в какой мере не соответствует истинной природе вещей. Поэтому всякое человеческое познание относительно, условно и субъективно. Философские трактаты, – так же как и труды историков, – это романы, менее занимательные, чем другие романы, и не более истинные. Они ценны лишь как духовные памятники, отражающие различные состояния, которые прошел человеческий дух. Можно строить различные предположения о вселенной, и каждое из них, одинаково далекое от истины, будет правомочным. «Что такое душа?» – спрашивает Пиррон в главе «В Елисейских полях» (1893) и слышит в ответ противоречащие друг другу мнения. Франс прибегает здесь к форме беседы, характерной также для Ренана и позволяющей сталкивать противоположные точки зрения, не становясь в то же время ни на одну из них. Релятивизм и скептицизм Франса распространяются и на область положительных знаний. Наблюдения ученого ограничиваются видимостью и явлением, утверждает он. Ученый только констатирует факты.
Однако и эти окрашенные агностицизмом суждения Франса приобретают критический смысл по отношению к современной ему метафизике и позитивистской науке. Аргументация Полифила («Арист и Полифил, или Язык метафизики»), осмеивающего метафизический язык и обнаруживающего в терминах «бог», «душа» и «дух» их первоначальный мифологический смысл, насквозь неверна: он разрывает единичное и общее и отрицает в принципе научную абстракцию. Но пафос диалога – в разоблачении бесплодных, оторванных от жизни философских спекуляций. Та же тенденция – в статьях о науке. Франс критикует школьные программы и всю современную ему систему обучения, основанную на запоминании позитивных фактов и усвоении научной терминологии; преподавание должно преследовать практические цели и укреплять связи человека с природой («Я совсем не разделяю…», 1894). И как ни разочарован Франс в научном познании и могуществе мысли, он все же остается убежденным рационалистом: наука и мысль – величайшие ценности человеческой жизни. Франс защищает их тем активнее, чем резче критикуют их представители откровенного идеализма. В рассказе «В аббатстве» (1892) он вступает в полемику с Т. Визева, который в своих «Христианских легендах» прославлял слабоумие и невежество. С точки зрения Франса, позиция отшельника Жана, отвергшего цивилизацию и мысль, по своему существу абсурдна.
Но и всякая общественная активность представляется Франсу бесполезной и даже вредной. Она несовместима с философским сомнением, с тем «благожелательным скептицизмом», который в эти годы он настойчиво рекомендует. Зная, что все наши суждения совершенно субъективны, мы не имеем морального права что-либо отрицать. Ученый, убежденный в том, что все вокруг – лишь видимость и обман, находит удовлетворение в философской меланхолии и забывается в наслаждениях «спокойного отчаяния». Франс осуждает любую нетерпимость – политическую, религиозную, эстетическую, этическую – и хочет построить этику на сострадании и иронии, на заветах Франциска Ассизского и Эпикура. Даже боевой скептицизм гуманистов прошлых веков Франс воспринимает как своеобразный всеобъемлющий скептицизм ренановского типа: в его истолковании «Дон-Кихот» и «Кандид» – это библии благожелательности, учебники снисходительности и сострадания. Достойны сострадания одинаково и слабые и «счастливые», а ирония должна быть благожелательной и кроткой, как все мироощущение скептика в целом.
В «Саде Эпикура» получили отражение и литературные взгляды Франса – его теория импрессионистического искусства и благожелательной критики. По мнению Франса, автор воплощает в произведении свои личные ощущения и впечатления: он не может выйти за пределы самого себя. Столь же субъективно и восприятие искусства. По существу, читатель так же творит книгу, как и создающий ее поэт. Эстетика не имеет никакой твердой основы – это только «карточный домик». Франс настойчиво утверждает, что искусство и не должно стремиться к объективной правде, – его единственной целью является красота. Художник вправе приукрашивать жизнь и внушать человеку иллюзии, без которых наше существование было бы слишком тягостным.
Франс разработал эту эстетику в 1880-е годы, но мысли о субъективном восприятии искусства звучат у него и позднее. Правда, в начале 1890-х годов эти прежние положения Франса имеют другой смысл. Его статья «Карточные домики» (1892), первоначально озаглавленная «Недостоверности эстетики», в сущности направлена против французского литературоведа Брюнетьера и той догматической критики, которая предъявляла автору свои требования и навязывала читателю официальные взгляды. В ряде статей Франс провозглашает связь писателя с жизнью, восхищается полнокровным искусством Возрождения и, критикуя вычурный, претенциозный язык, отстаивает простоту и ясность литературного стиля. Тем самым, как и в серии статей «Литературная жизнь», он противопоставляет себя декадансу.
«Сад Эпикура» содержит много суждений о самых различных эстетических, исторических и психологических вопросах. Здесь есть размышления о ревности и любви, о предрассудках и религии, о взаимоотношении мысли и действия, об исторической науке. Франс оперирует в книге огромным историко-культурным материалом, постоянно использует мифологические образы и религиозные легенды. При этом, извлекая фрагменты для «Сада Эпикура» из статей, уже напечатанных им прежде, он свободно обращается со своим текстом, кое-что дополняет, кое-что выбрасывает, иногда переставляет абзацы. Многие взгляды этих лет Франс пронесет через всю свою жизнь, но от ряда своих утверждений он в дальнейшем решительно откажется. Более того, уже в 1894 г., в момент своего появления, «Сад Эпикура» с его всеобъемлющим скептицизмом, принципом иронии и сострадания и теорией «бесполезного» искусства был для Франса в значительной мере пройденным этапом. Книга интересна как свидетельство об определенной ступени в идейно-философском развитии писателя. Дополняя сборники «Литературная жизнь», «Сад Эпикура» позволяет глубже понять творчество Франса в этот сложный и трудный для него период конца 1880-х – начала 1890-х годов.
[Закрыть]
Cecropius suaves exspirans hortulus auras
Florentis viridi Sophiae complectitur umbra.
Ciris
Садик Кекропа [149]149
Кекроп – легендарный основатель Афин, получеловек, полузмея. Садиком Кекропа названы здесь Афины, находившиеся под покровительством Афины, богини войны и мудрости; софия – по-гречески мудрость.
[Закрыть], дыша благовонием сладким и нежным,Скрыт в зеленой тени цветущих побегов Софии. Кирис [150]150
«Кирис» – название анонимной латинской поэмы, повествующей о злоключениях Скиллы, дочери царя Ниса, превращенной в конце концов в птицу кирис (удод).
[Закрыть].Зачем не знали мы сладчайших дуновений,
Какими веял ты, о дивный древний сад, —
Кекропа вещего воздушных откровений,
Что нас в стихах певца латинского [151]151
…певца латинского… – Имеется в виду Лукреций Кар (первая половина I в.), ученик Эпикура, автор поэмы «О природе вещей».
[Закрыть]пленят!..Оттуда мы могли б с улыбкою спокойной
На заблуждения людские вдаль глядеть,
Любви, тщеславья бред внимать, равно нестройный,
Дым бесполезных жертв, летящий к небу, зреть.
Фредерик Плесси [152]152
Фредерик Плесси (1851–1942) – французский филолог, романист и поэт. Поэтический сборник «Глиняный светильник» опубликован в 1886 г. В своих статьях Франс неоднократно писал о Плесси («Три поэта», «Temps», 5 июня 1887 г. и др.).
[Закрыть], Глиняный светильник.
Также и Аполлодор(Аполлодор Афинский (II в. до н. э.) – древнегреческий писатель.) утверждает, что после самых тягостных бедствий и испытаний, дважды или трижды объехав Ионию и посетив там своих друзей, он снова поселился в Элладе. Друзья отовсюду съезжались к нему и проводили с ним время в его саду, который он купил за восемьдесят мин (греч.).
Диоген Лаэртский [153]153
Диоген Лаэртский (III в.) – греческий историк, автор «Жизнеописаний философов», восторженный поклонник Эпикура. Последняя, десятая, книга его труда посвящена Эпикуру и его последователям.
[Закрыть], Жизнеописания философов, кн. X, гл. I.Он приобрел прекрасный сад и сам его возделывал. Там устроил он свою школу; он вел жизнь тихую и приятную со своими учениками, которых поучал на прогулках и во время работы… Он был ласков и приветлив со всеми… Он считал, что нет ничего благороднее занятий философией.
Фенелон [154]154
Фенелон Франсуа де Салиньяк (1651–1715) – французский писатель и философ. Цитата – из предпоследней главы указанного сочинения под названием «Эпикур».
[Закрыть]. Краткое жизнеописание знаменитейших философов древности, составленное для юношества.
САД ЭПИКУРА
Нам трудно представить себе [155]155
Нам трудно представить себе… – фрагмент из статьи Франса о французском астрономе К. Фламмарионе («Temps», 18 декабря 1892 г.). Фламмариону посвящена и статья Франса «Астрономические мечтания» (там же, 24 ноября 1899 г.).
[Закрыть]духовный мир человека былых времен, твердо верившего, что земля – центр вселенной, а звезды вращаются вокруг нее. Он знал, что под ногами у него мечутся грешники в геенне огненной, и, быть может, видел своими глазами и чуял собственными ноздрями серный дым преисподней, проникающий из какой-нибудь трещины в скале. Запрокинув голову, он созерцал двенадцать сфер: сперва сферу стихий, охватывающую воздух и огонь, потом сферы Луны, Меркурия и Венеры, где в 1300 г., в пятницу на страстной, побывал Данте [156]156
…побывал Данте… – В поэме «Божественная Комедия» путешествие Данте в загробный мир начинается в пятницу на святой неделе 1300 г., однако в сферы Луны, Меркурия и Венеры он попадает несколько позже. Франс воспроизводит средневековые представления о вселенной, основанные на системе древнегреческого астронома Птолемея (II в.) и получившие отражение в поэме Данте. Согласно Птолемею небесные светила, укрепленные на различных небесных сферах, вращаются вместе с ними вокруг земли.
[Закрыть], потом сферы Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна, потом незыблемую твердь, к которой, наподобие светильников, подвешены звезды. Уходя мыслью за пределы созерцаемого, он усматривал там духовными очами девятое небо, куда возносились святые, primum mobile [157]157
Перводвигатель (лат.).
[Закрыть]или хрустальный свод и, наконец, местопребывание блаженных – Эмпирей, куда, после смерти, два ангела в белых одеждах (он твердо на это надеялся) унесут, словно младенца, душу его, омытую крещением и умащенную елеем соборования. Тогда у бога не было других детей, кроме сынов и дочерей человеческих, и все его творение имело устройство наивное и поэтическое, подобно огромному собору. Так понятая, вселенная была до того проста, что ее изображали иногда всю целиком, в ее подлинном виде и движении, на больших башенных часах, снабженных особым механизмом и раскрашенных.
Теперь с двенадцатью созвездиями и с планетами, под которыми рождаешься счастливым или несчастным, жизнерадостным или мрачным, – покончено. Твердый небесный свод разбит. Наш взгляд и наша мысль уходят в неизмеримые бездны неба. За планетами мы обнаруживаем уже не Эмпирей праведников и ангелов, а тысячи миллионов солнц, мчащихся со свитой своих темных спутников, недоступных нашему глазу. Среди этой бесконечности миров наше солнце – только пузырек газа, а земля – капля грязи. Наше воображение изумляется и протестует, когда нам говорят, что луч света, посланный к нам Полярной звездой, прежде чем достичь до нас, пробыл в пути полстолетия, несмотря на то, что эта красивая звезда – наша соседка и, вместе с Сириусом и Арктуром, – ближайшая родственница нашего солнца. Есть звезды, еще видимые нами в телескоп, но, быть может, уже три тысячи лет тому назад погасшие.
Миры умирают, раз они родятся. Они родятся и умирают непрестанно. И созидание, никогда не достигая совершенства, продолжается путем непрерывных превращений. Звезды гаснут, но мы не можем утверждать, что эти дочери света, умерев, не начинают вновь плодоносного существования, а сами планеты, расплавившись, не становятся снова звездами. Мы знаем только, что в небесных просторах не больше покоя, чем на земле, и что бесконечность миров подчиняется закону труда и усилий.
Иные звезды погасли на наших глазах, другие мерцают как пламя затухающей свечи. Небеса, считавшиеся незыблемыми, не знают ничего вечного, кроме вечной смены вещей.
Что органическая жизнь существует во всех вселенных, едва ли подлежит сомнению, если только органическая жизнь не какая-то случайность, печальное происшествие, совершившееся, к несчастью, в той капле грязи, где мы находимся.
Легче поверить, что жизнь возникла на планетах нашей системы, сестрах земли и таких же дочерях солнца, как она, притом возникла в условиях более или менее сходных с теми, в которых она проявляется здесь, – в форме животной и растительной. К нам упал с неба болид, содержащий углерод. Более изящное доказательство могли бы представить только ангелы, принесшие святой Доротее [158]158
Святая Доротея – согласно церковной легенде мученица за христианскую веру, казненная в начале IV в. По преданию, она попросила ангелов осыпать цветами и яблоками язычника Теофила, чтобы убедить его в существовании рая.
[Закрыть]цветы рая, если бы они опять спустились на землю со своими небесными гирляндами. Марс, по всей видимости, может быть населен существами, напоминающими земных животных и земные растения. Весьма вероятно, что раз он может быть населен, значит – населен действительно. Будьте уверены: там сейчас пожирают друг друга.
Единство звезд в отношении состава теперь прочно установлено спектральным анализом. Поэтому надо думать, что те же причины, которые привели к возникновению жизни в нашей туманности, порождают ее и во всех других. Говоря «жизнь», мы подразумеваем деятельность организованной материи в тех условиях, в каких эта деятельность проявляется у нас на земле. Но возможно, что жизнь развивается также в иной среде, при очень высоких или очень низких температурах, в формах, которых мы не в силах себе представить. Не исключено даже, что она развивается в форме эфирной совсем рядом с нами, в нашей атмосфере, и мы таким образом окружены ангелами, о которых никогда ничего не узнаем, так как знание предполагает общение, а у нас с ними никакого общения быть не может.
Возможно также, что эти миллионы солнц образуют вместе с миллиардами других, невидимых нами, лишь кровяной или лимфатический шарик в теле какого-нибудь животного, неприметного насекомого, появившегося в мире, огромные размеры которого недоступны нашему представлению, но который в свою очередь, по сравнению с некиим третьим миром, является лишь пылинкой. Нет ничего невероятного и в том предположении, что за какую-нибудь минуту целые века размышлений и научного познания живут и умирают на наших глазах внутри атома. Сами по себе предметы не велики и не малы, и если вселенная кажется нам необъятной, то это просто – человеческое представление о ней. Если б она вдруг сократилась до размеров ореха при условии сохранения всех пропорций, мы не имели бы ни малейшей возможности заметить эту перемену. Свет Полярной звезды, оказавшейся вместе с нами внутри ореха, достигал бы до нас по-прежнему через пятьдесят лет. И земля, размером меньше атома, орошалась бы тем же количеством слез и крови, которое поит ее теперь. Удивительно не то, что звездное поле так велико, а то, что человек измерил его.
* * *
Христианство оказало большую услугу любви [159]159
Христианство оказало большую услугу любви… – фрагмент из рецензии Франса на «Feuilles detachees» Э. Ренана («Temps», 21 февраля 1892 г.).
[Закрыть], объявив ее грехом. Оно отстранило женщину от богослужения. Оно страшится ее. Оно объясняет, насколько она опасна. Оно повторяет вслед за Екклезиастом [160]160
Екклезиаст – одна из книг Ветхого Завета, приписывавшаяся царю Соломону.
[Закрыть]: «Руки женщины подобны силкам охотников, laqueus venatorum». Оно предупреждает нас, что мы не должны возлагать на нее никаких надежд: «Не опирайтесь на тростник, колеблемый ветром, и не доверяйте ему, ибо всякая плоть – как трава, и слава ее проходит, как цвет полевой». Оно опасается лукавства той, что погубила род человеческий: «Всякая хитрость ничтожна по сравнению с хитростью женщины. Brevis omnis malitia super malitiam mulieris». Но, внушая боязнь перед ней, оно делает ее могучей и страшной.
Чтобы понимать весь смысл этих изречений, надо было иметь общение с мистиками. Надо было провести свои детские годы в религиозной среде [161]161
Надо было провести свои детские годы в религиозной среде. – Франс имеет в виду детство Э. Ренана, получившего воспитание в духовной коллегии.
[Закрыть]. Уединяться для молитвы и беседы с богом, творить обряды. В двенадцатилетнем возрасте читать назидательные книжечки, отверзающие перед наивной душой потусторонний мир. Надо было знать рассказ о том, как св. Франческо Борджа [162]162
Франческо Борджа (1510–1572) – генерал иезуитского ордена, причисленный к лику святых в XVII в. Согласно преданию в 1539 г. Борджа, служивший при дворе императора Карла V, сопровождал в Гренаду тело умершей супруги императора Изабеллы Португальской и, потрясенный видом ее обезображенного смертью лица, решил посвятить себя богу.
[Закрыть]стоял перед раскрытым гробом королевы Изабеллы, или о явлении аббатисы Вермонтской своим духовным дочерям. Аббатиса эта скончалась в благоухании святости, и монахини, участвовавшие в ее богоугодных подвигах, возносили к ней молитвы, полагая, что она на небе. Но однажды она явилась им бледная, с языками пламени на одежде: «Молитесь за меня, – сказала она. – При жизни я как-то раз, воздев руки для молитвы, подумала о том, что они красивы. Теперь я искупаю эту греховную мысль муками в чистилище. Прославьте, дочери мои, неизреченную милость божию и молитесь за меня». В этих хилых порождениях ребяческого богословия – тысячи подобных сказок, придающих такую цену непорочности, что от этого наслаждение становится еще более вожделенным.
Принимая в соображение красоту Аспазии, Лаисы и Клеопатры [163]163
…красоту Аспазии, Лаисы и Клеопатры… – Аспазия (V в. до н. э.) – древнегреческая гетера, подруга Перикла, славившаяся умом, образованием и красотой. Лаиса. – Из многочисленных греческих куртизанок, носивших это имя, Франс, очевидно, имеет в виду Лаису из Коринфа (конец V – начало IV в. до н. э.). В 1890 г. Франс написал две статьи о египетской царице Клеопатре («Temps», 12 и 26 октября 1890 г.), а в 1914 г. – предисловие к роману Ж. Кантеля «Царица Клеопатра».
[Закрыть], церковь причислила их к демонам, дамам преисподней. Какое торжество! Святая – и та не осталась бы к нему равнодушной. Женщина самая скромная и строгая, не желающая лишать покоя ни одного мужчины, желала бы иметь возможность лишить покоя их всех. Ее самолюбию приятны предосторожности, которые церковь принимает против нее. Когда бедный св. Антоний [164]164
Св. Антоний – по церковной легенде христианский подвижник III–IV вв., прославившийся своей многолетней борьбой с искушениями в пустынях Фиваиды. Франс посвятил легенде о св. Антонии статью («Temps», 12 августа 1888 г.).
[Закрыть]кричит ей: «Сгинь, чудовище!», она польщена его ужасом. Она в восторге оттого, что оказалась опасней, чем предполагала.
Но не обольщайтесь, сестры мои; вы не появились в этом мире сразу во всем своем совершенстве и во всеоружии. Поначалу вы были смиренны. Ваши прабабки эпохи мамонта и гигантского медведя не имели над пещерными охотниками той власти, какую вы имеете над нами. Вы были тогда полезны, нужны; но вы не были неотразимы. Говоря по правде, в те древние времена – и еще долго после – вам не хватало очарования. Вы были тогда похожи на мужчин, а мужчины – на зверей. Чтобы превратиться в то грозное чудо, каким вы стали теперь, чтобы сделаться равнодушной и царственной причиной подвигов и преступлений, вам нужны были две вещи: цивилизация, давшая вам покрывала, и религия, давшая нам угрызения совести. С тех пор все пошло как по маслу: вы стали тайной и грехом. О вас мечтают, ради вас губят свою душу. Вы вызываете страсть и страх; безумие любви вошло в мир. Верный инстинкт толкает вас к набожности. У вас полное основание любить христианство. Благодаря ему ваша власть удесятерилась. Вы слышали о святом Иерониме [165]165
Св. Иероним (IV в. – начало V в.) – один из «отцов церкви», по преданию, прожил несколько лет отшельником в Халкидской пустыне, а последние сорок лет своей жизни провел в одинокой келье в Вифлееме.
[Закрыть]? В Риме и в Азии вы так напугали его, что он бежал от вас в ужасную пустыню. Но и там, питаясь сырыми кореньями, до того обожженный солнцем, что от него остались только почернелая кожа да кости, он всюду видел вас. Одиночество его наполняли ваши призраки, еще более прекрасные, чем вы сами.
Ибо истина, слишком хорошо известная аскетам, гласит, что грезы, вами пробуждаемые, еще более соблазнительны, если это только возможно, чем те действительные прелести, которыми вы наделены. Иероним с одинаковым ужасом гнал прочь и вас самих и воспоминания о вас. Но тщетно предавался он посту и молитве: вы наполнили видениями всю жизнь его, из которой он вас изгнал. Такова власть женщины над святым. Сомневаюсь, чтоб она была так же велика над завсегдатаем Мулен-Ружа [166]166
Мулен-Руж – парижский танцевальный зал, открытый в 1889 г.
[Закрыть]. Берегитесь, как бы частица вашей власти не исчезла вместе с верой и вы кое-чего не утратили, перестав быть грехом.
Откровенно говоря, я не думаю, чтобы рационализм был вам выгоден. На вашем месте я не стал бы относиться с особой симпатией к физиологам, которые нескромно стараются всему дать объяснение, объявляют вас больными, когда мы считаем вас ясновидящими, и приписывают преобладанию рефлекторных движений вашу дивную способность любить и страдать. Не таким тоном говорится о вас в Золотой легенде [167]167
«Золотая легенда» – название, данное в XV в. обширному сборнику житий святых, составленному в XIII в. доминиканским монахом Иаковом из Ворагина, епископом генуэзским.
[Закрыть]: там вас величают белыми голубками, чистыми лилиями, розами любви. Это куда приятней, чем когда вас обзывают истеричками, одержимыми, кликушами, что делается походя, с тех пор как наступило царство науки.
Наконец, я на вашем месте ненавидел бы всех сторонников эмансипации, которые хотят уравнять вас с мужчиной. Они толкают вас в яму. Что за достижение для вас – сравняться с каким-нибудь адвокатом или аптекарем! Берегитесь: вы уже утратили какую-то частицу вашей загадочности и прелести. Правда, еще не все потеряно: из-за вас еще дерутся, разоряются, кончают жизнь самоубийством; но в трамвае молодые люди не уступают вам места, оставляют вас стоять на площадке. Культ ваш угасает вслед за другими старинными культами.
* * *
Игроки играют, как влюбленные любят, как пьяницы пьют, – поневоле, не рассуждая, повинуясь неодолимой силе. Есть люди, обреченные игре, как есть люди, обреченные любви. Кто выдумал историю о двух матросах, охваченных азартом игры? Они потерпели кораблекрушение и, после ужаснейших приключений, избежали гибели, только вспрыгнув на спину киту. Очутившись там, они вынули из кармана кости, рожки и принялись играть. Вот выдумка, в которой больше правды, чем в самой действительности. Каждый игрок – такой матрос. И надо признать: в игре есть что-то, переворачивающее душу смелых до самого дна. Искушать судьбу – могучее наслажденье. Какое упоение в один миг пережить месяцы, годы, целую жизнь, полную тревоги и надежды. Мне еще не было десяти, я учился в девятом классе, когда наш преподаватель г-н Грепинэ прочел нам на уроке басню «Человек и Гений». Но я помню ее, как если б это было вчера. Гений дает ребенку клубок ниток и говорит ему: «Это нить твоей жизни. Возьми ее. Когда захочешь, чтобы время шло скорей, дерни нитку: дни твои потекут быстрей или медленнее, смотря по тому, с какой скоростью ты будешь разматывать клубок. А пока не будешь до него дотрагиваться, жизнь твоя будет стоять на месте». Ребенок взял клубок; он стал дергать нить – сперва для того, чтобы стать взрослым, потом – чтобы жениться на девушке, которую полюбил, потом – чтобы увидеть, как выросли дети, чтобы поскорее добиться удачи, денег, почестей, чтобы сбросить бремя забот, чтобы избежать огорчений, связанных с возрастом недугов, наконец – увы! – чтобы покончить с докучной старостью. После прихода Гения он прожил на свете четыре месяца и шесть дней.
Но что такое игра, как не искусство вызывать перемены, производимые судьбой обычно в течение нескольких часов, а то и лет, искусство сосредоточивать в одном мгновении то, что у других рассеяно на всем протяжении их медленного существования, как не способ прожить Целую жизнь в несколько минут, – короче говоря, как не этот самый клубок, подаренный Гением?
Игра – это поединок с судьбой. Это борьба Иакова с ангелом [168]168
…борьба Иакова с ангелом… – Согласно библейскому преданию еврейский патриарх Иаков на пути из Месопотамии в Ханаан вступил в борьбу с ангелом и вышел из этой борьбы хромым.
[Закрыть], это договор доктора Фауста с дьяволом. Играют на деньги, – на деньги, то есть на непосредственную, ничем не ограниченную возможность. Быть может, карта, которую сейчас возьмет рука, костяной шарик, бегущий по столу, подарят игроку парки и сады, поля и лесные угодья, замки, устремляющие к небу свои остроконечные башенки. Да, в этом маленьком катящемся шарике скрыты гектары плодородной земли и шиферные крыши, чьи украшенные резьбой трубы отражаются в Луаре; в нем заключены сокровища искусств, чудеса вкуса, сказочные драгоценности, самые прекрасные тела и даже души, которые считались непродажными, все ордена, все почести, все обольщения и вся власть, какие только есть на земле. Да нет! В нем содержится кое-что получше: мечта обо всем этом. И вы хотите, чтобы перестали играть? Если б еще игра не давала ничего, кроме бесконечных надежд, если б она только улыбалась своими зелеными глазами, ее любили бы менее исступленно. Но у нее алмазные когти, она страшна, она дарит, по своему произволу, нищету и позор: и потому ее обожают.