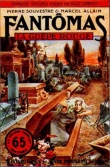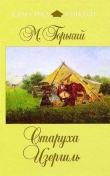Текст книги "3том. Красная лилия. Сад Эпикура. Колодезь святой Клары. Пьер Нозьер. Клио"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 48 страниц)
Внезапно ее охватила тревога:
– Боже мой! Что подумают обо мне супруги Фюзелье?
Но тут же она заметила на стене медальон – вылепленный Дешартром профиль девчонки, забавной и порочной.
– Это еще что такое?
– Это Клара, молоденькая продавщица газет с улицы Демур. Она каждое утро приносила мне «Фигаро». У нее были ямочки на щеках, словно созданные для поцелуев. Как-то раз я ей сказал: «Я сделаю твой портрет». Она пришла летним утром в серьгах и кольцах, купленных на гулянье в Нельи. И больше не являлась. Не знаю, что с ней приключилось. Она была слишком непосредственна, чтобы сделаться настоящей кокоткой. Хотите, я ее уберу?
– Нет, она очень подходит к этому уголку. Я не ревную к Кларе.
Ей пора было возвращаться домой, но она не могла решиться уйти. Она обвила руками шею своего друга:
– О! я тебя люблю! И сегодня ты был такой радостный и веселый. Веселость тебе так идет! Она у тебя тонкая и легкая. Мне хотелось бы всегда приносить тебе веселье. Мне нужна радость, почти так же, как любовь, а кто мне даст радость, если не ты?
XXVII
Все время после своего возвращения в Париж, целых полтора месяца, Тереза жила в жгучем счастливом полусне, и этот бездумный сон наяву все длился. С Жаком она встречалась каждый день в его особняке под сенью платана, а когда они вечером отрывались, наконец, друг от друга, она уносила в своей душе бесценные воспоминания. Ее блаженная усталость и воскресающие желания составляли ту нить, которая соединяла в одно целое часы, отданные любви. У них были одинаковые вкусы: оба они подчинялись одним и тем же фантазиям. Одни и те же прихоти увлекали их. Для них были отрадой прогулки по сомнительным и красивым предместьям Парижа, по улицам, где акации бросают тень на кабачки, выкрашенные в темно-красный цвет, по каменистым дорогам, где у подножья стен растет крапива, по рощицам и полям, над которыми расстилается нежное небо с полосами фабричного дыма. Она была счастлива, что вот он – рядом с нею в этих местах, которых она не узнавала и где она тешила себя иллюзией, будто здесь можно заблудиться.
В тот день им вздумалось сесть на пароход, который она так часто видела из своих окон. Она не боялась, что их встретит кто-нибудь из знакомых. Опасность была не велика, а с тех пор, как Тереза полюбила, она утратила всякую осторожность. Берега реки мало-помалу становились веселее, освобождаясь от горячей пыли предместий; они проплыли мимо островков, где купы деревьев бросают тень на трактирчики и бесчисленные лодки привязаны к прибрежным ивам. Вышли они в Нижнем Медоне. Она сказала, что ей жарко и хочется пить, и он повел ее через боковую дверь в кабачок с комнатами для приезжих. То было строение со множеством деревянных галерей, благодаря безлюдью казавшееся более обширным; оно дремало среди сельской тишины в ожидании воскресного дня, который наполнит его женским смехом, криками лодочников, запахом жаркого и ухи, приготовленной на вине.
По лестнице, напоминавшей стремянку и скрипевшей под ногами, они поднялись во второй этаж, и служанка принесла им в номер вина и бисквитов. Шерстяной полог закрывал кровать красного дерева. В углу над камином висело овальное зеркало в рамке с цветами. В открытое окно видна была Сена, зеленые скаты берегов, далекие холмы, окутанные дымкой, и солнце, ужо склоняющееся к верхушкам тополей. Над рекой кружились в пляске стаи мошкары. И небо, и земля, и вода полны были трепетным покоем летнего вечера.
Тереза долго смотрела на реку. Прошел пароход, винтом разрезая воду, и струи, расходившиеся за его кормой, достигали берега, – казалось, что дом, склонившись над рекой, сам качается, как судно.
– Я люблю воду, – сказала Тереза, обернувшись к своему другу. – Боже, как я счастлива!
Губы их встретились.
Для них, погруженных в зачарованную бездну любви, время отмечалось лишь легким всплеском волн, которые каждые десять минут, когда проходил пароход, разбивались о берег под приотворенным окном.
Она приподнялась на подушках; не подымая с пола нетерпеливо сброшенной одежды, она увидела в зеркале свою цветущую наготу и в ответ на ласковые, восхищенные речи своего друга она сказала:
– А ведь правда, что я создана для любви.
И, сознавая собственное величие, она созерцала отражение своего тела, освещенного красными лучами, которые оживляли то бледно-розовые, то светло-пурпурные тона щек, губ и груди.
– Я люблю себя за то, что ты меня любишь.
Да, конечно, он любил ее и сам не мог себе объяснить, почему он любит ее со страстным благоговением, с каким-то священным неистовством. Он любил ее не за красоту – пусть столь редкостную, бесценную. Ей присуща была красота линий, а линия следует за движением и вечно ускользает: она исчезает и вновь выступает, вызывая в художнике радость и взрывы отчаяния. Прекрасная линия – это молния, дивно ослепляющая взор. Мы любуемся ею и поражаемся. То, что заставляет желать и любить, – сила нежная и страшная, более могучая, чем красота. Среди тысячи женщин мы встречаем одну, которую уже не в силах покинуть, если обладали ею, и которую вечно желаем, желаем все более страстно. Цветок ее тела – вот что порождает этот неизлечимый любовный недуг. И есть еще нечто иное, чего нельзя выразить словами, – душа ее тела. Тереза была такой женщиной, которую нельзя ни покинуть, ни обмануть.
Она радостно воскликнула:
– Так меня нельзя покинуть, нельзя?
И спросила, почему он не вылепит ее бюста, если находит ее красивой.
– Почему? Потому что я посредственный скульптор. И я это сознаю, что не свидетельствует о посредственном уме. Но если тебе непременно хочется считать меня великим скульптором, я назову тебе другие причины. Чтобы создать образ, в котором была бы жизнь, надо относиться к натуре, как к простому материалу, из которого добываешь красоту, который сжимаешь, который давишь, чтобы извлечь его сущность. А в тебе – в твоих чертах, в твоем теле, во всем твоем существе нет ничего, что бы не было для меня драгоценно. Если бы я стал лепить твой бюст, я рабски старался бы передать мелочи, – ведь они для меня все, потому что они – частицы тебя. Я упорствовал бы с бессмысленным пристрастием, и мне не удалось бы создать целое.
Она смотрела на него, немного удивленная.
Он продолжал:
– По памяти – это еще другое дело. У меня есть карандашный набросок, который я всегда ношу с собой.
Она во что бы то ни стало хотела видеть набросок, и Дешартр показал его. То был эскиз на альбомном листке, очень простой и очень смелый. Она не узнала себя, нашла в нем что-то жесткое, что-то чуждое ей.
– Так вот какой я рисуюсь тебе, какой живу в твоей душе!
Он закрыл альбом.
– Нет, это просто заметка для памяти, краткая запись, вот и все. Но она, по-моему, правильная. Возможно, что ты видишь себя не совсем такой, какой я вижу тебя. Всякое человеческое существо по-разному представляется каждому, кто на него смотрит.
И он шутливо добавил:
– В этом смысле можно сказать, что одна и та же женщина никогда не принадлежала двум разным мужчинам. Это мысль Поля Ванса.
– По-моему, это верно, – сказала Тереза. И спросила:
– А который час? Было семь.
Она заторопилась с отъездом. С каждым днем она все позднее возвращалась домой. Муж это заметил. Он сказал: «Мы на все обеды приезжаем последними; просто несчастье». Но, задерживаясь каждый день в Бурбонском дворце [124]124
… в Бурбонском дворце… – В Бурбонском дворце в Париже заседала палата депутатов.
[Закрыть], где обсуждался бюджет, и будучи поглощен работой подкомиссии, которая избрала его докладчиком, он и сам никогда не являлся вовремя, и дела государственной важности прикрывали опоздания Терезы.
Она улыбнулась, вспомнив тот вечер, когда в половине девятого приехала к г-же Гарен. Она боялась, что это сочтут предосудительным. Но это был как раз день запроса в парламент. Муж ее только к девяти часам приехал из палаты вместе с Гареном. И тому и другому пришлось обедать в пиджаках. Зато состав кабинета был спасен.
Потом она задумалась:
– Милый, ведь когда в парламенте начнутся каникулы, у меня больше не будет повода оставаться в Париже. Папа и то никак не поймет, что за самоотверженность меня удерживает здесь. Через неделю мне придется ехать к нему в Динар. Что со мной будет без тебя?
Она сложила руки и с бесконечной нежностью и печалью взглянула на него. Но он, помрачнев, сказал:
– Это я, Тереза, это я должен с тревогой задавать себе вопрос, что со мной будет без тебя. Когда ты оставляешь меня одного, меня осаждают мучительные мысли; эти черные мысли кольцом окружают меня.
Она спросила, что это за мысли. Он ответил:
– Любимая моя, я уже говорил тебе: я должен забыть тебя, забываясь в твоих объятиях. Когда ты уедешь, воспоминание о тебе будет меня терзать. Приходится расплачиваться за счастье, которое ты мне даришь.
XXVIII
Синее море, усеянное розовыми рифами, лениво кидало полосы серебристой бахромы на берег, покрытый мелким песком и раскинувшийся полукругом, по обеим сторонам которого высилось два золотых утеса. Великолепие этого дня освещало лучом эллинского солнца могилу Шатобриана [125]125
Могила Шатобриана. – французский писатель Шатобриан (1768–1848) был похоронен в Бретани, на мысе, вдающемся в море, поблизости от курорта Динара, где отдыхает Тереза.
[Закрыть]. В комнате с узорными обоями, с балкона которой открывался вид на вершины миртовых и тамариндовых деревьев и дальше – на пляж, на океан, на острова и мысы, Тереза читала письма, за которыми ездила утром на почту в Сен-Мало и которые не могла распечатать на пароме, переполненном пассажирами. Сразу же после завтрака она заперлась у себя в комнате и здесь, разложив письма на коленях, с жадностью читала их, торопливо вкушая свое тайное счастье. В два часа ей предстояла прогулка в наемном экипаже вместе с отцом, мужем, княгиней Сенявиной, г-жой Бертье д'Эзелль, женою депутата, и г-жой Ремон, женою академика. Сегодня она получила два письма. То, которое она прочла первым, дышало тонким и радостным ароматом любви. Жак никогда еще не казался ей таким веселым, таким простым, таким счастливым, таким очаровательным.
Он, по его словам, с тех пор как полюбил ее, чувствовал такую легкость и исполнен был такого ликования, что ноги его едва касались земли. Он боялся только одного – как бы все это не оказалось сном и как бы ему не пришлось пробудиться чужим для нее человеком. Он, наверное, видит сон. И какой сон! Флигель на Виа Альфьери, кабачок в Медоне, поцелуи и эти божественные плечи, и это тело с улыбающимися ямочками, гибкое, свежее и благоуханное, как ручей среди цветов. Если же это не сон наяву, то значит – хмельная песнь. К счастью, он уже совсем лишился рассудка. Он все время видит ее, хотя она далеко. «Да, я вижу рядом с собой тебя, вижу твои ресницы над серыми глазами, более чудесными, чем вся лазурь небес и все цветы, твои губы, которые мягкостью и вкусом подобны волшебному плоду, твои щеки, на которых от смеха образуются две пленительных ямочки, я вижу тебя, прекрасную и желанную, но ускользающую и неуловимую, и когда я раскрываю объятия, тебя уже нет, и я вижу тебя вдали, совсем вдали, на длинном золотистом пляже, в розовом платье, под зонтиком, маленькую, как веточка цветущего вереска! О! совсем крошечную, такую, какой я видел тебя однажды с колокольни на Соборной площади во Флоренции. И я думаю о том же, о чем думал в тот день: „Она могла бы спрятаться от меня за былинкой, а между тем она для меня – неисчерпаемый источник радости и страдания“».
Он жаловался только на мучения разлуки. Но жалобы сменялись улыбкой счастливой любви. Он в шутку угрожал Терезе, что невзначай явится к ней в Динар. «Не бойся. Меня не узнают. Я наряжусь продавцом гипсовых статуэток. Да это и не будет обманом. С лицом и бородой, покрытыми белой пылью, одетый в серую блузу и тиковые панталоны, я появлюсь у ворот виллы Монтессюи и позвоню. Ты узнаешь меня, Тереза, по лотку, нагруженному статуэтками, который я буду держать на голове. Это будут одни амуры. Будет там амур верный, амур ревнивый, амур нежный, амур страстный. Амуров страстных будет много. И я буду кричать на грубом и звонком наречии пизанских или флорентийских ремесленников: „Tutti gli Amori per la signora Teresina!“ [126]126
Всякого рода амуры для синьоры Терезины (итал.).
[Закрыть]».
Последняя страница письма была проникнута благоговейной нежностью. Она дышала каким-то набожным восторгом, напоминавшим Терезе те молитвенники, что она читала в детстве. «Я вас люблю и люблю все, что связано с вами: землю, по которой вы так легко ступаете и которую украшаете, свет, который позволяет мне видеть вас, воздух, которым вы дышите. Я люблю склонившийся платан на моем дворе, потому что вы видели его. Я нынче ночью ходил гулять на ту улицу, где встретил вас однажды вечером. Я сорвал ветку самшита, на который вы смотрели. В этом городе, где вас нет, я вижу только вас».
Под конец он писал ей, что сейчас пойдет завтракать. Г-жа Фюзелье уехала накануне в Невер, свой родной город, и дома перестали готовить; он пойдет в ресторанчик на Королевской улице, к которому привык. И там, среди незнакомой толпы, он будет наедине с нею.
Тереза, убаюканная нежностью этих невидимых ласк, закрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. Услышав стук экипажа, поданного к подъезду, она распечатала другое письмо. Как только она увидела изменившийся почерк, стремительные и неровные строки, говорившие о печали и раздражении, она встревожилась.
С самого же начала, хотя еще и не ясного, уже давала о себе знать внезапная тревога, черные подозрения: «Тереза, Тереза, зачем же вы отдавались, если отдавали не всю себя? Что пользы в вашем обмане, если теперь я знаю то, чего не хотел знать?»
Она остановилась; в глазах у нее потемнело. Она подумала: «Мы только что были так счастливы. Боже мой! Что случилось? А я-то радовалась его радости, которая уже умчалась. Лучше было бы и не писать, если письма выражают исчезнувшие чувства, забытые мысли».
Она продолжала читать. И видя, что его терзает ревность, упала духом: «Если я не доказала ему, что люблю его всей силой души, всем своим существом, как же я смогу убедить его?»
И она стала нетерпеливо искать причину этого внезапного безумия. Жак рассказывал о ней сам:
Завтракая в ресторанчике на Королевской улице, он встретил старого товарища, который проездом находился в Париже по пути с курорта на морские купания. Они разговорились; случилось так, что этот человек, много бывавший в свете, упомянул о графине Мартен, с которой был знаком. И тотчас вслед за тем, прерывая свой рассказ, Жак воскликнул:
«Тереза, Тереза, к чему вы лгали мне, если все-таки я должен был узнать то, чего не знал только я один? Но в этой ошибке я виноват больше, чем вы. Письмо, брошенное вами в почтовый ящик у Ор-Сан-Микеле, ваши встречи на Флорентийском вокзале достаточно могли бы мне сказать, если бы я не старался так упрямо, наперекор очевидности оставаться в заблуждении. Я не хотел, нет, я не хотел знать, что вы принадлежали другому, когда отдавались мне, сводя меня с ума дерзкой грацией, истинной страстью. Я не знал и не хотел знать. Я вас больше ни о чем не спрашивал – из страха, что вам не удастся солгать; я был осторожен, а случилось так, что какой-то болван, внезапно, грубо, за столом ресторана, открыл мне глаза, заставил меня узнать. О! Теперь, когда я знаю, теперь, когда я не могу сомневаться, – мне кажется, что сомнение было бы блаженством. Он назвал мне имя, имя, которое я слышал еще во Фьезоле, из уст мисс Белл, и прибавил: „Это же известная история“».
«Так вы его любили, вы любите его и сейчас! И теперь, когда я, один в своей комнате, кусаю подушку, на которую ты клала голову, он, быть может, подле тебя. Он несомненно с тобой. Он каждый год ездит в Динар на скачки. Мне так говорили. Я вижу его. Я все вижу. Если бы ты знала, какие образы осаждают меня, ты бы сказала: „Он сумасшедший!“ – и пожалела бы меня. О! как бы я хотел забыть тебя, забыть обо всем! Но я не в силах. Ты ведь знаешь, что забыть тебя я могу только в твоих объятьях. Я все время вижу тебя с ним. Это пытка. Я считал себя несчастным в ту ночь, – помнишь, – на берегу Арно. Но в то время я даже не знал, что значит страдать. Теперь я это знаю».
Дочитывая письмо, Тереза подумала: «Слово, брошенное на ветер, привело его в такое состояние. Одно слово повергло его в отчаяние и безумие». Она пыталась угадать, кто этот подлец, так отзывавшийся о ней. Она заподозрила двух-трех молодых людей, которых ей когда-то представил Ле Мениль с предупреждением, что их следует остерегаться. И в приступе той холодной ярости, которую она унаследовала от отца, она решила: «Я это узнаю». Но что делать сейчас? Она не могла броситься к своему другу, полному отчаяния, безумному, больному, обнять его, отдаться ему и телом и душой, чтобы он почувствовал, что она принадлежит ему безраздельно, и чтобы он поверил в нее. Написать? Но насколько же лучше было бы поехать к нему, без слов упасть к нему на грудь и потом сказать: «Посмей теперь думать, что я принадлежу не тебе одному!» Но она могла только написать ему. Едва она успела начать письмо, как услышала голоса и смех в саду. Княгиня Сенявина уже взбиралась на подножку экипажа.
Тереза спустилась вниз и вышла на крыльцо спокойная, улыбающаяся; широкополая соломенная шляпа, увенчанная маками, бросала на ее лицо прозрачную тень, в которой блестели серые глаза.
– Боже, какая она хорошенькая! – воскликнула княгиня. – И какая жалость, что никогда ее не видно! Утром она переправляется на пароме и потом бродит по улицам Сен-Мало; днем запирается у себя в комнате. Она нас избегает.
Экипаж огибал широкий округлый берег, над которым по склону холма в несколько рядов возвышались виллы и сады. А налево видны были стены и колокольня Сен-Мало, выступавшие из синевы моря. Потом экипаж свернул на дорогу, окаймленную живыми изгородями, вдоль которых проходили жительницы Динара, – стройные женщины, в больших батистовых чепцах с колышащимися оборками.
– Старинные костюмы, – сказала г-жа Ремон, сидевшая рядом с Монтессюи, – выводятся, к сожалению. В этом виноваты железные дороги.
– Это верно, – заметил Монтессюи, – не будь железных дорог, крестьяне и до сих пор носили бы свои старинные живописные костюмы. Но мы бы их не видели.
– Не все ль равно? – возразила г-жа Ремон, – мы бы их воображали.
– Неужели вам иногда случается видеть что-нибудь интересное? – спросила княгиня Сенявина. – Мне – никогда.
Госпожа Ремон, позаимствовавшая из книг своего мужа некоторую философичность, объявила, что вещи ничего не значат, а мысли – все.
Не глядя на г-жу Бертье д'Эзелль, сидевшую направо от нее на второй скамейке, графиня Мартен тихо сказала:
– О да! люди только и видят, что свои мысли; они доверяются только своим мыслям. Они слепы и глухи. Остановить их нельзя.
– Но, дорогая моя, – сказал граф Мартен, сидевший впереди нее, рядом с княгиней, – без руководящих мыслей мы бы шли только наугад. А кстати, Монтессюи, читали вы речь Луайе при открытии памятника Каде де Гассикуру [127]127
Каде де Гассикур Шарль-Луи (1769–1821) – придворный фармацевт Наполеона I.
[Закрыть]? Там замечательное начало. Луайе не лишен политического чутья.
Экипаж, оставив позади луга, окаймленные ивами, поднялся в гору; путь лежал теперь через обширное лесистое плоскогорье. Долго ехали вдоль ограды какого-то парка. Дорога, на которую ложилась прохладная тень, уходила вдаль.
– Это Геррик? – спросила княгиня Сенявина.
И вдруг, меж двух каменных столбов со львами наверху, показались закрытые наглухо ворота, увенчанные железной короной. Сквозь решетку в глубине длинной липовой аллеи можно было различить серое здание замка.
– Да, – ответил Монтессюи, – это Геррик.
И, обращаясь к Терезе, сказал:
– Ты ведь была хорошо знакома с маркизом де Ре… В шестьдесят пять лет он еще был полон сил, был молод. Он был законодателем мод, с его вкусом считались, и женщины любили маркиза. Молодые люди брали за образец покрой его сюртука, его монокль, его жесты, его очаровательную дерзость, его забавные чудачества. И вдруг он бросил свет, закрыл свой дом, распродал лошадей, перестал показываться. Ты помнишь, Тереза, его внезапное исчезновение? Незадолго перед тем ты вышла замуж. Он бывал у тебя довольно часто. В один прекрасный день стало известно, что он покинул Париж. Среди зимы он приехал сюда, в Геррик. Стали искать причину этого неожиданного бегства, думали, что скрыться его заставило какое-нибудь горестное событие, унижение, испытанное при первой неудаче, и страх, что люди увидят, как он стареет. Старость – вот чего он боялся всего больше. Как бы то ни было, за те шесть лет, что он живет в уединении, он ни разу не вышел из своего замка и парка. В Геррике он принимает двух-трех стариков, товарищей своей молодости. Эти ворота отворяются только для них. С тех пор как он здесь уединился, его никто ни разу не видел; больше никогда и не увидят. Скрывается он с таким же упорством, с каким раньше показывался в свете. Он не пожелал, чтобы люди смотрели на его закат. Он заживо себя похоронил. Это, по-моему, заслуживает уважения.
И Тереза, вспомнив любезного старика, который стремился покорить ее, чтобы со славой завершить свою романическую жизнь, обернулась и посмотрела на Геррик, подымавший над серыми верхушками дубов свои четыре башни, похожие на перечницы.
Когда вернулись с прогулки, она, сославшись на мигрень, сказала, что не будет обедать. Она заперлась у себя в спальне и достала из шкатулки для драгоценностей горестное письмо Дешартра. Она перечитала последнюю страницу.
«Мысль, что ты принадлежишь другому, жжет и терзает меня. И я не хочу, чтобы это был он».
То была навязчивая мысль. Он три раза повторял на одной и той же странице: «Я не хочу, чтобы это был он».
Ее тоже преследовала одна только мысль – не потерять его. Чтобы не потерять его, она сказала бы, она сделала бы решительно все. Она села за стол и в приливе страстной нежности и тоски написала письмо, в котором повторялось, словно стенанье: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я никого никогда не любила, кроме тебя. Ты один, один, – слышишь? – один в моей душе, во всем моем существе. Не слушай какого-то подлеца. Слушай меня. Я никогда никого не любила, клянусь тебе, никого, кроме тебя».
В то время как она писала, море своими могучими вздохами вторило вздохам, вырывавшимся из ее груди. Она хотела, она думала быть правдивой в своих словах, и правдивость того, что она писала, была правдой ее любви. Она услышала на лестнице тяжелые уверенные шаги своего отца. Она спрятала письмо и отворила дверь. Монтессюи ласково спросил, не лучше ли ей.
– Я пришел, – сказал он ей, – пожелать тебе спокойной ночи и кое о чем спросить тебя. Возможно, что я завтра на скачках увижу Ле Мениля. Он приезжает на них каждый год. Ведь он – человек постоянный. А если я его встречу, как, по-твоему, милочка, можно мне будет пригласить его сюда на несколько дней? Твой муж думает, что его приезд развлечет тебя и будет тебе приятен. Мы могли бы отвести ему голубую комнату.
– Как найдешь нужным. Но я предпочла бы, чтобы голубую комнату ты оставил для Поля Ванса, которому очень хочется приехать. Вероятно, Шулетт приедет без всякого предупреждения. Это его обыкновение. В одно прекрасное утро он, как нищий, позвонит у ворот. И знаешь, мой муж ошибается, если думает, что Ле Мениль мне приятен. А кроме того, на той неделе мне надо будет дня на два-три поехать в Париж.
XXIX
Сутки спустя после своего письма Тереза приехала из Динара и очутилась у домика в квартале Терны. Для нее не представило трудности найти предлог, чтобы съездить в Париж. Приехала она вместе с мужем, желавшим повидать в Эне избирателей, которых социалисты пытались привлечь на свою сторону. Она застала Жака утром в мастерской, где он работал над большой статуей Флоренции, оплакивающей на берегу Арно свою былую славу.
Натурщица, рослая черноволосая девушка, застыв в нужной позе, сидела на очень высоком табурете. Резкий свет, падавший от окон, подчеркивал прекрасные формы обнаженного тела, без всякого снисхождения выделял неровности кожи и контрасты тонов, не сливавшихся друг с другом, открывал грубую правду натуры. Дешартр бросил на Терезу взгляд, полный радости и страдания, положил резец на край станка, накинул на статую мокрую тряпку и, окунув в горшок с водой руки, запачканные глиной, сказал натурщице:
– На сегодня, милая, довольно.
Она спустилась на пол, подобрала свою одежду – какие-то темные шерстяные лохмотья, грязное белье и ушла за ширму одеваться.
Между тем Жак вместе с Терезой вышел из мастерской.
Они прошли мимо платана, который чешуйками своей коры усеивал весь двор, посыпанный песком. Она сказала:
– Вы больше не верите, правда?
Он провел ее в свою спальню.
Письмо, присланное из Динара, уже немного смягчило остроту первого впечатления. Оно пришло как раз в ту минуту, когда, устав страдать, он ощутил потребность в успокоении и в нежности. Несколько строк, написанные ее рукой, умиротворили его душу, истерзанную воображением, восприимчивую не столько к вещам, сколько к символам вещей. Но в сердце у него остался надлом.
В комнате, где все говорило в ее защиту, где мебель, портьеры, ковры рассказывали про их любовь, она шептала ему ласковые слова.
– Вы могли поверить… Неужели вы не знаете, кто вы?.. Это же безумие… Разве женщина потерпит другого после того, как узнала вас?
– Да, но прежде?
– Прежде я ждала вас.
– И он не был на скачках в Динаре?
Вряд ли он там был, и – что уже не подлежало сомнению – она-то ведь там не была. Лошади и любители лошадей ей наскучили.
– Жак, никого не опасайтесь, потому что вы ни с кем не сравнимы.
Он, напротив, знал, как мало он значит и как мало мы значим в мире, где люди подобны зернам и полове, которые то смешиваются, то разделяются в веялке по воле какого-нибудь невежды-крестьянина или некоего божества. Впрочем, образ веялки настоящей или символической – слишком четко воплощал в себе меру и порядок, поэтому его нельзя было в точности применять к жизни. Ему скорее представлялось, что люди – зерна в кофейной мельнице. Он так живо почувствовал это третьего дня, когда посмотрел на г-жу Фюзелье, моловшую кофе.
Тереза сказала:
– Почему у вас нет честолюбия?
Она мало что прибавила к этим словам, но говорили ее глаза, движения ее рук, дыхание, от которого поднималась и опускалась грудь.
Удивленный и счастливый тем, что видит ее, слышит ее, он позволил себя убедить.
Она его спросила, кто же сказал про нее эту гнусность.
У него не было причин скрывать это от нее. Сказал ему обо всем Даниэль Саломон.
Она не удивилась. Даниэль Саломон, о котором говорили, что он не в состоянии стать любовником ни одной женщины на свете, интересовался сердечными делами и тайнами каждой. Она догадывалась, почему он так говорил.
– Жак, не сердитесь на то, что я вам скажу. Вы не слишком тонко скрываете свои чувства. Он подозревал, что вы меня любите, и хотел удостовериться. Я уверена, что теперь у него нет больше никаких сомнений насчет нас с вами, но мне это безразлично. Если бы вы лучше умели скрывать, я даже была бы менее спокойна. Я бы думала, что вы недостаточно любите меня.
Боясь встревожить его, она быстро перешла к другим темам:
– Я еще не сказала вам, понравилась ли мне ваша новая работа. Это Флоренция на берегу Арно. Так, значит, это мы с вами?
– Да, в эту вещь я вложил волнения своей любви. Она печальна, а я хотел бы, чтоб она была прекрасна. Видите ли, Тереза, красота мучительна. Вот почему с тех пор, как моя жизнь стала прекрасной, сам я страдаю.
Он стал шарить в кармане своей фланелевой куртки и вынул портсигар. Но она торопила его одеваться. Она собиралась везти его завтракать к себе. Они не расстанутся весь день. Это будет чудесно.
Она с детской радостью посмотрела на него. Потом ей взгрустнулось при мысли, что в конце недели ей придется вернуться в Динар, затем ехать в Жуэнвиль и что все это время они проведут в разлуке.
Она попросит отца, чтобы он пригласил его на несколько дней в Жуэнвиль. Но они там не будут одни, как в Париже, и не будут так свободны.
– Это верно, – сказал он, – в Париже, таком необъятно огромном, нам хорошо.
И добавил:
– Даже когда тебя здесь нет, я не могу уехать из Парижа. Мне было бы противно жить в краях, которые тебя не знают. Небо, горы, деревья, фонтаны, статуи, которые не могли бы рассказывать мне о тебе, были бы немы для меня.
Пока он одевался, она перелистывала книгу, которую нашла на столе. То была «Тысяча и одна ночь». На романтических гравюрах, рассеянных среди текста, изображены были визири, султанши, черные евнухи, базары, караваны.
Она спросила:
– Вас занимает «Тысяча и одна ночь»?
– Очень, – ответил он, завязывая галстук. – Я начинаю верить, когда мне вздумается, в этих арабских принцев, чьи ноги превратились в черный мрамор, в гаремных жен, блуждающих ночью по кладбищам. Сказки навевают легкие сны, которые помогают мне забыться. Вчера мне было так грустно, когда я ложился спать. И вот в постели я прочел историю о трех кривых дервишах.
Она с горечью заметила:
– Ты хочешь забыться! А я ни за что на свете не согласилась бы утратить даже воспоминание о горе, которое ты причинил бы мне.
Они вместе вышли на улицу. Она собиралась пройтись еще немного пешком, взять экипаж и приехать домой на несколько минут раньше, чем он.
– Мой муж ждет вас к завтраку.
Дорогой они говорили о мелочах, которым их любовь придавала значительность и обаятельность. Они уславливались о том, как провести остальную часть дня, – им хотелось упиться радостью, насладиться утонченными удовольствиями. Она советовалась с ним о своих туалетах. Расстаться с ним она не решалась, счастливая тем, что идет рядом с ним по улицам, залитым солнцем и весельем полудня. Выйдя на Тернскую улицу, они увидели целый ряд лавок, соперничавших друг с другом в великолепном изобилии снеди. Тут, у дверей харчевни, гирляндами висела дичь, а там, во фруктовой лавке, виднелись ящики с абрикосами и персиками, корзины винограда, целые горы груш. Телеги с плодами и цветами стояли по обе стороны мостовой. Под стеклянным навесом ресторана завтракали какие-то мужчины и женщины. Тереза узнала Шулетта, который сидел один за маленьким столиком, прислонившись к кадке с лавровым деревом, и закуривал трубку.
Завидев ее, он великолепным жестом бросил на стол монету в сто су, встал, поклонился. Он был очень серьезен; его длинный сюртук придавал ему вид благопристойный и суровый.
Он сказал, что ему очень хотелось посетить г-жу Мартен в Динаре. Но ему пришлось задержаться в Вандее у маркизы де Рие. Тем временем он все же выпустил новым изданием «Уединенный сад», дополнив его еще «Вертоградом святой Клары». Он потряс души людей, которые казались бесчувственными, он иссекал воду из утесов.
– Таким образом, – сказал он, – я как бы явился некиим Моисеем [128]128
…я как бы явился некиим Моисеем. – Согласно библейскому преданию во время бегства евреев из Египта древнееврейский пророк и законодатель Моисей извлек воду из скалы, ударив по ней жезлом, и тем спас свой народ от гибели.
[Закрыть].
Порывшись в кармане, он вытащил из бумажника истрепанное и засаленное письмо.
– Вот что мне пишет госпожа Ремон, жена академика. Я оглашаю ее слова, ибо они – к ее чести.