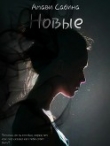Текст книги "Полынь – сухие слёзы"
Автор книги: Анастасия Туманова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Цыгане, как и прежде, остановились у Прокопа Силина, и Никита снова стал приходить туда. О Катьке он больше никого не расспрашивал. Там, как и прежде, его встречали весело и шумно, цыганята легко принимали его в свои игры, восхищаясь тем, что за лето он не забыл их язык. Веневицкая ворчала, когда её подопечный сразу после уроков натягивал тулупчик, прыгал в валенки и уносился прочь со двора:
– Что это за увлечение, не понимаю! Целые вечера просиживать в мужицкой избе! Чему там может научиться мальчик вашего круга? Никита, будьте же благоразумны, там совершенно неподходящее для вас общество, цыгане, мужики, – пфуй! От вас постоянно воняет лошадьми, вы от них в конце концов нахватаетесь насекомых, бр-р-р! Право, я пожалуюсь Владимиру Павловичу!
– Да папенька знает, – уверял её Никита. Веневицкая вздыхала, возводила блёклые глаза к потолку, недовольно бормотала по-польски. Однажды она и в самом деле решилась пожаловаться полковнику, но тот, по обыкновению, выслушал её рассеянно, быстро проговорил: «Ну ладно, ладно…» – и немедленно заговорил об Аркадии. Веневицкая вздохнула и смирилась.
В сидении над книгами прошёл целый год. На следующую осень Никита отправился в Московский кадетский корпус. Сопровождала его Веневицкая: отец остался в имении.
Из экономии ехали на своих лошадях, в дорожном дормезе, напоминавшем неряшливо обшитую кожей коробку на колёсах. Дорога была долгой и мучительной: по крайней мере, для экономки, которая беспрестанно охала, жаловалась и ругалась на постоялых дворах. Никита же, за всю свою двенадцатилетнюю жизнь не выезжавший дальше папенькиного села Рассохина, напротив, молчал весь путь, поражённый происходящим вокруг. Всё было ему интересно: и мелькавшие за окном допотопного дормеза сжатые поля, и тронутые ранним осенним золотом перелески, и деревенские церкви, и немноголюдные ярмарки, и шум уездных городов. Иногда он закрывал глаза и представлял, что едет на цыганской телеге, что рядом с ним сидят черноголовые, смуглые детишки, а рядом идёт, ловко ступая по грязи босыми ногами, Катька. Но мечты то и дело прерывались испуганными причитаниями Веневицкой: «Егор, держи правее, правее держи, там же колея, вот остолоп! А теперь левее! Да что же ты, пся крев, – пьяным напился?! Ну, дай только в имение вернуться!» Никита вздыхал, открывал глаза и снова начинал смотреть на проплывающие мимо поля.
В приёмном зале Московского кадетского корпуса было людно: мальчики уже съезжались для начала учёбы. Никита вошёл под высокие, тёмные своды, держась за руку Веневицкой. Та усадила его на деревянную скамью у стены и, наказав сидеть смирно и никуда не уходить, отправилась с письмом от полковника Закатова в руках искать ротного командира. Никита сидел на скамье, ёжился (в приёмной было холодно) и с интересом посматривал по сторонам. Несколько мальчиков, окружённых родными, точно так же сидели на скамьях. Один взахлёб рыдал в объятиях матери, худенькой блондинки, рыдающей так же самозабвенно. Другой, высокий, с холодноватыми чертами лица, сдержанно выслушивал наставления немолодого лысоватого господина в майорском мундире. Третий, рыжий и веснушчатый, воодушевлённо перепихивался на кулаках с младшими братишками, и все трое чуть слышно хихикали.
– Вот, Миша, тут, я думаю, можно… – послышался рядом спокойный женский голос, и Никита, вздрогнув, обернулся. – Вы ведь позволите, молодой человек?
– Разумеется, – охрипнув от смущения, ответил он и, поднявшись, вежливо поклонился даме лет сорока в строгом траурном наряде. Дама улыбнулась ему, и Никита увидел, что она, несмотря на траур, очень хороша собой: смугловатое полное лицо с родинкой возле губ, карие мягкие глаза, спокойная улыбка. Рядом с ней стоял худенький мальчик в коричневом костюмчике. Его большие тёмные, как у матери, глаза внимательно изучали Никиту. Возле губ у него тоже была родинка. Мать усадила его на скамью рядом с Никитой и тут же ушла куда-то.
– Может быть, познакомимся? – чуть слышно спросил мальчик. – Разрешите рекомендоваться: Михаил Иверзнев. Вы на подготовительный курс?
– Никита Закатов, – ответил перепуганный Никита, с которым впервые за всю его жизнь кто-то пожелал познакомиться. – И… нет, я уже на первый, я сдал экзамен.
– Значит, придёте к нам, будем учиться вместе. Откуда вы, из Москвы?
– Нет, из Смоленской губернии.
– Как далеко… – задумчиво протянул Миша. – И в Москве у вас нет родственников? А вот я московский. Мама очень хотела, чтобы я учился в гимназии, но отец настоял на корпусе. Из гимназии, по его словам, выходят одни враги отечества и якобинцы. С ним, знаете ли, сложно было спорить…
Никита постеснялся спросить, что такое «якобинцы», но решил, что это сродни «врагам отечества». Тем не менее он солидно покивал:
– Думаю, ваш отец прав. У нас в семье тоже все военные.
– Мне кажется, вы очень сильный. – задумчиво сказал Миша, разглядывая крепкую фигуру нового знакомого. – Померимся ростом?
Никита с готовностью встал и радостно убедился, что почти на голову выше своего нового знакомого. Да и другие мальчики, находящиеся в приёмной, были на вид меньше его.
– Что ж, вам тут будет легче. Думаю, не рискнут бить, – одобрительно сказал Миша и протянул Никите худую смуглую руку. – Хотите дружить навек?
– Конечно. – Никита без улыбки пожал протянутую ему ладонь. Теперь он был спокоен, поняв, что этот худенький мальчик хочет подружиться с ним из-за его силы, но при этом искренне был рад тому, что у него впервые появился друг, да ещё навек.
В приёмной появился ротный командир в окружении взволнованных матерей, и новоявленные кадеты поднялись ему навстречу.
* * *
Жизнь в селе Болотееве между тем текла своим чередом. По-прежнему календарь в имении считался по полевым работам, крестьяне запахивали землю, рубили лес, убирали хлеб, мяли лён, сеяли озимые, отрабатывали барщину, платили оброк. «Молодые господа», ни старший, ни младший, в имении не появлялись: Никита учился в корпусе, Аркадий не приезжал даже в отпуск, прожигая почти весь доход с имения на гусарские кутежи в Петербурге. Отец препятствий ему в этом не чинил и исправно высылал деньги.
В последние годы старый барин начал хворать: годы брали своё. То и дело у полковника Закатова прихватывало сердце, всё чаще отнимались ноги, ездить по работам он уже не мог; о том, чтобы взобраться в седло или хотя бы в дрожки, не было и речи. Летом он теперь целые дни просиживал в большом кресле на рассыхающейся веранде дома, глядя слезящимися, выцветшими глазами в заросший сад и беззвучно шевеля губами. Зимой – сидел в своём жарко натопленном, душном кабинете, шелестя старыми письмами от старшего сына или страницами расходных книг. Последнее, впрочем, делалось полковником без особой нужды и лишь по привычке: имением Закатовых самодержавно управляла Амалия Веневицкая.
Теперь болотеевские крестьяне с грустью вспоминали благодатное время, «когда старый барин в здравии был», и проклинали свалившееся на них, как божья кара, царствие «проклятой Упырихи». Через год её управления поместьем Веневицкую люто возненавидели все закатовские крепостные от старосты до последнего дворового мальчишки. Дворня, которая тряслась при звуке её шагов, клялась и божилась, что эта «сова полночная» никогда не спит. Сразу после утреннего чая, устроив традиционный разнос в людской, Упыриха ехала по работам. Ей ничего не стоило несколько дней кряду простоять на пашне, внимательно наблюдая, как поднимается земля под рожь или овёс, и зорко следя за тем, чтобы пахари не прерывали работу без нужды. Во время покосов Веневицкая так же исправно стояла над душой у косарей, и все они, как огня, боялись её бесстрастного сухого голоса: «Воды пить не бегать, дома набегаетесь! Кто раз отбежит – на конюшне вдоволь напьётся!»
Но и этого было мало: через два года своей власти Веневицкая объявила крестьянам, что мужики недостаточно работают для блага барина, и назначила шесть дней барщины – вместо прежних четырёх. Произошло это в конце июня – перед самым началом жаркой уборочной страды. Крестьяне не могли знать, что накануне полковник Закатов получил от старшего сына отчаянное письмо с угрозой застрелиться: Аркадий проиграл в карты около двадцати тысяч, и долг чести требовал немедленно их заплатить. Деньги полковник с большим трудом наскрёб, перезаложив Тришкино, продав рощу и кое-как собрав остальное у соседей-помещиков, но сделанные долги нужно было отдавать.
«Амалия Казимировна, что же нам делать? – с нескрываемым ужасом спросил полковник, глядя на экономку испуганными глазами. – Ведь эдак не перезимуем, попросту пойдём по миру! А ведь Аркашеньке ещё нужно будет выслать содержание! Мальчик же не виноват, что нарвался на шулеров, он ещё молод, неопытен, а кругом столько мошенников…»
«Владимир Павлович, предоставьте это мне, – твёрдо сказала Веневицкая. – Я не осмеливалась прежде говорить вам, но вы слишком снисходительны к своим холопам. Они ленивы и распущенны, много пьют и из рук вон плохо работают. Им необходима твёрдая рука – и всё наладится превосходно. Позволите ли вы мне заняться вашим благополучием? Я до гроба буду помнить вашу благосклонность ко мне».
«Разумеется, Амалия Казимировна, – обречённо сказал старик. – Поступайте, как найдёте нужным».
В тот вечер Болотеево долго шумело. С полсотни мужиков набилось на широкий двор Прокопа Силина.
– К барину старому пробиваться надо, к барину! – галдели они. – Влезть на двор всем обчеством и выть на коленях, покуда не выйдет! Что ж это за душегубство, изведёт ведь нас Упыриха эта чёртова, кровососица! Уж и так свету не видим, а коли шесть дён на барщине ломаться, так своя полоса и травой зарастёт! Эдак-то хороший хозяин и со скотиной не обращается, а мы хоть и подневольные, да всё ж люди! С голодухи попередохнем, так опять же прямой убыток барину будет! Прокоп Матвеич! Ну, что делать-то будем?! Что молчишь-то?!
– То и молчу, что без толку… – цедил сквозь зубы Прокоп, яростно ероша кулаком поседевшую бороду и глядя сузившимися злыми глазами в угол двора. – Что ж тут поделаешь-то… Воля барская, ведь не сама Упыриха до того додумалась, без господского дозволенья не посмела б… Дурачьё вы и есть. Нужны вы больно старому барину с вытьём-то вашим! И слушать не станет, ещё и перепорет, чтоб бунтовать неповадно было… Эх-х… Ладно, крещёные, расходиться время. Завтра, поди, в поле ехать надобно…
– Ему, Прокопу-то, оно, конечно, легче, вот и не полошится, – уныло рассуждали мужики, расходясь с силинского двора. – Силины богатые, их и Упыриха тронуть не захочет, на оброке оставит, без барщины… Богатому всюду хорошо, что и говорить…
Предсказания мужиков сбылись. Спустя неделю Веневицкая сама призвала в контору Прокопа Силина, проговорила с ним за запертой дверью более часа, а потом выяснилось, что семья Прокопа одна из всех болотеевских оставлена на оброке.
– Деньгу, поди, ведьме дал! – шипели завистники.
– Да она и без денег этак-то оставила б, – возражали те, кто были поумней. – Силины оброка-то больше выплатят, чем на барщине наработают. У них вон и земля хорошая старым барином дадена, и навозу конского они на неё кладут через край, и в уезде торговля хлебная у старших-то сынов… Эх, нам бы так-то!
– Ишь, куды возмечтал! Ты молись таперича, рванина, чтоб с голоду не околеть…
Прокоп Силин действительно был умным мужиком и понимал, что чрезмерно распалять зависть односельчан опасно. Пользуясь тем, что он один из всех деревенских имел на Упыриху какое-то влияние, он иногда ходил замолвить словечко за кого-то из провинившихся крестьян или выпрашивал для односельчан лишний рабочий день «на себя» во время кипучей летней страды. Веневицкая в глубине души не могла не знать, что в хозяйственных вопросах Силин умнее её, и, рано или поздно, всё же следовала его советам, всегда облечённым в форму глубочайшей почтительности. Вскоре и крестьяне уже привыкли к тому, что «наш Прокоп скажет – Упыриха пошумит, да по-евонному и сделает». Кроме того, Силин никогда не отказывался помочь самым отчаявшимся. Он давал в долг, не запоминая, и семян для посева, и молока, и муки в конце зимы, когда собственный хлеб у крестьян уже заканчивался, и не желал слушать благодарностей. Однажды он даже купил рекрутскую квитанцию на единственного сына Проньки Кривого – после чего вся Пронькина семья полдня простояла на коленях во дворе Прокопа, заунывным хором благодаря за благодеяние: Силиха тщетно пыталась выгнать благодарящих прочь. К обеду, впрочем, приехал с поля Прокоп и самолично с руганью вытолкал их за ворота:
– Не срамились бы, бестолочи! Пронька, бога бы побоялся! Твой тятька меня крестил, а я тебе, дурню, стало быть, денег взаймы зажму?! Бога благодари, христопродавец, а не меня! И чтоб духу вашего здесь не было, не то ни четверти ржи от меня к посеву не дождётесь!
Наотрез отказывался Силин помогать только пьяницам и горестные просьбы «дать на похмель» даже не дослушивал до конца:
– Иди-ка ты прочь, Данило, не вводи в грех, не то вон оглоблю от хлева возьму! Стыда в тебе нет! На вино деньгу находишь, а дети уж с голоду прозрачные! Пошёл вон, говорят тебе, ни гроша не дам!
– Матвеич, помилосердствуй! – горестно выл Данило. – Нутро жгёт!
– Ну так и подыхай с богом, семейству на облегчение! – бессердечно объявлял Прокоп. – Агафья хоть вздохнёт спокойно, рожу твою сизую не видевши…
– Матвеич, не поскупись за ради бога, дитям в пузо всунуть нечего…
– Вот дитёв ко мне и присылай, накормлю! Они – души ангельские, невинные. А сам прочь поди, смотреть на тебя невмочь, пакость!
– Тьфу, сквалдырник… Красного петуха бы тебе под застреху… – бурчал, отходя от ворот, Данило.
– Ась?.. – приподнимался Силин, и пьяницу как ветром сдувало, а Прокоп, недобро улыбаясь в сивые усы, садился на место.
– Ты один, что ль, Матвеич, вздумал обчество-то прокормить? – бурчала из избы Силиха. – Так ведь и наших доходов недостанет, чужих ртов-то многонько. Нюшку-то выдавать надобно, ай нет? Акима женить собираешься? Двадцать лет парню, давно пора, а тятька всё добро со двора чужим людям раздаёт!
– Помолчала бы ты у меня, ей-богу, Матрёна Парамоновна, – сумрачно говорил Прокоп. – Не то как раз вожжи-то со стены сыму по старой памяти… Не видишь, что времена вовсе гиблые настали? Нам с тобой нужно кажин день Бога благодарить, что у нас покуда не вовсе худо! У других-то поглядь, что деется! В каждой избе хлеб из травы с мякиной пополам! На детей посмотри, ведь в коросте все, от ветру шатаются! Пойми ты, дурища, что ежели мы давать не станем, люди-то озвереют и сами всё возьмут! Хоть и грех, а что угодно сделаешь, коли дети с голоду мрут! Так что хватай вон толокно да муку и к Агафье дуй, у ней четвёртый день печь не топлена и не варено ни мыши!.. Тьфу, и за что напасть на нас такая? Давеча я у отца Никодима спрашивал, отчего так: хорошие люди с голоду мрут, а всяка сволочь живёт себе да жиреет, как хряк в закутке, и ничего ей не деется…
– Грех это, Матвеич, – погибели для божьей твари желать, – вздыхала Матрёна и тут же интересовалась: – А что те отец Никодим ответил?
– А что он ответит… – с сердцем отмахивался муж. – У него на всё един ответ: неисповедимы пути господа… Будто я без него не знаю. А ещё сказал, что господь добрых людей к себе рано берёт, чтоб они поменьше здесь-то маялись.
– Оно и правда, верно… Что значит – человек учёный! – Матрёна тяжело вздыхала, брала горшок с толокном, отсыпала в торбу муки и шла к соседям.
– Васёнке с Нюшкой вели, чтоб не смели на посиделки китайчатые сарафаны вздевать! – летело ей вслед. – А ежели хоть одну ленту на них увижу – самую длинную крапивину выдерну да подолы позадираю, так и скажи!
– Совсем девок-то замучил! – лопалось терпение у Матрёны. – Когда ж им и порядиться-то, коли не в девичестве?! Ты ещё их в рогожку заверни и пенькой подпояшь! Дождёшься, что смеяться над ними станут, – мол, батька богатей, а дочери одну рубашку на двоих носят!
– Пусть смеются лучше, чем завидятся! – отрезал Прокоп. – Ты не слышала ль, что вон Данилка шипел? «Петуха б тебе красного», вот что! Чуть не в лицо мне! А ведь коли б не мы с тобой, они этой зимой околели б всем семейством, свой-то хлеб ещё до Святок вышел! И что ж, думаешь, один Данило этак мыслит? Коли ещё девки наши нарядами вертеть начнут – сгорят эти ихние наряды вместе с сундуками да с домом всем! Авось Данилка-то голодранец утешится тады!
Спорить Матрёна не решалась. Как ни рыдали взрослые дочери, отец так и не разрешил им шить себе сарафаны из камчи и дорогой китайки и покупать у прохожих офеней яркие ленты и перстни. Обе девушки на выданье ходили в простых рубахах, украшенных лишь вышивкой, и домотканых, крашенных луковой шелухой юбках. Женатые сыновья, жившие с отцом, не смели покупать жёнам дорогие подарки, и единственной роскошью, которую Прокоп позволял себе и им, были хорошие смазные сапоги.
В деревне к Силиным относились по-разному: кто искренне считал их своими благодетелями, кто ворчал, что Прокоп в сговоре с Упырихой.
«Сговорились с Амалькой проклятой, вот и кабанеют у мира на глазах, ни стыда ни совести! – бурчал на сходках Данило Шадрин. – Людям православным в брюхо впихнуть по неделям нечего – а они вона – свадьбу затевают, сына женить вздумали! Тьфу, грех один, срамота…»
Семья Шадрина считалась самой бедной даже в обнищавшем Болотееве. Серая, со дня постройки не подновлявшаяся избёнка их стояла на конце села, глядя подслеповатыми оконцами прямо в лес: зимой прямо под забор приходили отощалые волки и тоскливо выли. Крыша избы вечно была подпёрта жердями и брёвнами, но всё равно неумолимо съезжала набок – с каждым годом всё сильней. Щелястый забор каждую весну падал в палисадник, теряя жерди. Хозяин дома в молодости был лучшим плотником на всю округу, хотя и любил выпить. Однажды, находясь в небольшом подпитии, он устанавливал стропила в новом доме и упал с крыши. На беду, следом свалился и его топор, упавший прямо на хозяина и разрубивший ему правое плечо до кости. Сухожилия были перерезаны, Данило долго хворал, и рука его после этого повисла безжизненной плетью. Работать он уже не мог, без любимого дела скучал, злился и выпивал всё больше и больше. Через два года сутулая и худая фигура Данилы сделалась неотъемлемой принадлежностью деревенского кабака, куда им был стащен и не нужный больше плотницкий инструмент, и нарядная одежда, прежде водившаяся в доме, и даже понёвы и сарафаны из приданого жены.
Супруги своей Агафьи, суровой, сильной, молчаливой бабы, Данило, впрочем, побаивался и вещи из её сундука таскал украдкой, опасаясь закономерной трёпки. Но сколько ни била Агафья мужа кочергой, сколько ни осыпала его бранью, сколько ни призывала на его голову всю преисподнюю, – с каждым годом Шадрины жили всё хуже. За пятнадцать лет жизни с мужем Агафья родила двенадцать детей; выжило из них трое, и все были девочками.
«Лучше б я вас, девки, ещё в зыбке передушила… – без сердца, устало говорила по временам Агафья. – На какую вы жисть выжили у меня, что мне с вами делать-то?.. Кто вас, голозадых, замуж возьмёт? Народились вы на мою душу, выводок мышиный… хоть бы господь смилостивился да я б вперёд подохла, чтоб ваших мучений не видать… оглодки».
«Оглодки» помалкивали, покорно донашивая друг за дружкой истлевающие рубахи и юбки. Ленивицами шадринские девки не были: с малых лет они сновали по разваливающейся избе, скребя, готовя, моя, нянча друг дружку, пропадали в нехитром огороде, пока мать работала на барщине или сама, на одолженной у соседей кобыле, надрываясь над плугом, поднимала узенькую полосу каменистой земли. От пропадающего в кабаке главы семейства проку давно никто не ждал, но значительным подспорьем была Агафьина свекровь, Шадриха: известная на всю округу травница и знахарка.
Эта маленькая, сухонькая старушонка была, казалось, совершенно неутомимой. С поздней весны и до осени её невозможно было застать дома: она уходила глубоко в лес и иногда по неделям не возвращалась в избу. Бабы божились, что Шадриха и ночует там же, в лесу, под корнями вывороченного грозой дерева. Когда бабку спрашивали об этом, она только хихикала:
«Это вам, лодырницам, печку да подстилку подавай, без этого и сон нейдёт, а моим костям старым где угодно скрипеть вольготно… Вот ещё, пойду я до дому, когда медвежья трава одни сутки в году цветёт, да на весь наш лес всего три поляны с ней, и каждая от другой на семь вёрст…»
«Бабушка, а на что тебе та трава-то?» – отваживалась спросить какая-нибудь из баб.
«А вот как тебя, голубушка, животом схватит да ты своего Ванятку за бабкой Шадрихой спошлёшь, – тогда уж приду да скажу», – усмехалась Шадриха, и баба, испуганно перекрестившись, замолкала.
Невероятная чистота в заваливающейся набекрень избе Шадриных была заслугой именно бабки: та не уставала понукать маленьких внучек, гоняя их то за веником, то за водой, то за тряпками и щёлоком:
«Шевелись, девки, шевелись, скоблите, трава да коренья мокроты и грязи не любят – враз перегниют, негодны станут, чем вас на ноги подымать стану? А болести разные грязь сильно почитают, её из избы в три шеи гнать надо!»
Внучки слушались, и в избушке у Шадриных всегда было чисто: белели выскобленные полы, по стенам были истреблены клопы, бабка не терпела даже чёрных тараканов, которые, по твёрдому убеждению крестьян, притягивали в дом достаток. По стенам и под потолочными балками висели связки корешков, пучки трав и сухих цветов, пахнущих всю долгую зиму так, будто в избе не проходило лето. Внучек своему умению бабка не учила, но старшая, Устя, то и дело выполняла её мелкие поручения: растолочь в ступке корешок, проследить за кипящим в котелке отваром трав, мелко нарезать какой-нибудь стебелёк или слетать на опушку леса и надёргать там «травки золотенькой, головка синенькая, колючками». Плату за свои услуги, несмотря на яростное негодование невестки, Шадриха не брала: «Дело божеское, за что тут брать?» Крестьяне, впрочем, исправно оставляли бабке за её старания молоко, муку, яйца, и от этого уже она не отказывалась: «Коли человек сам вздумал – приму, а просить не могу».
В деревне Шадрихи побаивались, – несмотря на то, что вреда от неё отродясь никому не было, а лечила она всегда без отказа. Характер у бабки был суровый, за ней часто посылали, если нужно было угомонить расходившегося пьяницу или отнять бабу у колотящего её поленом мужика. Долгих разговоров с провинившимися Шадриха не вела и, лишь мрачно взглянув из-под платка зелёными, по-молодому ясными глазами, сквозь зубы обещала: «Не доводи, Фёдор, до греха…» Обычно этого было достаточно, чтобы Фёдор моментально трезвел и потихоньку убирался прочь из избы – отсыпаться в хлеву. Кланялись Шадрихе и при тяжких бабьих родах, и при лихоманках, она могла отчитывать кликуш, заговаривать животы у детей, лечить зубную боль и прострелы в спине, выводить чирьи, золотуху и прочие болезни. Её же звали, когда нужно было выйти на рассвете в поле и, помолившись на четыре стороны, плеснуть на гряды конопляным маслом, шепча заговор для урожая. Шадриха сбрызгивала с уголька испуганных детей, успокаивала заполошных баб, более-менее успешно изгоняла озорничающих домовых или хотя бы могла приструнить их. Единственное, на что бабка никогда не соглашалась, – творить заговоры на присуху или на остуду, как ни упрашивали бабы вернуть домой гулёну мужика или девки – приворожить пригожего парня. «Не умею! – был суровый ответ. – К Савке проклятущему идите, коли душу загубить охота, а я вам не потатчица! Вот ужо отцу Никодиму пожалуюсь!»
Единственным Шадрихиным врагом во всей округе был колдун Савка, проживающий на задворках деревни Тришкино в заросшей мохом и дикой травой избе. Это был отставной солдат, вернувшийся в родную деревню после двадцати пяти лет царской службы с высохшей, не способной к работе правой рукой и без правого же глаза. Маленький, юркий, чёрный и вредный мужичонка был, по мнению деревенских, одним из самых сильных колдунов на свете, и его всячески старались умасливать всем миром: «Чтобы только, ирод, не вредил». Бабы клялись, что душу нечистому Савка продал во время войны «с хранцузом» и что сам французский сатана учил его пакостить крещёным людям так, что русский чёрт только мог икать от зависти в своём болоте. Чуть свадьба в селе – и Савка уже первый гость, сидит в чистой, подаренной родителями жениха рубахе на почётном месте, пьёт водку, важно поглядывает по сторонам, а все опасливо кланяются ему и величают «Савелием Трифоновичем». Деревенские знали: стоит не позвать Савку на праздник – и свадебный поезд остановится на перекрёстке, как вкопанный, лошади будут храпеть, дико коситься по сторонам и, сколько ни хлещи их, – не тронутся с места. Не пригласи проклятого колдуна на крестины – и не дойдёшь с младенцем до церкви, потому что через дорогу опрометью бросится мохнатый, трёхцветный Савкин кобель или, ещё хуже, подкатится крёстным родителям под ноги. И каждому понятно, что после такого всё пойдёт прахом. Кобеля этого неоднократно пытались отравить, но тот был научен хозяином не брать пищу из чужих рук и только рычал и огрызался, морща уродливую морду. «Тьфу, два сапога пара – собака с хозяином!» – плевались деревенские, стараясь исподтишка запустить в проклятую псину хоть поленом, – но тот ловко увёртывался, бешено гавкал и уносился на кривых ногах прочь.
Савка, чувствуя подобное отношение деревенских, ходил гоголем, победоносно сверкая единственным чёрным глазом. Шадриха Савку терпеть не могла, в глаза и за глаза называла его «анчихристом поганым», но до поры до времени старалась не связываться. Терпение её, впрочем, лопнуло после Покрова, на свадьбе Трофима Силина.
Свадьба ожидалась большая и шумная: Силины всегда закатывали пир на всё село, выставляя столы прямо на своём широком дворе. Колдуна Савку за несколько дней до свадьбы пригласила, принеся богатые дары, сама силинская большуха Матрёна. Савка подарки, хоть и ломаясь, принял и пообещал не допустить «свадебной порухи».
На другой день колдун явился к Силиным в вывернутом наизнанку овчинном кожухе, выгнал всех, кроме Матрёны, из дому и начал внимательно осматривать углы и притолоки, гнусаво бормоча при этом себе под нос. Матрёна, обмирая от страха и не смея перекреститься, тревожно следила за хлопотами колдуна. Облазив весь дом, повертев стол, посчитав кирпичи в нижнем печном ряду и неодобрительно покачав косматой головой, Савка полез на полати. Вернулся торжествующий, со спутанным комком не то шерсти, не то волос в руках. Им Савка угрожающе помахал перед носом хозяйки.
– Видала? Кабы не я – плакала б свадьба ваша горючими слезами! Вот он – ведьмин колтун-то! Так я и знал, – тьфу, поганый! Печь с утра топлена? Уголья остались?
– Остались, родимый, остались, кормилец… – пролепетала Матрёна. – Снять заслонь-то?..
– Куды, дура?! Сгоришь, угольками рассыплешься! Сам я, так и быть… – с важностью сказал Савка и, деловито пошептав около печи, схватил заслонку и с грохотом швырнул её в угол, успев при этом трижды крутануться на месте и послать длинный плевок точнёхонько вслед заслонке. Затем Савка с истошным воплем «Сгинь, пропади, рассыпься, ведьмина волосня, от моего слова-а-а!» швырнул в печь ком волос, следом бросил пригоршню какой-то зеленоватой пыли – и из пода печи с треском полыхнуло огнём, повалил чёрный дым, а Силиха мешком повалилась на пол, лишившись чувств.
Конечно, на Савкины вопли сбежалось всё село. Конечно, большуху быстро привели в себя. Конечно, хлопотал вокруг Матрёны всё тот же Савка, бегая с наговорной водой и деловито брызгая на охающую тётку «с руки да с уголька». Прибежавший из конюшни Прокоп, хмурясь, согласился «добавить» Савке к уже подаренному накануне курочку да петушка, да сверх того – полмешка муки и жита. Наконец, Савка торжественно убрался, пообещав явиться перед самым отъездом свадебного поезда.
– Вот ей-богу, чуть весь дух напрочь из меня не выпер! – в тот же вечер жаловалась Матрёна бабам у колодца. – Натерпелася страху так, что посейчас все жилочки трясутся! И пусть только Прокоп теперя скажет, что, мол, пустые траты были на Савку-то! Сразу видно человека знающего! С минуту по избе покрутился, носом повёл, пошептал – и на полати! И клок-то этот поганый выволок! Оно понятно, завидущий человек подсунул… У нас, конечно, достатки, завсегда недобрый глаз на чужое-то богатство сыщется, как есть бы всю свадьбу Трофимке расстроили! А Савелий-то Трифоныч и пресёк!
Испуганные бабы крестились и с сочувствием смотрели на Матрёну.
– Тьфу, пропади он пропадом, шаромыжник турецкой… – бурчал тем же временем на конюшне Прокоп, яростно вычищая скребницей гнедого коня. – Вот ты мне, Фролыч, скажи, отчего я нутром чую, что жулик он?!
Притулившийся у двери кум многозначительно воздымал плечи. Осторожно говорил:
– Так, Матвеич, может, он и не вовсе жулик… Бабы-то, знаешь, они в таких-то вещах понимающие. Они ж и сами каждая малость того… Не в обиду будь сказано, ведьмы все до единой! Вот хоть мою Фёклу взять…
– Понимающие они… – цедил сквозь зубы Прокоп. – Дура на дуре и дурой подбита, вот и всё ихнее понимание! А Савка – он, змей, как раз умный будет! Недаром меня-то из избы выставил, а Матрёшку оставил! Я, глядишь, ещё бы и не побоялся этот ведьмин скрутыш в руки взять и со всех сторон осмотреть: не Савелий ли Трифоныч его свертел?
– Ну уж ты, Матвеич, тоже… того…
– Чего – того?! Тож небось не первый день на свете живём, кой-чего понимаем! И на порошочек, кой он в печь кинул, тоже хорошо глянуть бы! Всяки чудеса на свете бывают, только все они людскими руками творятся! А этот… Тьфу, поганец, выкинул бы я его со двора прочь, да бабьего визгу слушать неохота… Ляд уж с ним.
– И верно, Матвеич, не связывайся! – с облегчением соглашался кум. – Кто его знает, Савку, колдун он аль жулик – всё едино человечишко поганый. Хуже баб. А бабы, доподлинно тебе говорю, – ведьмы все до единой!
На том и сошлись.
Наутро колдун явился, как и обещал, раньше всех, в красной рубахе и с веткой бузины. «Девятизерновой стручок», завёрнутый в тряпицу, – верное средство от свадебного сглаза, – он передал свату и, когда все отправились в церковь, полез прямо за стол. Когда весёлый свадебный поезд вернулся из церкви и на двор Силиных повалили гости, славя «князя с княгиней», Савка-колдун был уже изрядно нарезавшись.
За стол Савка уселся рядом с молодыми. Прокопа Силина передёрнуло, но он смолчал, поймав умоляющий взгляд жены. Бабка Шадриха, которая вместе с другими женщинами и старшей внучкой Устькой суетилась около печи, взглянула на него неодобрительно, поджала губы.