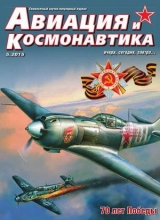
Текст книги "Авиация и космонавтика 2015 05"
Автор книги: Анастасия Ковальчук
Жанры:
Технические науки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Уже на высоте 9-8 км начал себя чувствовать более менее нормально и немного успокоился. Самолет летит, все приборы работают. Услышал голос Приходько, который долго не мог докричаться до меня. Ответил ему, что в полете оторвало фонарь и что замки от него на месте.
Постепенно снижались. На высоте 600 м вошли в облака и тут уже я начал замерзать. Все ощущения от такого полета трудно передать. Приблизительно это можно сравнить как езду на огромной скорости на автомобиле с открытым верхом или на мотоцикле. Несмотря на экстремальные условия в кабине в процессе выполнения полета и при заходе на посадку выполнял действия по управлению самолетом и системами.
Вообще тот денек выдался веселым. Помимо нашего самолета на посадку заходил еще один аварийный борт. Зашли на глиссаду, благополучно сели и зарулили на стоянку. Сильных повреждений я не получил. Единственное, во время срыва был разбит нос об ГШ. Когда снял с себя ВКК, увидел, что все тело синего цвета и вся шнуровка от костюма прекрасно прописана на нем.
По настоящему жутко стало дня через три, когда полностью осознал, что же в действительности произошло и из какой ситуации мы выбрались. Поначалу во сне даже кошмары снились. Полеты начал выполнять через две недели после инцидента. Уже 24 апреля полетел на разведку погоды, но на сверхзвук еще месяца 3-4 не летал».
Командиры полка
Капитан Д.К. Баранчук 1938 г.
Майор Е.И. Дементьев 1940 г.
Майор С.П. Субботин 1941 г.
Капитан В.В. Куракин 1942 г.
Гв. майор П.Ф. Чупиков 1943 г.
Гв. майор А.Г. Павлов 1944 г.
Гв. подполковник И.А. Овчинников 1947 г.
Гв. майор С.У. Кратинов 1948 г.
Гв. подполковник С.А. Карнач 1949 г.
Гв. подполковник А.С. Юрченко 1952 г.
Гв. подполковник М.И. Охотников 1954 г.
Гв. подполковник П.Ф. Ворошилов…. 1957 г.
Гв. подполковник Н.А. Ханбеков 1960 г.
Гв. подполковник В.Н. Шашков 1962 г.
Гв. подполковник К.Г. Лихман 1968 г.
Гв. подполковник В.А. Прудников 1970 г.
Гв. подполковник А.А. Карнаух 1973 г.
Гв. полковник Н.М. Андрусенко 1976 г.
Гв. полковник В.В. Ямщиков 1983 г.
Гв. полковник Н.И. Капитанов 1986 г.
Гв. полковник С.И. Кожевник 1988 г.
Гв. полковник В.Н, Гасан 1991 г.
Гв. полковник В.А. Зайцев 1993 г.
Гв. полковник М.М. Никифоров 1996 г.
Гв. полковник М.Б. Приходько 1999 г.
Гв. полковник К.Г. Паршаков 2002 г.
Гв. полковник В,Г. Овчарук 2004 г.
Гв. полковник В.Н. Петриди 2006 г.
Гв. полковник В.А. Приходько 2008 г.
Гв. полковник А.В, Можайский 2012 г.
Гв. полковник Е.В. Аверьянов 2014 г. по настоящее время
В этом году пять экипажей авиагруппы примут участие в воздушном параде над Москвой в честь 70-й годовщины Победы советского народа над Германией. В начале апреля пятерка МиГов совершила перелет на аэродром Хотилово, откуда будут проводиться вылеты на тренировки над площадкой в Алабино, а затем 7 и 9 мая над Красной Площадью.
Также во второй половине года гвардейцы будут задействованы в масштабных учениях ЦВО «Центр-2015». Одно из главных событий произойдет осенью, когда авиагруппа будет перевооружаться на новые управляемые ракеты Р-37, которые станут главным калибром МиГ-31БМ.
В течение последних нескольких лет вооруженные силы РФ постепенно возвращаются к полковой системе, а это значит, что в скором времени авиагруппа вновь станет 712-м гвардейским Черновицким ордена Кутузова III степени истребительным авиационным полком.
В статье использованы фото Д. Пичугина, М. Скрябина, В. Приходько, С. Сосновского и Е. Савченковой.
За помощь в подготовке материала автор выражает благодарность пресс-службе ЦВО, командиру авиагруппы гв. полковнику Е.В. Аверьянову, заместителю командира гв. полковнику М. В. Прокошеву, врио заместителя командира по работе с личным составов гв. капитану М. С. Скрябину.

Ла-5ФН Героя Советского Союза Михаила Семенцова (рис. А. Жирнова)

Илья Качоровский
Военный летчик-испытатель, бывший заместитель начальника Липецкого авиацентра
Авиация и люди. Штрихи к портретам героев

За 40 лет службы в ВВС мне приходилось непосредственно общаться со многими высокопоставленными генералами и даже маршалами. В результате этого общения о каждом из них сложилось определенное впечатление. Оно, естественно, не может быть исчерпывающей характеристикой того или иного человека, но в совокупности с тем, что я знал о нем до этого, картина, надеюсь, будет довольно верной.
Маршал авиации Иван Никитович Кожедуб

Майор И.Н. Кожедуб незадолго до присвоения ему звания трижды Героя Советского Союза, 1945 г.
Имя трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба, сбившего в годы Великой Отечественной войны 62 фашистских самолета, знают все. О боевой деятельности Ивана Никитовича, вряд ли стоит говорить еще раз. О его боевом пути в годы Великой Отечественной, а затем в Корейской войне написано немало. А уж книга «Верность Отчизне», наверное, имеется на книжной полке любого человека, в той или иной степени связанного с авиацией. А что было дальше, каким человеком был великий летчик в мирной жизни? Как сложилась его судьба?
Когда произошла моя первая встреча с Кожедубом, он занимал должность заместителя начальника боевой подготовки ВВС и имел звание генерал-майора авиации. Встрече с ним предшествовали следующие обстоятельства. Из Центра боевого применения и переучивания личного состава ВВС (в то время основной базой Центра был Воронеж) в отдел боевой подготовки главного штаба ВВС была направлена группа исследователей для выполнения одной важной работы. В эту группу был включен и я.
Перед нашим отбытием из Воронежа ко мне подошел летчик полка Виктор Шарапов и сказал: «В штабе ВВС сейчас работает Кожедуб. Если увидишь его, передай от меня привет. Скажи, что привет передал его ведомый, который был сбит и попал в плен». И Виктор рассказал мне подробности того ужасного этапа своей жизни.
Когда мы прибыли в Москву и пришли в штаб ВВС, то в ожидании приглашения на получение задания стояли кучкой в углу коридора. Неожиданно возле нас появился генерал-майор, в котором мы сразу узнали Кожедуба. Он спросил: «Вы из Центра?». Получив утвердительный ответ, сказал, что теперь будем работать вместе. После того, как короткий разговор окончился, я улучив момент, передал Кожедубу привет от Шарапова, напомнив, что тот был его ведомым во время войны.
Кожедуб как-то встрепенулся и быстро, скороговоркой, спросил:«Это, которого сбили?». Я подтвердил его догадку, а он вдруг с виноватым видом воскликнул: «Я не виноват. Зенитка сбила!». Потом спросил, как Виктор поживает, передал ему привет и сказал, что, если будет в штабе, пусть заходит. По его реакции на то, что я ему сказал, стало понятно, что человек он добрый и совестливый. Из последующих встреч с Кожедубом выяснилось, что это не все его достоинства, и одним словом можно сказать, что Иван Никитович – Человек с большой буквы.
Вторая встреча произошла, когда Кожедуб был уже заместителем командующего ВВС Московского военного округа по боевой подготовке. Тогда нам была поставлена невыполнимая задача: определить оптимальную нагрузку на летный состав путем анализа результатов тактических учений в ВВС округов. Была создана группа, в которую вошли специалисты из Центра и Института авиационной и космической медицины. Меня назначили старшим этой группы, хотя я был уверен, что таким методом мы нужных материалов все равно не получим. Но возражать было бесполезно. Впрочем, посещение военных округов в общем плане было интересным, в том числе и с точки зрения знакомства с местным авиационным начальством.
Начали мы свое «турне», естественно, с Москвы. Сразу по прибытии я пошел к командующему, которым в ту пору был генерал-полковник Горбатюк. Когда я изложил ему цель нашего приезда и пояснил, что для получения необходимых данных нам нужны материалы последних итоговых учений, генерал несколько заволновался и начал что-то путано объяснять, а потом сказал, чтобы мы шли к Кожедубу, который и представит нам необходимые материалы.
Когда я пришел к Кожедубу и повторил, что нам нужно, он поинтересовался, был ли я у командующего. Узнав, что был, спросил: «И что он вам сказал?». «Отправил к вам», – ответил я. Немного подумав, Кожедуб решительно заявил: «Коли так, то я выкручиваться не буду, а скажу, как все было… Учения мы не проводили, так как была нелетная погода. Документацию кое-какую оформили, но из нее вы никаких нужных вам сведений не извлечете».
То, что никаких сведений мы не извлечем, даже если бы учения и были проведены, я знал заранее. Но как быть с возникшей ситуацией? Доложив в штабе ВВС, что в Московском округе не проводили учения, я просто их подставлю, а этого мне делать не хотелось хотя бы потому, что Иван Никитович откровенно в этом признался. Решение пришло сразу. Я предложил Кожедубу хотя бы для проформы показать материалы, какие есть, а докладывать в штабе ВВС о том, что учения не проводились, я не буду. Кожедуб поблагодарил и крепко пожал мне руку. Поступок Кожедуба меня поразил: генерал не стал выкручиваться и «вешать лапшу на уши», а сказал все, как было.
После того, как мы «поработали» с материалами, я пошел к командующему и сказал то же, что говорил и Кожедубу. Горбатюк не мог сдержать выражение радости на своем лице, тоже поблагодарил и пожал мою руку даже двумя своими.

И.Н. Кожедуб – командир 324-й истребительной авиационной дивизии в Корее

И.Н. Кожедуб вскоре после присвоения ему звания генерал-полковника авиации
Через некоторое время Иван Никитович снова был переведен на должность первого зама начальника боевой подготовки ВВС. Эта должность была введена специально для него с категорией «генерал-полковник».
На этом месте следует сделать «лирическое отступление» и пояснить особенность положения Кожедуба в ВВС. Иван Никитович был замечательным человеком, отменным воздушным бойцом, успешно командовал дивизией в Корее. Но он не был стратегом, да и не претендовал он на высокие должности. Второй же трижды Герой – А.И. Покрышкин – был наделен и полководческим талантом, и успешно продвигался по службе в войсках ПВО. Командование ВВС решило, что негоже обижать своего трижды Героя: и как только Покрышкин получал очередное звание, создавали возможность и Кожедубу догнать собрата. Думаю, что это было правильно. Негоже, чтобы один национальный герой отставал от другого. Но Кожедуб отличался от Покрышкина мягким характером, доступностью и безотказностью. И этими его прекрасными человеческими качествами многие из его окружения беззастенчиво пользовались. Приведу несколько примеров, коим сам был свидетелем. Один мой подчиненный был переведен в Москву в боевую подготовку ВВС, где Кожедуб был первым заместителем начальника. Он решил для быстрого получения квартиры воспользоваться протекцией Кожедуба. И добился своего, получив четырехкомнатную квартиру.
Однажды, вернувшись из командировки, я пошел к коменданту для приобретения билета, так как в кассе их не было. Когда я подошел к дверям комендатуры, оттуда вышли мне навстречу несколько наших летчиков во главе с тем самым офицером, о котором я рассказал в предыдущем эпизоде с квартирой. Он мне докладывает, что нашим летчикам нужно ехать в Липецк, а билетов нет даже у коменданта, и что сейчас он будет звонить Кожедубу, чтобы тот лично поговорил с комендантом, Я ему довольно резко заметил: «Тебе не стыдно трижды Героя, генерал-полковника привлекать по столь пустяковым делам, пользуясь его безотказностью?». Но тот даже не смутился. Для него это было обычным делом. Я развернул своих летчиков обратно к коменданту и объяснил ситуацию. Решение было найдено. Пристыдив еще раз того офицера, я порекомендовал ему оставить генерала в покое. Правда, не уверен, что он выполнил мою рекомендацию.
А однажды я услышал вообще безобразную историю. Рассказал мне ее старшина, который выполнял роль адъютанта у заместителя Главкома по боевой подготовке и у его зама – Кожедуба, так как вход в их кабинеты был из одной прихожей, в которой и сидел этот старшина.
Однажды, будучи в штабе, я зашел в эту прихожую, а старшина меня спрашивает: «Товарищ полковник, вы когда поедете в Липецк?». «Сегодня вечером» – ответил я. «Сегодня после обеда из Липецка на самолете прилетает Иван Никитович, так что вы с этим самолетом можете вернуться домой». Я, естественно, принял предложение, и мы после обеда на машине Кожедуба поехали на аэродром. По пути я заметил, что некоторые сотрудники ГАИ отдавали нам честь. «Знают машину Ивана Никитовича и уважительно относятся к нашему трижды Герою» – сказал старшина, а потом подумал и добавил: «…не то, что некоторые генералы». И поведал мне такую историю: «Однажды Кожедуб возвращался из командировки во главе какой-то делегации. Я его встречал, но по дороге у моей машины лопнуло колесо, и я потерял много времени. Приехав на аэродром, увидел картину: Кожедуб стоит один в поле в окружении коробок с подарками (он летал на какое-то торжество). Все вышли из самолета, кто-то из экипажа помог вынести коробки. Затем самолет отрулил, а генералы,за которыми пришли их машины, спокойно разъехались, даже не выяснив, почему за Иваном Никитовичем машина не пришла. А он постеснялся попросить, чтобы хоть коробки донесли до командного пункта, не говоря уж о том, чтобы подвезли его самого…»
Иван Никитович был замечательным рассказчиком. Особенно выразительно излагал он «соленые» анекдоты. Когда приезжал к нам в Липецк, то в столовой после обеда «в качестве десерта» выдавал нам несколько таких анекдотов. Помню, как-то, когда он только начал рассказ, вошла официантка и задержалась по какому-то делу. Ивану Никитовичу нетерпелось завершить рассказ, и он обратился к официантке: «Маша, выйди, пожалуйста, я хочу неприличный анекдот рассказать!». Маша наша за словом в карман не лезла и решительно заявила: «Я к неприличным словам давно привыкла, а интересный анекдот тоже послушаю с удовольствием». Но при ней Кожедуб рассказывать анекдот не решился.
Однажды в узком кругу, когда шли воспоминания о войне, кто-то спросил у Ивана Никитовича о том, каким тактическим приемом он преимущественно пользовался в бою, на что тот с присущим ему юмором и долей преувеличения сказал: «На первых порах, по молодости, я точно не представлял себе, что такое ракурс. Впервые реально ощутил, что это такое, когда стали при наступлении занимать бывшие немецкие аэродромы. Там, в казармах, где жили летчики, на стенах были нарисованы наши самолеты под различными ракурсами, а чтобы понятнее было, что это такое, рядом с самолетом находилось изображение обнаженной женщины в соответствующей позе. Мне стало легче, когда я понял, что и немецкие летчики не все разбирались в теории. А если всерьез, то самый надежный прием – подойти вплотную, чтобы без прицела было ясно, что пушки направлены в цель, и расстрелять врага в упор».

Маршал авиации И.Н. Кожедуб у своего самолета Ла-7 в музее ВВС в Монино

Истребитель Ла-7 И.Н. Кожедуба
В заключение опишу нашу последнюю официальную встречу. В Центре к этому времени у меня окончательно испортились отношения с начальником, и я уже был готов уйти на другую работу. Благо и место наметилось. Внезапно бывший начальник Центра, В.А. Луцкий, «сосланный» в Монино советником начальника академии, тайком приехал в Липецк, в обеденный перерыв пришел ко мне в кабинет и доложил, что в академии создана кафедра практической аэродинамики и техники пилотирования. После чего категорически изрек: «Это твое место!». Я, в принципе, согласился, но в это время Луцкий допустил некоторые неадекватные действия, в результате которых был уволен с военной службы и уехал из Монино. Сам же я не стал хлопотать о своем переводе в академию, так как должность меня устраивала.
Вскоре я прибыл в Москву по делам и пришел к Кожедубу. Во время нашей беседы зазвонил телефон. Поговорив о чем-то с абонентом, Кожедуб вдруг говорит: «Да вот он у меня сидит». Сказав, что это генерал Лобов – начальник кафедры ВВС в Академии имени Фрунзе, Кожедуб передал мне трубку. Вскоре после этого разговора я оказался на кафедре у Лобова. Ну и, соответственно, деловые контакты с Кожедубом прекратились. А через некоторое время у меня и еще двух преподавателей кафедры обозначились 50-летние юбилеи. В частности, у Алексея Прохорова – известного летчика, дважды Героя Советского Союза. А так как Прохоров и Кожедуб дружили семьями, то на нашем юбилее мы снова пообщались.
Ну а следующая встреча была последней. Случайно в вечерней газете я обнаружил маленькую заметку, извещающую о смерти трижды Героя. И никаких указаний о месте прощания и похорон. Я тут же позвонил Прохорову. Он сказал, что прощание состоится в Центральном доме Советской Армии, а похороны на Новодевичьем кладбище. Однако когда на другой день я приехал в ЦДСА, прощание уже закончилось. Я подошел к П.С. Кирсанову (маршал авиации, у которого Кожедуб был замом, когда тот занимал должность зам. Главкома по боевой подготовке) и объяснил свое опоздание тем, что вообще случайно узнал о кончине Кожедуба из маленькой заметки в вечерней газете, а по телевизору ничего не передали. Кирсанов, а он был председателем похоронной комиссии,очень удивился и сказал, что в средства массовой информации все сведения были поданы. На кладбище я был еще раз удивлен тем, что хоронили трижды Героя не в воинском пантеоне, а на новой территории, среди никому не известных личностей. Это был 1991 г. – время начавшейся смуты, и властям, видимо, было вовсе не до Героев. И лишь несколько лет спустя, при очередном посещении кладбища, я обнаружил могилу Кожедуба уже среди военачальников высокого ранга, не так далеко от могилы второго трижды Героя – Александра Покрышкина.
Р-40 c красными звездами
Владислав Морозов

Характерный силуэт истребителя Р-40 основной массе современных молодых людей знаком, в основном, по компьютерным играм и американским фильмам вроде эпической драмы «Перл-Харбор». А ведь на этих самолетах в годы Великой Отечественной войны защищали небо нашей Родины наши отцы и деды.

«Томагавк» в зимней окраске с установкой ракетных снарядов под крылом
Поставки авиатехники по ленд-лизу в СССР имели свою специфику. Да, в конечном итоге, доля импортной техники в авиачастях советских ВВС во время войны редко превышала 10%, хотя были и исключения: например, ВВС Северного флота, где в 1942-1943 гг. ленд-лизовские самолеты составляли до 80% авиапарка. В 1944 г. доля «импорта» там несколько уменьшилась, но она все равно осталась на уровне, превышающем 50%). Однако надо помнить, что львиная доля поставок истребителей по ленд-лизу пришлась на 1941-1942 гг., когда альтернативы им просто не могло быть. Огромный истребительный авиапарк ВВС РККА, накопленный более чем за пять предвоенных лет, был потерян в течении нескольких недель лета 1941 г. из-за ряда глобальных стратегических ошибок и элементарной недооценки противника. Причем большинство советских истребителей было уничтожено на земле или брошено при отступлении.

Р-40М «Киттихок» на фронтовом аэродроме
К осени 1941 г. дефицит матчасти ВВС РККА достиг своего пика. Производство истребителей новых типов (которые в тот момент были еще откровенно «сырыми» и почти по всем статьям уступали немецким Bf-109) еще только предстояло развернуть – большинство авиационных и авиамоторных заводов находилось в процессе эвакуации. И-16 и И-153 (которые элементарно не могли догнать даже современный немецкий бомбардировщик, типа Ju-88 или Do-215) считались в тот момент прямо-таки «чудом техники», при этом многие истребительные и штурмовые полки воевали на И-15бис, а кроме того из училищ и запасных полков выгребалась вообще любая способная летать матчасть (достаточно вспомнить что на южном направлении, в частности, в Крыму, в 1941-1942 гг. в качестве легких штурмовиков применялись безнадежно устаревшие И-5 и даже тренировочные УТ-1).
В этот критический момент как раз и начались поставки авиатехники по ленд– лизу. А первыми импортными истребителями, прибывшими в СССР стали «Харрикейны» и Р-40. Интересный нюанс – в первый год войны практически все Р-40 поступали в СССР в счет британских, а не американских поставок (исключением была разве что партия из двух десятков Р-40 купленных в сентябре 1941 г. непосредственно в США вне программы ленд-лиза). Причина этого проста. В 1940 г., когда шла «Битва за Англию», англичане поспешили проплатить поставки истребителей из США. Однако после окончания «Битвы за Англию» (англичане очень условно выиграли ее чисто «по очкам», да и то исключительно потому, что немцы приступили к выполнению плана «Барбаросса» и с начала 1941 г. начали переброску войск, в т.ч. и авиации на Балканы и к границам СССР) и столь большого количества истребителей им уже не требовалось. Кроме того, Королевские ВВС вдруг стали очень разборчивыми в плане летных характеристик получаемых по ленд-лизу самолетов – в их истребительные части начал массово поступать Спитфайр Mk.V и все, что уступало по боевой эффективности этому типу истребителя, их теперь категорически не устраивало.
После фронтовых испытаний в Англии Р-40В/С (а позднее и Р-40Е) англичане признали самолеты этого типа «ограниченно годным» (т.е. непригодным для применения в «частях первой линии RAF» в зоне Ла-Манша, где Р-40 однозначно уступали немецким Bf109F). Совсем же отказываться от поставок Р-40 англичане не стали (все– таки они оплатили вперед производство нескольких тысяч этих истребителей), но направляли их исключительно на североафриканский и тихоокеанский ТВД, где на них летали «туземные» летчики из британских доминионов: южноафриканцы, канадцы, австралийцы и новозеландцы. Естественно, эти машины передавались в СССР и авиачасти «Свободной Франции» (кстати, полученные в счет английского заказа в 1941-1942 гг. «Томагавки» и «Киттихоки» можно легко отличить на фото по стандартному для RAF двухцветному камуфляжу верхних поверхностей, в то время как большинство произведенных в США Р-40 были в однотонной окраске).

Р-40В/С в НИИ ВВС РККА. 1941 г.

А.А. Матвеев у «Киттихока» в зимнем камуфляже, февраль 1942 г.

Еще один «Киттихок» 154-го иап в зимнем камуфляже
Всего Красная Армия с конца августа 1941 г. по декабрь 1944 г. получила 2425 Р-40 различных модификаций, из них 2097 – из США. ВВС и ПВО СССР в 1941 г. получили 230 английских «Томагавков» и американских Р-40В/С, а также 12 Р-40Е; в 1942 г. – 17 «Томагавков» и 487 Р-40Е и Р-40-К; в 1943 г.-939 Р-40Е, Р-40К, Р-40М и P-40N, а в 1944 г. – 446 Р-40М и N.
Р-40 шли в СССР по двум основным каналам. Первым и, поначалу основным, способом была доставка разобранных самолетов из Англии и Канады в СССР на кораблях северных конвоев, приходивших в Мурманск и Архангельск, начиная с августа 1941 г. Этот канал поставки истребителей действовал до самого конца войны, при этом изрядная часть поступивших по данному пути самолетов оставалась в ВВС СФ и на Карельском фронте. Он был самым трудным и затратным в плане потерь грузов в пути.
В середине 1942 г., когда начала функционировать знаменитая трасса «АЛСИБ» (Фэрбенкс – Берингов пролив – Красноярск). Полностью боеготовые Р-40 попытались перегонять своим ходом по этому маршруту. Результат оказался разочаровывающим. Хотя Р-40 и были первыми истребителями, перегнанными по этой трассе, их двигатели оказались менее приспособлены к сибирским морозам, чем моторы Р-39, Р-63, А-20 или В-25 (подробнее см. ниже). Как следствие этого, с октября 1942 г. по март 1943 г. по «АЛСИБу» перегнали всего 49 Р-40К, при этом 5 машин этого типа было разбито при перегонке, а еще 15 сразу же потребовали ремонта разной степени сложности (в основном по части винтомоторной группы). В итоге, от перегонки Р-40 по северному маршруту отказались.

Р-40В/С
С июня 1942 г. и до конца 1944 г. основным каналом доставки Р-40 в СССР стал «южный маршрут». Разобранные истребители (не только Р-40) из США прибывали морем в оккупированый английскими и советскими войсками Иран, где собирались на авиасборочном заводе в г, Абадан, облетывались и затем перегонялись в СССР.
Специфика поставок определила и размещение учебных подразделений для переучивания на новую импортную технику. Первой такой частью стал 27-й запасной авиаполк, сформированный в августе 1941 г. и ориентированный исключительно на «Харрикейны» и Р-40. Размещался 27-й ЗАП на аэродроме Кадниково в 140 км от Вологды. В полк поступала, в основном, техника, прибывающая северным конвойным путем. В мае 1942 г. 27-й ЗАП был расформирован, переучиванием и формированием советских авиачастей на импортные типы истребителей (Р-40, Р-39 и «Харрикейн») начала заниматься 6-я запасная авиабригада размещенная в г. Иваново. При этом в 6-й ЗАБР формировались не только фронтовые, но и перегоночные авиаполки, а матчасть туда поступала не только с Севера, но позднее и с АЛСИБа. С осени 1942 г., после того как большая часть Р-40 начала поступать в СССР через Иран, переучиванием на Р-39 и Р-40 начали заниматься развернутые на территории Азербайджана 25-й ЗАП в г. Аджи-Кабул и 11-й ЗАП в Кировабаде.
Первые Р-40 появились на советско– германском фронте в ноябре-декабре 1941 г., на самых тяжелых его участках – под Москвой и Ленинградом.

Ккомандующий ВВС 8-й Армии генерал-майор А.П. Андреев, командир 154-го иап А.А. Матвеев и П.А. Покрышев

А.П. Андреев и А.А. Матвеев обходят стоянку самолетов 154-го иап

Комэск 154-го иап майор П. Покрышев на фоне Р-40Е комполка А. Матвеева. Лето 1942 г.
На Ленинградском фронте первыми получили Р-40 полки 39-й ИАД – 17-й, 154-й и 159-й. Из них наиболее знаменит 154-й ИАП. Командование полком 11 ноября 1941 г. принял майор Александр Матвеев (1910 г.р., в качестве комиссара эскадрильи и авиаполка воевал на Халхин-Голе и в Зимней войне с финнами, за что в 1940 г. был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. В начале Великой Отечественной войны летал на МиГ-3). Личный состав полка тоже подобрался довольно опытный (многие пилоты имели летный стаж 3-10 лет и участвовали в войне с Финляндией). Именно в 154-м ИАП воевал будущий дважды Герой Советского Союза Петр Покрышев (2 победы во время «Зимней войны», к июлю 1942 г. имел на личном счету 11 личных и 7 групповых воздушных побед, а всего за время войны сбил 22 самолета противника лично и 7 в группе. С июня 1943 г. – командир 159-го ИАП) и Герои Советского Союза П. Пилютов, А. Чирков, Ф. Чубуков, А. Горбачевский.
В течении ноября 154-й ИАП осваивал Р-40В в 27-м ЗАП на а. Кадниково, а 26 ноября 1941 г., получив 20 «Томагауков-ll» (часть самолетов были «подержанными», уже полетавшими в RAF) полк вернулся на Ленинградский фронт, на аэродроме Подборовье. При этом приступить к боевой работе без проблем не удалось. Еще в запасном авиаполку пилоты и техсостав хорошо поняли, что импортная техника, мягко говоря, «не дружит» с русской зимой, тем более что все полученные 154-м ИАП «Томагауки» были в тропическом, африканском исполнении и несли желтокоричневый камуфляж с голубой окраской нижних поверхностей. На морозе замерзала гидросмесь и колеса шасси отказывались убираться или выпускаться, трескались пневматики колес, разряжались аккумуляторы, ломались шестерни приводов генераторов, лопались соты маслорадиаторов.

Р-40Е
Для ремонта радиаторов потребовался серебряный припой, которого в полку, разумеется, не было. А. Матвееву пришлось посылать по ближним деревням механиков для обмена на бумажные деньги или продукты еще ходивших в обращении серебряных монет выпуска 1920-х гг. Обмен оказался успешным, техника была отремонтирована, но особисты отправили по инстанции донос на комполка (якобы тот «своими самовольными действиями подрывал денежную систему СССР»). К счастью, эта «телега» осталась без последствий.
Решив в течение месяца проблемы с матчастью, 154-й ИАП приступил к выполнению боевых задач, основными из которых были прикрытие «воздушного моста» по которому в блокадный Ленинград летали «Дугласы» и ТБ-3 (транспортные самолеты сопровождались на всем маршруте – и туда и обратно), а также железной дороги на участке Подборовье-Тихвин. Только за декабрь 1941 г. 154-й ИАП выполнил 309 боевых вылетов на сопровождение транспортников, которые практически не понесли потерь и перевезли за это время в Ленинград 754 т грузов и вывезли обратными рейсами на «Большую Землю» 6725 человек. Немцы, которым так и не удалось сорвать воздушные перевозки, отметили профессионализм прикрывавших «воздушный мост» советских пилотов (разумеется без указания на конкретную часть) в своих оперативных сводках, что говорит само за себя – ведь 154-му ИАП противостояли отнюдь не новички, а профессионалы из эскадры JG54 «Grunherz», летавшие на новейших Bf109F.

Фото из личного альбома А.А. Матвеева

Р-40Е из состава 154-го иап (самолет командира полка А.А. Матвеева)
В умелых руках Р-40 оказался способен противостоять самой современной вражеской технике. Например, 17 декабря 1941 г. группа из 5 «Томагауков» 154-го ИАП, ведомая комэском П, Покрышевым, прикрывая группу из нескольких Ли-2 успешно отбила атаку 9 «мессеров», при этом Покрышев сбил один Bf109F, а советские истребители и транспортники потерь не имели. Другой комэск П. Пилютов в тот же день, прикрывая в одиночку девятку Ли-2, отразил атаку 6 «мессершмиттов», сбив (по др. данным – повредив) 2 Bf109F, после чего сумел благополучно посадить свой подбитый «Томагавк». В конце января 1942 г. П. Пилютов предположительно сбил одного из «экспертов» JG54 – имевшего более 50 побед гауптмана Ганса Экерле, который попал в плен. А 20 января 1942 г. капитан А. Чирков из 154-го ИАП таранил своим «Томагауком» немецкий Не-111 и остался жив – это был первый таран, совершенный в СССР на Р-40.
С начала января 1942 г. 154-й ИАП перебазировался на аэродром Плеханово, начав прикрытие наземных объектов и, прежде всего моста через р. Волхов. С этой задачей полк вполне справился.
В феврале 1942 г. 154-й ИАП получил для восполнения потерь первые Р-40Е-1 «Киттихок» (к концу лета 1942 г. эта модификация Р-40 стала в полку основной). По состоянию на 12 марта 1942 г. в 154-м ИАП имелось 7 исправных «Томагавков» и 7 «Киттихоков», 8 «Томагавков» было к этому времени потеряно, а еще 5 стояли «на приколе» из-за выработки ресурса двигателей. Аналогичная ситуация была и в других полках.

Истребитель Р-40Е из 154-го иап, на котором летал майор П. Покрышев. 1942 г.

Истребитель Р-40Е подполковника А. Матвеева, командира 154-го иап. Лето 1942 г.

Командир 154-го ИАП подполковник А. Матвеев у своего самолета. Лето 1942 г.
Здесь ВВС РККА впервые столкнулись с еще одной неприятной особенностью ленд-лиза. Дело в том, что поставленная из США техника в той же Англии использовалась по принципу «полетал и выбросил». Полученные по ленд-лизу самолеты (а равно танки, автомобили и прочее) использовались или до выбытия из строя в результате боевой потери, или до полной выработки ресурса. В последнем случае техника просто списывалась, а вместо нее завозилась новая. К примеру, в Северной Африке англичане компенсировали все боевые и эксплуатационные потери тех же Р-40 исключительно за счет новых поставок из США, а отнюдь не за счет ремонта. А уж коли технику не предполагалось ремонтировать, то к ней, разумеется, не поставлялись запасные авиамоторы и прочие запчасти.








