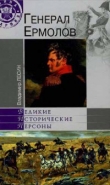Текст книги "Шапка Мономаха"
Автор книги: Алла Дымовская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Василицкий допускал вполне, что и радикальные лекарства не помогут, и конец настанет все равно. Но по крайней мере держава не умрет на коленях, и очень даже возможно, что сохранится хоть в каком-нибудь виде. Удержать то, что еще можно, спасти хоть малую часть. Оттого, вынашивая свой богомерзкий, предательский план, он, подлый человек, как именовал сам себя Василицкий, и остановился на кандидатуре твердолобого Склокина. Как только не честили этого престарелого генерала – в основном гражданские: упрямой дубиной, и сатрапом в погонах, и даже противотанковым ежом в сапогах. И много художеств было на счету Склокина, и характер вполне соответствовал фамилии. К тому же генерал пребывал в святой уверенности царских фельдмаршалов, что солдат в мирное время в полную силу должен благоустраивать частную жизнь своего начальства. Оттого стройбаты возводили храмовые дачи и самому Склокину, и тем из его окружения, к кому благоволил «старый дурень», да еще бани и бассейны, беседки и сады. И маршировали орды денщиков, и сотрясались армейские интендантства. Вообще Склокин мало различал во вверенных ему материальных ценностях свое и общественное и пользовался во весь немалый рост. Но одно. И ста мешков с полновесной конвертируемой деньгой и всех чудес света не достало бы, вздумай кто из вражеского стана подкупить зловредного генерала, и дорого бы стоила такая попытка тому, кто бы вздумал. Бить своих и «заимствовать» из казны Склокин допускал, но вот продавать своих – это уж, брат, дудки. Тут старый генерал был непреклонен, как могильный крест. И вообще видел лишь одно «белое-черное» и рассуждений не любил. И теперь вовсе не собирался только отбиваться от супостатов с Востока и Запада, а желал непременно тех супостатов истребить и в как можно большем количестве. У Склокина даже тени сомнения не возникало в жестких, солдафонских очах, что стоит воевать иначе. И только он имел шанс спасти из огня хоть что-нибудь.
Весь следующий день продолжалась катавасия. Делегации, ноты протеста, бесконечные совещания и кипучая деятельность в самых бессмысленных местах. Только в Генштабе было сравнительно тихо. Да и чего суетиться, когда у Склокина всегда боевая готовность номер один. Будущий генералиссимус уже принимал меры, близкие к крайним, не дожидаясь вручения ему диктаторского чина. Василицкий не стал осаживать генерала. Все равно в течение дня до Склокина никому не будет особенного дела. Пусть тренируется на новую роль.
И лишь ближе к вечеру Василицкий, зная, что и когда надо сказать, уговорил, наконец, Ермолова ехать в Огарево.
– Владимир Владимирович, на сегодня от вашего сидения все равно толку не будет. А когда карусель завертится, у вас и вовсе не выйдет времени на личные дела, – как бы невзначай сказал Василицкий, ему ли было не знать об истории с Шурой Прасоловым.
И Ермолов купился. Погрустнел, кивнул согласно. Велел подавать кортеж. И ровно в семь часов вечера выехал в Огарево. С собой неожиданно для всех увез и Альгвасилова. Видимо, собирался работать в ночь. Но Василицкого это обстоятельство не взволновало. Витя никак не мешал его планам, скорее наоборот, для заговорщиков мог оказаться полезен, никто из генералов с составлением официальных бумаг не дружил.
Ровно в восемь тридцать вечера Василицкий прибыл на засекреченную дачную базу, до назначенного времени оставалось еще девяносто минут. Генералы – народ пунктуальный, прибудут тютелька в тютельку, особенно Ладогин, тот даже на невинный вопрос «который час?» дает ответ с точностью до секундной стрелки своего хронометра. Пока же Василицкий затребовал к себе Данилу Егорыча и велел доставить записи с переговорами огаревской резиденции. За два часа с хвостиком ничего экстренного приключиться не могло, но Василицкий потому и занимал свое место, что не оставлял случаю ни лазейки, ни возможности. Мальвазеев включил аппаратуру и дешифратор, несколько пренебрежительно поведя плечом – перестраховочные затеи шефа иногда выходили обременительными. Вот и теперь вместо того, чтобы расслабиться слегка перед бессонной ночью, изволь сидеть и слушать, как отставной козы президент воркует со своими домашними. Да еще охрана доложила: со вчера прибыл этот «ближний» поп, а с ним еще какой-то кучерявый, тоже в рясе, в списках они были, пришлось впустить. И наверняка на записи одна душеспасительная блевотина с пустопорожними проповедями. Впрочем, ухмыльнулся про себя Данила Егорыч, у президента еще будет времечко для богонравных бесед, и очень много. Так что попы ему отныне самая подходящая компания.
Так и вышло. Занудный поп и времени другого не сыскал, как примотаться к Ермолову, чтоб, мол, послушал прибывшего с ним юродивого. Даже Василицкий малость поскучнел. Но раз решил, теперь ни за что не отступится, будет крутить эту тягомотину до конца. И Данила Егорыч приготовился считать с умным видом мух. Но только и вышло, что приготовился, как из мягко звучавшего динамика хлынуло такое, отчего скуку и нудьгу с лиц обоих слушателей как ветром высвистело. В один миг. Сначала думали, нарочный розыгрыш, потом запустили сначала, потом еще раз. Потом в безмолвии Василицкий повертел пальцем у виска, потом схватил себя за уши.
– Это что же такое будет, а, Данила Егорыч? – с сильно растерянным видом только и смог сказать генерал.
– Мамочки мои! – И это все, что в свою очередь нашел ответить Мальвазеев.
– Мамочки мои, мамочки мои! – как заведенный повторил за ним еще недавно уравновешенный Василицкий, и глаза его приобрели совершенно безумный оттенок. – И что я теперь воякам нашим скажу? Что скажу, а, Данила ты мой Егорыч?
– А ничего, товарищ генерал, – на автопилоте, с явным замедлением в речи, посоветовал Мальвазеев, – пущай коллеги ваши бравые сами слухают, вот как мы сейчас, и сами ополоумевают. Чтоб жизнь с сахаром не путали.
Скоро подъехали к крыльцу и черные, длинные лимузины, друг за дружкой с минимальным интервалом. Вот что значит воинская дисциплина, восхитился Василицкий, стараясь отвлечься хоть на какую ерунду. Приезжие прошли внутрь стройной колонной, по чину, однако маршал в этот раз пропустил генерала вперед. А за столом круглым вместо напутственной речи их ждал наскоро сервированный закусон с выпивкой, и лица заговорщиков от этого приняли несколько недоуменный вид.
– Никуда не поедем, – кратко сообщил им Василицкий и жестом пригласил садиться.
– Это еще почему? – первым вознегодовал ракетный маршал Полонезов, однако тут же и потянулся к рюмке, повинуясь условному рефлексу.
– Потому. Слушайте. – И не дожидаясь, пока званые гости усядутся, Василицкий включил запись. Все равно с первого раза не дойдет, если уж ему с Егорычем пришлось крутить трижды.
Прослушали целых восемь раз, с паузами и отдельными дополнительными повторениями, заодно уговорив бутылку водки с ледяной слезой. Пока Василицкому самому не надоело.
– Ну что, моравские братья, накрылось наше Огарево, – произнес он как факт.
И тут генерал армии Склокин, «старый дурень» и противотанковый еж, расстегнул мундир, вытер вспотевшую шею и лоб гигантским клетчатым платком и вдруг с облегчением вздохнул:
– Что же, Бог миловал меня, старика, – и плеснул себе еще рюмочку.
Это была новость так новость. Василицкий, право слово, не ожидал. Ведь только что мимо носа у «старого дурня» пронесли лавры Пиночета, а он и счастлив. С иной стороны, вынужденный думать по долгу службы о людях самое плохое, Василицкий был рад, что ошибался в старом генерале. Хотя боялся более всего именно его реакции на изменившиеся обстоятельства. Однако тут Ладогин, как всегда, немедленно взял корову за вымя:
– Выходит, один только Ермолов и может всех спасти. И только в том качестве, в котором он есть сейчас. И значит, смещать его нельзя ни в коем случае.
– Именно. Беда лишь в том, что Володя и оба этих полоумных богослова и понятия не имеют, что им делать. Письмо они, вишь, расшифровать не могут.
– Так ведь, блин! Мои да ваши шифровальщики… Да в пять минут!.. – влез тут же Полонезов.
– Господь с вами, товарищ маршал, какие шифровальщики? Это вам что, координаты вражеских целей? – перебил его не очень вежливо Василицкий. – Тут надо действовать тонко. Пусть длиннорясые сами землю роют, и уж они будут поспешать изо всех сил. А мы их, так сказать, поведем под нашим контролем. Мало ли что, уж очень с ненадежными материями имеем дело. Ждали мы чуда спасительного, так вот вам, пожалуйте, чудо. На то и Россия, чтоб чудеса… И я его, чудо то есть, принимаю. Вопрос один – насколько вы сподобитесь уверовать в эту потустороннюю, на первый взгляд, галиматью.
– Отчего же не поверить. На войне и не такое видали, – медленно, будто вспоминая что-то, произнес Склокин. – И если это кровушку солдатскую сбережет, то пусть хоть черт, хоть ангел.
– Эх ты, о солдатиках вспомнил, – не удержался от каверзного слова Полонезов. – Не твои ли чистопогонные в поте лица грыжу надорвали, когда дачку на Николиной Горе возводили?
– То пот, его не жалко. А то кровь. Это же понимать надо, – сурово оборвал его генерал армии Склокин.
Глава 10
Город золота
Будь славен ты, град златой, под чистым небом Босфора, купающийся в волнах из лазури и света! Затаившийся на краю Византий, ныне центр вселенной. Некогда божественным Константином возрожденный в честь имени его. Оплот мудрости правой веры, сердце мира, Христов святой престол, завещанный императором Феодосием сыну своему Аркадию. Константинополь.
Царство пурпура и шелка, порфира и благовоний. И золота, золота, золота! Столько золота, сколько может нести на себе лик земли, и еще столько, и еще великое множество раз. И царские покои, и дворец Константина, и церкви, и сады, и даже самые захудалые харчевни заметены золотой пылью. Она бьет в глаза, щекочет ноздри, дразнит роскошью и, как солнечный диск, принадлежит всем. Он, Бен-Амин из Туделы, скромный странник на путях господних, влюбился в град златой с первого взгляда. А повидал и грозные улицы Толедо, и великолепие Гранады, и ученость Кордовы, и строгое величие Коринфа и Афин. А вот влюбился здесь и остался, хорошо бы навсегда. Он мастер на все руки, Бен-Амин из Туделы, а более всего умелый ювелир, и где же быть ему еще, как не подле золота? Безмерного, поправшего хороший вкус, бьющего через край, в шелках и излишестве – золота! И даже главные ворота города носят название Золотые, и главный покой божественного императора Алексея именуется не иначе как «золотой триклиний».
И за десять лет он, небогатый странник-иудей, сумел и завоевать ответную любовь, и покорить Константинополь. Конечно, ему, инородцу и иноверцу, путь к верховным, придворным и чиновным должностям был закрыт. Не мог стать Бен-Амин доместиком-охранником (да и не почитал он оружия) и сделаться протостратором, служителем при царских особах ему тоже выпало запретным. Год-другой проходил он в драгоманах-толмачах при комесе, управлявшим казной, а после уж добился и признания своего подлинного таланта золотых дел мастера. И это несмотря на то, что полон был град несравненных умельцев, со всех концов мира прибывших к императорскому престолу, хранителей вековых секретов и хитростей своего ремесла. А только всем им оказалось куда как далеко до странника из Туделы. Потому что Бен-Амин только один ведал не хитрости и не секреты, а настоящие тайны и сущности благородных камней и металлов. И род свой вел от тех древних строителей и чеканщиков, венчавших золотом Иерусалимский храм, кто заставлял без тесла и топора ложиться огромные камни как бы сами собой, кто под молитвенные песни голыми руками свивал священные орнаменты, кто ваял скрытые статуи золотых серафимов. А в бытность свою при Кастильском дворе старый и мудрый Ицхак, тоже придворный ювелир и знаток «тропы имен», научил молодого тогда Бен-Амина и страшным, непроизносимым тайнам высокой каббалы. Правда, и завещал не употреблять священное знание без прямой нужды.
И он, Бен-Амин из Туделы, обходился и так. Руки его пели за работой, и золото пело вместе с ними. Кто лучше него может сковать ажурные цепи? Кто точнее огранить сложный и трудный камень? А женские ожерелья, для самой императрицы Евдокии и принцессы Анны, ради красоты которой он, почти уже клонящийся к старости, готов был трудиться и задаром.
Он нашел здесь дом, и какой дом! Его новая вилла с многоярусными террасами и восточными садами, у самого берега Пропонтиды, не уступала теперь в роскоши домам и многих потомственных богачей, и вот недавно сам великий дука-адмирал ответил из носилок на его поклон. Да и Бен-Амин тоже уж позабыл, когда ходил он пеший по улицам Константинополя. Разве что от Дворца правосудия до «пурпурной палаты», чтобы раз в году, следуя традиции, получить из рук самой императрицы как великую милость алую, затканную золотом одежду.
Его вознесение свершилось, когда на место неугодного народу Византии Третьего императора Никифора заступил блистательный Алексей из рода Комнинов и тем прекратил смуту и навсегда отодвинул от трона потомков Македонской династии. И к его двору, непомерному в чванной роскоши утверждающей себя новой власти, очень кстати пришелся невиданный иудейский мастер. Только на императорскую семью, с ее Августами и Цезарями, младшими братьями и родственниками, на управителя-севастократора тратил свое умение придворный ювелир, и щедрость их вознаграждения не знала границ. Здесь, в граде Константина, разбогатев, вскоре он и женился на дочери богатого еврея-купца, ввозившего корабельный лес для императорского флота. Мариам, нежная и кроткая, несколько робкая для жены столь приближенного ко двору человека, прожила, однако, с ним недолго. И умерла в муках, оставив Бен-Амину в поминальное утешение единственного сына, Ионафана. Теперь мальчику было уже почти шесть лет, и он служил настоящей отрадой и надеждой своему отцу.
А в остальном придворный ювелир Бен-Амин из Туделы вполне чувствовал себя счастливым. Вот и переделка сада по новой моде стоила ему недешево, но уж он мог позволить себе расход и утереть нос соседям. Впрочем, от перестройки сам Бен-Амин видел мало толку. Помпезные беседки и колоннады, фонтаны и скамьи – все было из драгоценного порфира и белоснежного мрамора, с позолотой и серебром, словно в персидской сказке, но громоздко, неудобно и совершенно непригодно для практического использования. Однако положение его требовало жертвы, и Бен-Амин не поскупился на ненужные украшения. Тем более что некая потаенная печать на его сердце требовала отвлечения от греха опасного любопытства.
А случилось так, что, может, всего-то год тому назад, вряд ли более, прекрасная принцесса Анна, луноликий философ в женской юбке, возжелала себе парадный убор для приема высочайшего посольства от германского императора. Ожидались и папские легаты, и епископ Кремоны, знатный ритор и теолог, и принцессе непременно хотелось поразить их взоры непревзойденной роскошью наряда, а слух – высоким красноречием богословского спора.
Тогда по императорскому приказу и были вытребованы из подземных сокровищниц самые чистые драгоценные камни и самые крупные жемчуга. В мастерскую Бен-Амину несли их царские гонцы целыми горстями, а он, не доверяя в таком щепетильном деле подручным, самолично отбирал их по размеру и качеству. Бен-Амин трудился не покладая рук, а сынишка его Ионафан, любопытный, как все избалованные дети без материнского присмотра, крутился возле крытого голубым шелком стола, всматривался в игру камней. И иногда хватал то один, то другой, подносил к тонкому личику, щуря глаза, ловил искры света в их драгоценных гранях. Бен-Амин ему позволял, зная, что сынок его, несмотря на совсем еще детский возраст, ничего не затеряет и не заберет с собой, потому что пока не понимает их ценности, а для игр у него имеются превосходные и куда большие размерами кусочки разноцветного хрусталя.
В тот роковой для всех день императорский ювелир Бен-Амин из Туделы так увлекся составлением подбора для головного ожерелья, что на некоторое время совсем выпустил Ионафана из виду. И обернулся только на пронзительный, полный испуга и боли, крик своего мальчика. Сынишка Ионафан крутился на месте волчком, прижав накрепко ладошки к глазам, и верещал, как ушибленный щенок. Бен-Амин вскочил из-за рабочего стола, подхватил на руки мальчика, попытался успокоить. Долго старался, шептал на ушко древние заклятия от дурного сглаза, щелкал пальцами, укачивал, как младенца, и наконец Ионафан перестал кричать и плакать и позволил отцу отнять его маленькие ладони от лица. Ничего страшного не было. Вообще ничего не было. Просто детская заплаканная мордочка, несколько грязноватая от беспрестанной беготни и слез, и только. И тогда Бен-Амин, перепуганный отец, стал спрашивать. И тогда сынишка показал на закатившийся в угол яркий зеленый камень. По виду – изумруд из северных стран. Ионафан пожаловался на свою игрушку:
– Кусается! – и чуть было опять не заревел.
– Кто кусается, мой янике? Разве этот зеленый камешек – злая собака? Он даже не твоя ручная белка Пина. Он не может кусаться, – успокоительно и нежно сказал Бен-Амин.
– Кусается! Кусается! – снова пожаловался мальчик и пояснил: – Он ужалил меня в глазки! Было больно! Нет, очень страшно! И-и-и!
И сынишка Ионафан заплакал, прижавшись к отцовскому плечу. Бен-Амин утешал его как мог. А после, когда мальчик совсем пришел в себя, кликнул нянек и приказал увести малыша и дать ему немного теплого разбавленного вина. И отвести в сады – поиграть возле купальни, только ни в коем случае не выводить на солнце.
А потом Бен-Амин поднял кусачий камень, с некоторой усмешкой про себя полагая, что мальчика мог напугать и обеспокоить собранный в камне дневной свет. Тогда этот изумруд должен быть непременно очень чистой воды, чтобы обладать при округлой форме такой способностью испускать и преломлять лучи. И императорский ювелир укрепил камень в тисках, чтобы исследовать его ценность.
С той поры закончилась спокойная жизнь императорского ювелира, Бен-Амина из Туделы. Конечно, камень он утаил. Опасно было помещать его на челе прекрасной принцессы Анны. Но и отказать камню от дома он не смог. Бен-Амин не только слышал от старого Ицхака о таких чудесах, а даже ведал необходимые формулы заклятий для их воплощения. Но до знакомства с изумрудным глазом не верил, что какому-нибудь человеческому существу под силу их осуществление. При помощи правильно подобранных священных слов и чисел, согласно учению, преподанному ему Ицхаком, смертный мог взять власть над существом иного мира. И вызвать небесного ангела, но вероятней всего, нечистого демона. И заключить его в темницу природной вещи. И заставить служить себе. Так гласила мудрость, и сам Бен-Амин знал лично некоторых последователей учения, которые пытались заклясть и уловить таким образом хоть самого захудалого духа. А старый Ицхак над ними и вовсе насмеялся, сказав, что подлинную силу мудрец не станет использовать для корысти и забавы и что Бог не являет свои чудеса без нужды. Неопытный в богословии Бен-Амин тогда не понял учителя и переспросил:
– Еще бы, Господь наш раздает свои чудеса только согласно своей воле и прихоти?
А старый Ицхак рассердился на него и прикрикнул сурово:
– Я не сказал – по своей воле! Я сказал – без нужды! И требовать от Бога праздного чуда – это великий грех!
И с той поры Бен-Амину даже не приходило на ум использовать заповедные знания для повседневных дел. Он обходился собственными руками и головой, не прибегая к вмешательству тех сил, о помощи которых мог бы пожалеть. Но знания никуда не делись и были при нем, соблазняя своим бесполезным присутствием и все же изредка подстрекая Бен-Амина употребить их на что-нибудь, хоть на самую малость. Вот же решился неведомый ему человек, и приручил духа, и посадил в изумрудную тюрьму, и укротил, и наверное заставил себя слушаться. Насколько страшен камень и злобен в нем демон – придворный ювелир понимал хорошо, но не боялся. Как раз против таких вещей и заключенных в них сущностей и готовил его учитель «тропы имен». Бен-Амину порой до щекочущего нетерпения хотелось испытать себя и соперничать с тем незнакомым ему колдуном, победившим злой дух. Но он сдерживал свои порывы, потому что в таком поединке не было нужды, и камень, тихо спящий в его доме на шелковой подушечке, оставался безвреден в мудрых руках. К тому же Бен-Амин говорил себе, что любой волхв, пожелавший подчинить изумрудный глаз, должен понимать, чего стоят его услуги. И что плата за них возьмется отнюдь не словами и начертанными Божественными формулами. А кровью и жизнью, даже за пустяк.
Так он промаялся подле камня еще один год. И зудящее желание испробовать его силу постепенно стало ослабевать. Пока однажды Господу не вышло угодным поставить на пути придворного ювелира уже настоящее испытание.
Это случилось весной, накануне Святой Пасхальной недели, которую собирались праздновать иудейские общины, а вслед за ними и православный мир Византии. И по этому поводу Бен-Амину приказано было подновить золотых, рычащих грозным голосом механических львов подле императорского трона и добавить еще нескольких драгоценных птичек, поющих при помощи журчащей в них воды, на золотое дерево. Принцесса Анна сама, своей прекрасной рукой нарисовала для ювелира несколько эскизов.
Когда птички были совсем готовы, их оставалось только поместить на нужные ветки, и работа его на том бы и закончилась. Но с вечера, после захода солнца, как раз начиналась суббота, и трудиться запрещалось иудейским законом, который Бен-Амин не мог преступить. Потому придворный ювелир поспешил во дворец и испросил любезно у протовестария Епифана, распорядителя придворных церемоний, дозволения установить своих птичек, не дожидаясь выхода императора в ночные покои. Епифан, довольно часто получавший от ювелира мзду за различные услуги, благосклонно согласился. Все равно божественный Алексей затеял долгий государственный совет с приближенными чиновниками, и никому не станет дела до того, что Бен-Амин копается у трона со своими птичками. Так и поступили. Епифан отвел придворного ювелира в парадную залу, приказал не шуметь и удалился по собственным делам.
Бен-Амин, почти не думая о том, что делают его руки, насаживал одну птичку за другой, аккуратно устанавливал механизм для пения. А уши помимо его воли слышали все, что доносилось, отражаясь от необъятных дворцовых сводов, из-за чуть приоткрытых дверей палаты для совещаний, и особенно разгневанный и растерянный голос самого императора Алексея. Монарх жаловался и упрекал, негодовал и скорбел. И виной тому был дальний сосед, северное княжество Киевское. Нет никакого покоя от этих русичей! И сила их растет прямо на глазах! Еще вчера этот ничтожнейший Ярослав сватал свою дикарку дочь за короля франков, а ныне его внук пошел войной на земли Фракии, исконное владение Византии, разорил их и вывел много людей в рабство. Нет, погибель вечному царству Константина придет не из Рима! Она явится в облике неотесанных северных князей и их дурно пахнущих смердов, не знающих изящества цивилизации, едва говорящих по-гречески, новокрещенных язычников, пьющих варварский напиток из меда пополам с бычьей кровью. И все здесь, в граде золотом, будет попрано их грязной пяткой. И кто некогда думал, что этих северных дикарей возможно приручить и приобщить к жизни империи, пусть вспомнит бешеного Ольгерда, с неслыханной наглостью прибившего свой грубый щит к вратам священного города. И пусть вспомнит, как варвары разрушили Рим. Их много, и они жадны и сильны, и хоть именуют себя православными христианами и отсылают богатые дары Патриарху, а сами блудят в своих землях, безбожно сквернословят и поднимают руку на собственных братьев. И теперь этот презренный Владимир, новый Киевский князь, счел себя равным императору и даже принял дедовское имя Мономах. Если и далее так пойдет, то в один прекрасный день этот вонючий северный князь заявит свои права и на престол Константина.
Еще долго жаловался и упрекал император за то, что не может сейчас воевать с диким соседом, и что погибель придет с севера, и что рано или поздно смутное Киевское княжество пожрет его прекрасную Византию. Император сильно преувеличивал настоящее, но нельзя сказать, что угрозу будущего он сильно преуменьшал. Бен-Амину сделалось тревожно. Нет, совсем не хотел он, чтобы сияющий золотом град Константина заняли для себя северные варвары. И может, это не случится при нем и при его сыне. Но сотни иудеев, нашедшие здесь приют, рано или поздно его лишатся. И жаль было города, такого несравненно прекрасного, в который Бен-Амин был влюблен как в женщину. И что с того, что на его век хватит?! Придворный ювелир желал, чтобы Константинополь стоял вечно, и вечно рычали львы у трона базилевса, и вечно пели золотые птички, сделанные искусными руками, и сбегали пышные в зелени террасы к берегам Пропонтиды. И тут, поколебавшись лишь мгновение, Бен-Амин решился.
Нет, конечно же, не существовало такого условия, когда он мог бы напрямую обратиться к императору. Но вот направить послание принцессе Анне с просьбой об аудиенции – да, это было возможно. Тот же царедворец Епифан за небольшой кошель золотых монет и выступит посредником в деле.
Принцессе, слишком нежной и тонкой, Бен-Амин, однако, не стал излагать все свои намерения, а только предложил через нее помощь для императора в киевском затруднении. Уверил, что имеет сказать некий секрет, который, возможно, и предотвратит будущую угрозу и вернет ее отцу покой. Принцесса Анна, почуяв женской интуицией правду в словах ювелира, немного подумала и пообещала устроить так, чтобы отец принял его в своих ночных покоях.
Разговор его с императором произошел, как и хотел того Бен-Амин, наедине, в тишине спальной палаты, душной от благовоний. Император возлежал на царском ложе, и пространство возле него было освещено двумя масляными лампами тонкой восточной работы. Ювелир, как и требовал того дворцовый этикет, упал перед базилевсом ниц и так пребывал до тех пор, пока император не позволил ему подняться с ковров.
– Говори! – повелел ему Алексей, первый император династии Комнинов.
И Бен-Амин торопливо, но очень связно и складно поведал императору об изумрудном камне и его предназначении, умолчав благоразумно о том обстоятельстве, как, собственно, чудесный глаз духа попал в его руки.
– Покажи! – повелел опять император, выслушав до конца.
Ювелир повиновался. Хотя и осмелился предупредить своего повелителя об опасности. Но император смотрел недолго. Чуть только камень начал являть свою сущность, Алексей отмахнулся от него прочь.
– Убери. Я верю тебе, – холодным голосом приказал он. – И ты, еврей, иди. И исполни, что задумал. Потом дашь мне знать через мою дочь.
И придворный ювелир, Бен-Амин из Туделы, поспешно покинул царский покой. А у себя дома не мешкая приступил к важной и тайной работе. Много золота нужно было ему, и самого лучшего качества. И взял он из казны и яхонты желтые, и яхонты лазоревые, и лалы, и жемчуга. И выбрал прекраснейшие из них.
И на крохотной наковальне стучал он молоточками, и раздувал помощник Нафан мехи для горна, и тянулась золотая проволока и свивалась в тонкий узор. Всего восемь частей, как восемь наиглавнейших запрещающих заповедей, восемь пластин самой новейшей работы, а кое в чем и единственно изобретенной мастером, неподражаемой и совершенной в красоте. Посреди каждого куска – Соломонова печать для надежности охранения изумрудного глаза, арабские розетки с округлыми нежными лепестками, от сторонних демонов, изящные грушевидные гнезда для самоцветов. И на каждой пластине кайма из северных глаголей, на всякий случай заклятая, – против тамошних идолов. На одной из пластин, однако, ювелир Бен-Амин пустил кайму посолонь, ни за чем, а просто как опознавательный знак, на непредвиденный случай. А прежде чем крепить драгоценные камни и жемчуга, соединил все части воедино. И вышла золотая шапка богатого царского наряда, однако коническая, а не полукруглая, и каждая пластина ее могла при изобретенном им сочленении двигаться свободно, а значит, и изумрудный глаз мог дышать и жить. И верх шапки оставался пустой, и восемь лепестков создавали отверстие, через которое заключенный в неволе дух мог вытравлять из себя лишнюю злобу. Конечно, на голове такая шапка сидеть будет неудобно и натирать кожу, но ради ее красоты и величия ни один правитель не откажется потерпеть ее дурной нрав. Поистине, до сих пор никто еще не создавал ничего равного шедевру царского ювелира из Туделы. И сам он не столько заботился об удобствах носки головного убора, сколько об уютном доме для своего изумрудного камня.
Но вот за две луны работа была наконец завершена, тигли погашены, полировочные кожи и инструмент убраны в ящик, и последним в свое гнездо опустился под умелой рукой изумрудный глаз. И мигнул ювелиру, что мол, доволен. Теперь перед Бен-Амином стояла самая опасная и трудноисполнимая задача. Ее он отложил на следующий вечер, до звездной ночи, чтобы и силы двух созвездий, эгрегоров-Близнецов и атакующего небесного Скорпиона, были ему в помощь. И когда стемнело до нужной степени прозрачности, Бен-Амин, взяв священную книгу, светильник и тайный знак Давидовой звезды, направился в наиболее отдаленную из беседок своего роскошного сада. Мраморное это сооружение было самым громоздким и, на придирчивый взгляд ювелира, самым безобразным. Потому выходило его не жаль. Ведь заклятие духа по всем правилам могло сопровождаться чувствительными разрушениями и мало ли еще какими непредвиденными, роковыми обстоятельствами. И риск для жизни самого волхва присутствовал тоже. Но Бен-Амин готовил себя к настоящей борьбе, словно гладиатор в цирке, и не намеревался уступать, даже если речь шла о столь высокой цене.
Опустив шапку на мраморную скамью, Бен-Амин зажег священную менору-подсвечник и приступил к изумрудному глазу. Дух немедленно откликнулся, будто только и ждал его прихода. И соперничество двух сил, мудрой и бессмертной, началось. Но лишь только открылись врата и встретились они лицом к лицу, как Бен-Амин тут же понял, что втравился в предприятие куда более жуткое и грозное, чем он до того предполагал. Напрягая все знания и с трудом преодолевая страх, шептал он самые ужасные формулы и самые запретные магические числа. И чем далее шел он вперед за духом, тем более знал, что не выйти ему живым, если только не будет на то согласия демона камня. Ювелир и теперь не убоялся смерти. Но если погибнет на полпути он, Бен-Амин, не закончив своего труда, то не свершится и сокровенного смысла в его погибели. Дух разгневанно извергал громы, как зимний ураган над открытым морем, но, кажется, был согласен на жертву и обмен. И Бен-Амин, не мешкая, в ослеплении поединка, предложил в мысленном слове демону камня взять взамен своей жизни все, что тот пожелает. Свирепый дух полыхнул ледяным пламенем в самое сердце Бен-Амина и разжал свои смертоносные тиски. Он был согласен. И придворный ювелир, оставив врата открытыми, снова вышел на свет божий, чтобы убедиться в выкупе и после уж потребовать свою часть сделки. И тут же увидел, что дворец его, дальний угол, выходящий в сад, объят голубым пламенем. Значит, ему придется отдать духу свой дом взамен того, который Бен-Амин построил своими руками для камня. И ему стало легко и не жаль. И невелика была цена. Пока обрадованный слишком ранним облегчением придворный ювелир не понял, какая именно часть дома полыхает в огне. И со страшным, рвущим горло и душу воплем, бросился Бен-Амин к своему дворцу. Горело в детских покоях, так сильно и безнадежно, что, еще не видя собственными глазами этой картины, Бен-Амин уже знал – его единственный сын мертв. Его янике, отрада его дней, услада его глаз, самая великая драгоценность его жизни.