Волшебница Шалотт и другие стихотворения
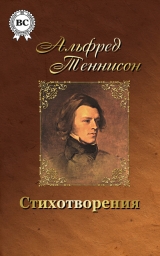
Текст книги "Волшебница Шалотт и другие стихотворения"
Автор книги: Альфред Теннисон
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ЛОКСЛИ-ХОЛЛ
Здесь останусь я, покуда разгорается восток.
Вы ступайте; нужен буду – громко протрубите в рог.
Всё как встарь: кричат бекасы; темный берег пуст и гол;
Стылый блик дрожит над морем, озаряя Локсли-холл.
Локсли-холл стоит на страже у черты песков и вод,
Где у низких дюн вскипает и бурлит водоворот.
Сколько раз ночной порою я из башенных окон
Наблюдал, как к горизонту опускался Орион.
Сколько раз в ночи следил я, как в тенетах серебра
Светляки Плеяд мерцают от заката до утра.
Здесь вдоль отмелей бродил я, юн и воодушевлен,
Тешась сказками науки, прозревая ход Времен:
Позади меня дремали утомленные века;
Я пленялся настоящим, нерастраченным пока,
И, пытливо-дерзновенный взор в грядущее вперив,
Созерцал Виденье мира и без счета дивных див.
По Весне убором алым щеголяет королек;
По Весне зазнайка-чибис обновляет хохолок;
По Весне кичится голубь блеском радужной каймы,
По Весне к любовной грезе чутки юные умы.
Вижу: Эми погрустнела, ясный свет в лице погас;
Всюду следовал за мною взгляд ее молящих глаз.
Я сказал: «Кузина Эми, все открой мне, не тая!
Верь, кузина, лишь тобою и живу, и мыслю я».
Щеки залились румянцем, от смущения горя —
Так над северной равниной рдеет алая заря.
Бурно грудь ее вздымалась; подняла глаза она —
Мнилось, то душа сияет, в глубине отражена:
«Я таила, что на сердце – чувствам потакать грешно…
Ах, кузен, ты вправду любишь? Я люблю тебя давно».
Так Любовь, отмерив Время, счет мгновений повела:
Как песок, текли минуты в колбах тонкого стекла.
Так Любовь на арфе Жизни задавала лейтмотив:
Я душою растворялся в песне, к небу воспарив.
Сколько раз мы на рассвете слушали напев волны,
И смущенный шепот Эми вторил музыке Весны.
Сколько раз мы на закате провожали корабли,
И уста, соприкасаясь, душу ко душе влекли.
О неверная кузина! Ты утрачена навек!
О унылый, блеклый вереск! О бесплодный, голый брег!
Лживей взбалмошных фантазий, лживей вымыслов льстеца, —
Жалкая марионетка, мягкий воск в руках отца!
Как могла ты примириться – ты, кем был я так любим! —
С подлым сердцем, с пошлым чувством – верно, не чета моим!
Что ж, свыкайся! опускаясь до мужлана день за днем,
Ты впитаешь и усвоишь низость, явленную в нем.
Ведь жена подобна мужу: хам, с тобой соединясь,
Все, что есть в тебе святого, осквернит и втопчет в грязь.
Ты в глазах его, – как только схлынет страсти новизна, —
Будешь чуть дороже гончей, чуть ценнее скакуна.
Вот он смотрит осовело – не сочти, что во хмелю!
Долг зовет: ступай к супругу, поцелуй, скажи «люблю!».
Или муж твой притомился? Иль мозги перенапряг?
Ублажи милорда шуткой, выдумай любой пустяк.
Он и рад: глубокой мыслью ты его не беспокой!
Лучше б загодя тебя я умертвил своей рукой!
Лучше бы в могильном склепе, от бесчестия вдали,
Мы в объятиях друг друга мир навеки обрели.
Будь ты проклят, пошлым светом продиктованный расчет,
Будь ты проклято, тщеславье, лицемерия оплот!
Будь ты проклят, светский морок, отравляющий сердца!
Будь ты проклят, отблеск злата, осиявший лоб глупца!
Как смирить негодованье – как простить твою вину?
Боже, как тебя любил я – так не любят и жену!
Не безумство ли – лелеять то, что дарит горький плод?
Вырву с корнем – даже если сердце кровью изойдет!
Нет! – пусть мчится год за годом, хоть считай, хоть не считай, —
Так грачи летят к гнездовьям, поднимая хриплый грай.
Может статься, я утешусь, память надвое разъяв,
И смогу забыть дурное и любить в ней кроткий нрав?
Помню каждое движенье, помню нежные слова,
Помню ту, кого любил я… помню, что она мертва.
Что ж, хранить любовь к умершей – в память о любви былой?
Нет – она и не любила: страсть не выгорит золой!
Утешение? – да к черту! – верно говорил поэт:
«Вспоминать былое счастье в скорби – горше муки нет».
Так не вспоминай же, сердца лишний раз не бередя
В тишине бессонной ночи, под унылый шум дождя.
Муж твой спит, охотой грезя, ты глядишь перед собой;
По стене мятутся тени; тает отблеск голубой.
Что ты видишь в смутном свете? муж – во власти пьяных грез,
Ложе брачное остыло, край подушки мокр от слез.
«Никогда!» – во тьме раздастся шелест иллюзорных лет,
И напев полузабытый тихо зазвучит в ответ.
Чей-то взгляд пронзает полночь – соболезнующий взгляд!
Полно, засыпай! – былого не дано вернуть назад.
Горе облегчит Природа: нежный детский голосок
Зазвенит, опустошая чашу скорби и тревог.
Детский лепет – приговор мне: с ним соперничать невмочь.
Детских пальчиков касанья образ мой изгонят прочь.
О, дитя пробудит нежность и к никчемному отцу!
Плод его и твой, ребенок – дань двойному образцу.
Так и вижу, как под старость, благочинная ханжа,
Ты моралью пошлых истин дочку пичкаешь, брюзжа:
«Чувствам следовать опасно; обольщая и губя,
Страсть сулит лишь стыд и муку…» Презирай сама себя!
Сдашься ты или воспрянешь – не моя забота впредь!
Я вернусь к делам насущным – полно чахнуть и скорбеть!
Но куда же мне податься? Все-то прибрано к рукам!
Всюду – запертые двери; злато – ключ ко всем замкам.
Всякий рынок – переполнен, толкотня – у всяких врат.
Буйное воображенье – вот и все, чем я богат.
Может, пасть на поле брани, в чужеземной стороне,
Где и звуки, и шеренги тонут в мглистой пелене?
Где там! Ныне раны Чести исцеляет звон гиней:
А народы только ропщут – чем трусливей, тем злобней.
Что ж, терзаться понапрасну? Нет, былое зачеркну!
Приглуши, о Мать-Эпоха, сожаления струну!
Возврати мне нетерпенье, прежний юношеский пыл:
Ведь и я еще недавно ждал, и верил, и любил,
Зов манящих обещаний слыша в голосе ветров —
Как мальчишка, что впервые покидает отчий кров,
И над сумеречным трактом, с каждым часом все ясней,
Видит в предрассветном небе отблеск лондонских огней,
И душой нетерпеливой устремляется вперед,
В город гомона и света, где толпой бурлит народ:
Люди – труженики, братья! – сеятели и жнецы,
Настоящего владыки и грядущего творцы!
Да и сам я, дерзновенный взор в грядущее вперив,
Созерцал Виденье мира и без счета дивных див!
Караван судов торговых плыл среди небесных круч,
Приземлялись с ценным грузом лоцманы багровых туч.
Воздух задрожал от гула, пала страшная роса:
Бились в вышине армады, сотрясая небеса.
Из конца в конец над миром южный ветер пролетал,
В клочья рвал знамена наций громовой ревущий шквал.
Вот умолкли барабаны; стяги ратные легли
Пред Парламентом Народов, Федерацией Земли,
Дабы распри усмирились здравым смыслом большинства
В мире, где ненарушимы суверенные права.
Так мечтал я, торжествуя; но иссяк былой задор:
Страсть опустошила сердце, отравила желчью взор:
Век расшатан, всяк порядок мнится смрадным гнойником;
Движется вперед наука – мешкотно, шажком-шажком.
Алчущий народ все ближе: так крадется лев из мглы
К старцу, что вздремнул над грудой дотлевающей золы.
Знаю, знаю: к общей цели ход столетий устремлён,
Мысль и ширится, и крепнет в вечной смене лет и дён.
Что мне в том? Ведь я восторгов молодости не вкусил,
Пусть в груди моей и ныне бьет источник юных сил!
Знаний много – мудрость медлит; я застыл на берегу:
Мир полнее постигая, я себя превозмогу.
Знаний много – мудрость медлит; горький опыт – тяжкий гнет;
К неподвижности покоя путь отчаянья ведет.
Чу! друзья зовут! донесся рога звук издалека.
Те, что хором порицали влюбчивого дурака!
Не довольно ли стенал я, сокрушался и пенял?
Стыд и срам – дарить любовью столь никчемный идеал!
Слабость – гневаться на слабость! женский пол сквозь жизнь ведом
Бессознательным инстинктом, ограниченным умом.
Слабый пол мужам не ровня; женской страсти глубина —
Что перед вином – водица, что в лучах зари – луна!
Здесь сама природа чахнет… О, сияющий Восток —
Там, вдали, приют найду я – там, где дней моих исток,
Там, под саблями сипаев, пал отец мой как герой,
Я же под опекой дяди рос гонимым сиротой.
Или, распростясь с привычным, плыть куда глаза глядят —
К золотым архипелагам около рассветных врат?
Там – лучистые созвездья, там – медовый отсвет лун;
С ветки вспархивает птица, скалы оплетает вьюн.
Там над волнами не реет гордый европейский флаг;
Опахала пальм роняют благовонный полумрак,
Клонятся к земле соцветья, золотится сочный плод,
Дремлют острова Эдема на груди пурпурных вод.
Там, должно быть, жизнь отрадней, нежели в кругу людей —
В мире дымных паровозов, пароходов и идей.
Там смиряемые страсти вольно распахнут крыла;
Мне сынов родит дикарка, плодовита и смугла.
Мускулисто и проворно, племя дикое мое
Станет обгонять косулю, к солнцу посылать копье,
Свистом подзывать колибри, пенный рассекать поток —
Им ли слепнуть над никчемным поученьем книжных строк?
Эх, глупец, довольно грезить – что за вздорная мечта!
Жалкое дитя природы – христианке не чета!
Мне – довольствоваться дружбой узколобых дикарей,
Алкать скотских удовольствий, жить инстинктами зверей?
Рядом с варваркой убогой – усмирю ль былой азарт?
Я – истории наследник, я – эпохи авангард!
Шар земной да не застынет, на недвижность обречен,
Как луна стояла в небе, глядя на Аиалон!
Дали манят – поспешим же! В путь, вперед! – звучит рефрен!
Мир летит, летит все дальше колеями перемен.
Вместе с вихрем мы ворвемся в юный день – трудись, мечтай!
Лучше двадцать лет – в Европе, чем на двести лет – Катай.
Ласки матери не знал я – Мать-Эпоха, помоги!
Вспень моря, разрушь утесы, в тучах молнии зажги!
Вижу, вижу: не померкли духа яркие лучи,
Бьют, фантазию питая, вдохновения ключи!
Будь что будет – до свиданья, до свиданья, Локсли-холл!
Пусть обрушатся стропила – я бы бровью не повел!
Луг и лог заполоняя, с моря наползает тьма:
Ураган раскинул крылья, в сердце у него – грома.
Что несет он Локсли-холлу – дождь ли, снег ли, шквал огня?
Ветер с ревом мчится к морю – ветер в путь зовет меня!
Д. Катар
SIR GALAHAD
My good blade carves the casques of men,
My tough lance thrusteth sure,
My strength is as the strength of ten,
Because my heart is pure.
The shattering trumpet shrilleth high,
The hard brands shiver on the steel,
The splinter’d spear-shafts crack and fly,
The horse and rider reel:
They reel, they roll in clanging lists,
And when the tide of combat stands,
Perfume and flowers fall in showers,
That lightly rain from ladies’ hands.
How sweet are looks that ladies bend
On whom their favours fall!
For them I battle till the end,
To save from shame and thrall:
But all my heart is drawn above,
My knees are bow’d in crypt and shrine:
I never felt the kiss of love,
Nor maiden’s hand in mine.
More bounteous aspects on me beam,
Me mightier transports move and thrill;
So keep I fair thro’ faith and prayer
A virgin heart in work and will.
When down the stormy crescent goes,
A light before me swims,
Between dark stems the forest glows,
I hear a noise of hymns:
Then by some secret shrine I ride;
I hear a voice but none are there;
The stalls are void, the doors are wide,
The tapers burning fair.
Fair gleams the snowy altar-cloth,
The silver vessels sparkle clean,
The shrill bell rings, the censer swings,
And solemn chaunts resound between.
Sometimes on lonely mountain-meres
I find a magic bark;
I leap on board: no helmsman steers:
I float till all is dark.
A gentle sound, an awful light!
Three angels bear the holy Grail:
With folded feet, in stoles of white,
On sleeping wings they sail.
Ah, blessed vision! blood of God!
My spirit beats her mortal bars,
As down dark tides the glory slides,
And star-like mingles with the stars.
When on my goodly chaiger borne
Thro’ dreaming towns I go,
The cock crows ere the Christmas morn,
The streets are dumb with snow.
The tempest crackles on the leads,
And, ringing, springs from brand and mail;
But o’er the dark a glory spreads,
And gilds the driving hail.
I leave the plain, I climb the height;
No branchy thicket shelter yields;
But blessed forms in whistling storms
Fly o’er waste fens and windy fields.
A maiden knight – to me is given
Such hope, I know not fear;
I yearn to breathe the airs of heaven
That often meet me here.
I muse on joy that will not cease,
Pure spaces clothed in living beams,
Pure lilies of eternal peace,
Whose odours haunt my dreams;
And, stricken by an angel’s hand
This mortal armour that I wear,
This weight and size, this heart and eyes,
Are touch’d, are turn’d to finest air.
The clouds are broken in the sky,
And thro’ the mountain-walls
A rolling organ-harmony
Swells up, and shakes and falls.
Then move the trees, the copses nod,
Wings flutter, voices hover clear:
‘O just and faithful knight of God!
Ride on! the prize is near.’
So pass I hostel, hall, and grange;
By bridge and ford, by park and pale,
All-arm’d I ride, whate’er betide,
Until I find the holy Grail.
СЭР ГАЛАХАД
Мой добрый меч крушит булат,
Копье стремится в бой;
Я силой десяти богат —
Поскольку чист душой.
Высок и ясен трубный гуд,
Дрожат клинки, ударив в бронь;
Трещат щиты; вот-вот падут
И верховой, и конь.
Вспять прянут, съедутся, гремя;
Когда ж стихает битвы гам,
Дожди духов и лепестков
Роняют руки знатных дам.
Сколь нежный взор они дарят
Тем, кто у них в чести!
От плена и от смерти рад
Я дам в бою спасти.
Но, внемля зову высших нужд,
Я чту удел Господних слуг;
Я поцелуям страсти чужд,
И ласкам женских рук.
Иных восторгов знаю власть,
Провижу свет иных наград;
Так веры путь, молитвы суть
Мне сердце в чистоте хранят.
Едва луна сойдет с небес,
Свет различит мой взор:
Промеж стволов мерцает лес,
Я слышу гимнов хор.
Миную тайный склеп: внутри
Услышу глас; в проеме врат
Все пусто: немы алтари,
Ряды свечей горят.
Мерцает белизной покров,
Лучится утварь серебром,
Струит амвон хрустальный звон,
Звучит торжественный псалом.
Порой в горах у хладных вод
Мне челн дано найти.
Всхожу; не кормчий челн ведет
По темному пути.
Слепящий отблеск, звук струны!
Три ангела Святой Грааль
Уносят, в шелк облачены,
На сонных крыльях вдаль.
О чудный вид! Господня кровь!
Душа из клетки рвется прочь,
Но гордый знак скользит сквозь мрак
Ночной звездой вливаясь в ночь.
Когда на добром скакуне
Я мчусь сквозь спящий град,
Петух рождественской луне
Поет; снега лежат.
Град по свинцовым крышам бьет,
Звеня, сечет доспех и щит,
Но дивный луч из тьмы встает
И тучи золотит.
Спешу я в горы от равнин —
К скале, открытой всем ветрам, —
Но вихрь грез в кипенье гроз
Скользит по топям и полям.
Безгрешный рыцарь – я живу
Надеждой; страх исчез.
Я жду, тоскуя, наяву
Вдохнуть ветра небес,
Узнать блаженство вне преград,
В лучистом зареве края;
Недвижных лилий аромат
Во сне вдыхаю я.
Касаньем ангельской руки
Броня, что мне доверил мир,
Доспех и меч, плоть рук и плеч —
Все обращается в эфир.
Расступится завеса туч;
Средь каменных высот
Органа гул, высок, могуч,
Взметнется и падет.
Лес гнется, никнет сень осин,
Бьют крылья, шепчут облака:
«О верный Божий паладин,
Скачи же! Цель близка!»
Вот так, минуя двор и сад,
И мост, и брод, скачу я вдаль,
Влеком вперед, из года в год,
Пока не отыщу Грааль.
Д. Катар
THE EPIC
At Francis Allen’s on the Christmas-eve, —
The game of forfeits done – the girls all kiss’d
Beneath the sacred bush and past away —
The parson Holmes, the poet Everard Hall,
The host, and I sat round the wassail-bowl,
Then half-way ebb’d: and there we held a talk,
How all the old honour had from Christmas gone,
Or gone, or dwindled down to some odd games
In some odd nooks like this; till I, tired out
With cutting eights that day upon the pond,
Where, three times slipping from the outer edge,
I bump’d the ice into three several stars,
Fell in a doze; and half-awake I heard
The parson taking wide and wider sweeps,
Now harping on the church-commissioners,
Now hawking at Geology and schism;
Until I woke, and found him settled down
Upon the general decay of faith
Right thro’ the world, ‘at home was little left,
And none abroad: there was no anchor, none,
To hold by.’ Francis, laughing, clapt his hand
On Everard’s shoulder, with ‘I hold by him.’
‘And I,’ quoth Everard, ‘by the wassail-bowl.’
‘Why yes,’ I said, ‘we knew your gift that way
At college: but another which you had,
I mean of verse (for so we held it then),
What came of that?’ ‘You know,’ said Frank, ‘he burnt
His epic, his King Arthur, some twelve books’ —
And then to me demanding why? ‘Oh, sir,
He thought that nothing new was said, or else
Something so said ’twas nothing – that a truth
Looks freshest in the fashion of the day:
God knows: he has a mint of reasons: ask.
It pleased me well enough.’ ‘Nay, nay,’ said Hall,
‘Why take the style of those heroic times?
For nature brings not back the Mastodon,
Nor we those times; and why should any man
Remodel models? these twelve books of mine
Were faint Homeric echoes, nothing-worth,
Mere chaff and draff, much better burnt.’ ‘But I,’
Said Francis, ‘pick’d the eleventh from this hearth
And have it: keep a thing, its use will come.
I hoard it as a sugar-plum for Holmes.’
He laugh’d, and I, tho’ sleepy, like a horse
That hears the corn-bin open, prick’d my ears;
For I remember’d Everard’s college fame
When we were Freshmen: then at my request
He brought it; and the poet little urged,
But with some prelude of disparagement,
Read, mouthing out his hollow oes and aes,
Deep-chested music, and to this result.
ПРОЛОГ К «СМЕРТИ АРТУРА»
У Фрэнка Аллена, под Рождество,
Покончив с фантами и всех девиц
(Уже ушедших) перецеловав,
Сидели мы одни: я, пастор Холмс,
Поэт Эверард Холл и сам хозяин —
Вкруг чаши пуншевой, почти пустой,
И разговор вели не торопясь —
О том, что праздник Рождества померк
Иль выродился в скучный ритуал
Пустых забав; а я, уставши днем
Выписывать восьмерки на пруду,
Где пару раз так треснулся об лед,
Что выбил звезды, – малость задремал
И смутно слышал, как, входя в азарт,
Священник то хвалил епископат,
То геологию бранил в сердцах,
И наконец, когда я вновь проснулся,
Гудел про общий недостаток веры:
«У нас еще осталось кое-что,
Но за границей – голо; нет основы,
Чтоб за нее держаться». Фрэнк, смеясь,
Похлопал Эверарда по плечу:
«Я за него держусь». А Эверард:
«А я – за эту пуншевую чашу».
«Ну, да, – заметил я, – еще в колледже
Мы знали за тобой такой талант;
Но у тебя был и другой – к стихам,
Что вышло из него?» – «Как, ты не знаешь? —
Воскликнул Фрэнк. – Он сжег свою поэму:
Король Артур, в двенадцати частях».
И, отвечая на вопрос безмолвный,
Добавил: «Он сказал, что эта тема
Стара, а истина должна ходить
Одетою по современной моде.
Ты сам его спроси. По мне, поэма
Была вполне недурственная». – «Вздор! —
Отрезал Холл. – Кому нужны легенды
О героических веках? То время
Ушло, как мамонт. До которых пор
Жить в долг у старины? Моя поэма
Была гомеровским неверным эхом,
Мякиной, годной только для огня».
«Но я одну из песен, – молвил Фрэнк, —
Успел спасти из пламени. Уверен,
Ее черед настанет. Пусть лежит,
Как леденцы имбирные для Холмса».
Фрэнк засмеялся. Я же, полусонный,
Вдруг уши навострил, как жеребец,
При скрипе яслей: Холл был знаменит
У нас на первом курсе. Я взмолился,
И рукопись была принесена.
Поэт отнекивался для порядка,
Потом с пренебреженьем взял тетрадь
И стал, растягивая «о» и «а»,
Гудеть стихи. И вот что получилось.
Г. Кружков
MORTE D’ARTHUR
So all day long the noise of battle roll’d
Among the mountains by the winter sea;
Until King Arthur’s table, man by man,
Had fallen in Lyonnesse about their Lord,
King Arthur: then, because his wound was deep,
The bold Sir Bedivere uplifted him,
Sir Bedivere, the last of all his knights,
And bore him to a chapel nigh the field,
A broken chancel with a broken cross,
That stood on a dark strait of barren land.
On one side lay the Ocean, and on one
Lay a great water, and the moon was full.
Then spake King Arthur to Sir Bedivere:
‘The sequel of to-day unsolders all
The goodliest fellowship of famous knights
Whereof this world holds record. Such a sleep
They sleep – the men I loved. I think that we
Shall never more, at any future time,
Delight our souls with talk of knightly deeds,
Walking about the gardens and the halls
Of Camelot, as in the days that were.
I perish by this people which I made, —
Tho’ Merlin sware that I should come again
To rule once more – but let what will be, be,
I am so deeply smitten thro’ the helm
That without help I cannot last till morn.
Thou therefore take my brand Excalibur,
Which was my pride: for thou rememberest how
In those old days, one summer noon, an arm
Rose up from out the bosom of the lake,
Clothed in white samite, mystic, wonderful,
Holding the sword – and how I row’d across
And took it, and have worn it, like a king:
And, wheresoever I am sung or told
In aftertime, this also shall be known:
But now delay not: take Excalibur,
And fling him far into the middle mere:
Watch what thou seёst, and lightly bring me word.’
To him replied the bold Sir Bedivere:
‘It is not meet, Sir King, to leave thee thus,
Aidless, alone, and smitten thro’ the helm.
A little thing may harm a wounded man.
Yet I thy hest will all perform at full,
Watch what I see, and lightly bring thee word.’
So saying, from the ruin’d shrine he stept
And in the moon athwart the place of tombs,
Where lay the mighty bones of ancient men,
Old knights, and over them the sea-wind sang
Shrill, chill, with flakes of foam. He, stepping down
By zig-zag paths, and juts of pointed rock,
Came on the shining levels of the lake.
There drew he forth the brand Excalibur,
And o’er him, drawing it, the winter moon,
Brightening the skirts of a long cloud, ran forth
And sparkled keen with frost against the hilt:
For all the haft twinkled with diamond sparks,
Myriads of topaz-lights, and jacinth-work
Of subtlest jewellery. He gazed so long
That both his eyes were dazzled, as he stood,
This way and that dividing the swift mind,
In act to throw: but at the last it seem’d
Better to leave Excalibur conceal’d
There in the many-knotted waterflags,
That whistled stiff and dry about the marge.
So strode he back slow to the wounded King.
Then spake King Arthur to Sir Bedivere:
‘Hast thou perform’d my mission which I gave?
What is it thou hast seen? or what hast heard?’
And answer made the bold Sir Bedivere:
‘I heard the ripple washing in the reeds,
And the wild water lapping on the crag.’
To whom replied King Arthur, faint and pale:
‘Thou hast betray’d thy nature and thy name,
Not rendering true answer, as beseem’d
Thy fealty, nor like a noble knight:
For surer sign had follow’d, either hand,
Or voice, or else a motion of the mere.
This is a shameful thing for men to lie.
Yet now, I charge thee, quickly go again
As thou art life and dear, and do the thing
I bad thee, watch, and lightly bring me word.’
Then went Sir Bedivere the second time
Across the ridge, and paced beside the mere,
Counting the dewy pebbles, fix’d in thought;
But when he saw the wonder of the hilt,
How curiously and strangely chased, he smote
His palms together, and he cried aloud,
‘And if indeed I cast the brand away,
Surely a precious thing, one worthy note,
Should thus be lost for ever from the earth,
Which might have pleased the eyes of many men.
What good should follow this, if this were done?
What harm, undone? deep harm to disobey,
Seeing obedience is the bond of rule.
Were it well to obey then, if a king demand
An act unprofitable, against himself?
The King is sick, and knows not what he does.
What record, or what relic of my lord
Should be to aftertime, but empty breath
And rumours of a doubt? but were this kept,
Stored in some treasure-house of mighty kings,
Some one might show it at a joust of arms,
Saying, ‘King Arthur’s sword, Excalibur,
Wrought by the lonely maiden of the Lake.
Nine years she wrought it, sitting in the deeps
Upon the hidden bases of the hills.’
So might some old man speak in the aftertime
To all the people, winning reverence.
But now much honour and much fame were lost.’
So spake he, clouded with his own conceit,
And hid Excalibur the second time,
And so strode back slow to the wounded King.
Then spoke King Arthur, breathing heavily:
‘What is it thou hast seen? or what hast heard?’
And answer made the bold Sir Bedivere:
‘I heard the water lapping on the crag,
And the long ripple washing in the reeds.’
To whom replied King Arthur, much in wrath:
‘Ah, miserable and unkind, untrue,
Unknightly, traitor-hearted! Woe is me!
Authority forgets a dying king,
Laid widow’d of the power in his eye
That bow’d the will. I see thee what thou art,
For thou, the latest-left of all my knights,
In whom should meet the offices of all,
Thou wouldst betray me for the precious hilt;
Either from lust of gold, or like a girl
Valuing the giddy pleasure of the eyes.
Yet, for a man may fail in duty twice,
And the third time may prosper, get thee hence:
But, if thou spare to fling Excalibur,
I will arise and slay thee with my hands.’
Then quickly rose Sir Bedivere, and ran,
And, leaping down the ridges lightly, plunged
Among the bulrush-beds, and clutch’d the sword,
And strongly wheel’d and threw it. The great brand
Made lightnings in the splendour of the moon,
And flashing round and round, and whirl’d in an arch,
Shot like a streamer of the northern morn,
Seen where the moving isles of winter shock
By night, with noises of the northern sea.
So flash’d and fell the brand Excalibur:
But ere he dipt the surface, rose an arm
Clothed in white samite, mystic, wonderful,
And caught him by the hilt, and brandish’d him
Three times, and drew him under in the mere.
And lightly went the other to the King.
Then spoke King Arthur, drawing thicker breath:
‘Now see I by thine eyes that this is done.
Speak out: what is it thou hast heard, or seen?’
And answer made the bold Sir Bedivere:
‘Sir King, I closed mine eyelids, lest the gems
Should blind my purpose, for I never saw,
Nor shall see, here or elsewhere, till I die,
Not tho’ I live three lives of mortal men,
So great a miracle as yonder hilt.
Then with both hands I flung him, wheeling him;
But when I look’d again, behold an arm,
Clothed in white samite, mystic, wonderful,
That caught him by the hilt, and brandish’d him
Three times, and drew him under in the mere.’
And answer made King Arthur, breathing hard:
‘My end draws nigh; ’tis time that I were gone.
Make broad thy shoulders to receive my weight,
And bear me to the margin; yet I fear
My wound hath taken cold, and I shall die.’
So saying, from the pavement he half rose,
Slowly, with pain, reclining on his arm,
And looking wistfully with wide blue eyes
As in a picture. Him Sir Bedivere
Remorsefully regarded thro’ his tears,
And would have spoken, but he found not words,
Then took with care, and kneeling on one knee,
O’er both his shoulders drew the languid hands,
And rising bore him thro’ the place of tombs.
But, as he walk’d, King Arthur panted hard,
Like one that feels a nightmare on his bed
When all the house is mute. So sigh’d the King,
Muttering and murmuring at his ear, ‘Quick, quick!
I fear it is too late, and I shall die.’
But the other swiftly strode from ridge to ridge,
Clothed with his breath, and looking, as he walk’d,
Larger than human on the frozen hills.
He heard the deep behind him, and a cry
Before. His own thought drove him, like a goad.
Dry clash’d his harness in the icy caves
And barren chasms, and all to left and right
The bare black cliff clang’d round him, as he based
His feet on juts of slippery crag that rang
Sharp-smitten with the dint of armed heels —
And on a sudden, lo! the level lake,
And the long glories of the winter moon.
Then saw they how there hove a dusky barge,
Dark as a funeral scarf from stem to stem,
Beneath them; and descending they were ware
That all the decks were dense with stately forms
Black-stoled, black-hooded, like a dream – by these
Three Queens with crowns of gold – and from them rose
A cry that shiver’d to the tingling stars,
And, as it were one voice, and agony
Of lamentation, like a wind, that shrills
All night in a waste land, where no one comes,
Or hath come, since the making of the world.
Then murmur’d Arthur, ‘Place me in the barge,’
And to the barge they came. There those three Queens
Put forth their hands, and took the King, and wept.
But she, that rose the tallest of them all
And fairest, laid his head upon her lap,
And loosed the shatter’d casque, and chafed his hands,
And call’d him by his name, complaining loud,
And dropping bitter tears against his brow
Striped with dark blood: for all his face was white
And colourless, and like the wither’d moon
Smote by the fresh beam of the springing east;
And all his greaves and cuisses dash’d with drops
Of onset; and the light and lustrous curls —
That made his forehead like a rising sun
High from the dais-throne – were parch’d with dust;
Or, clotted into points and hanging loose,
Mix’d with the knightly growth that fringed his lips.
So like a shatter’d column lay the King;
Not like that Arthur who, with lance in rest,
From spur to plume a star of tournament,
Shot thro’ the lists at Camelot, and charged
Before the eyes of ladies and of kings.
Then loudly cried the bold Sir Bedivere,
‘Ah! my Lord Arthur, whither shall I go?
Where shall I hide my forehead and my eyes?
For now I see the true old times are dead,
When every morning brought a noble chance,
And every chance brought out a noble knight.
Such times have been not since the light that led
The holy Elders with the gift of myrrh.
But now the whole Round Table is dissolved
Which was an image of the mighty world;
And I, the last, go forth companionless,
And the days darken round me, and the years,
Among new men, strange faces, other minds.’
And slowly answered Arthur from the barge:
‘The old order changeth, yielding place to new,
And God fulfils Himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world.
Comfort thyself: what comfort is in me?
I have lived my life, and that which I have done
May He within Himself make pure! but thou,
If thou shouldst never see my face again,
Pray for my soul. More things are wrought by prayer
Than this world dreams of. Wherefore, let thy voice
Rise like a fountain for me night and day.
For what are men better than sheep or goats
That nourish a blind life within the brain,
If, knowing God, they lift not hands of prayer
Both for themselves and those who call them friend?
For so the whole round earth is every way
Bound by gold chains about the feet of God.
But now farewell. I am going a long way
With these thou seёst – if indeed I go —
(For all my mind is clouded with a doubt)
To the island-valley of Avilion;
Where falls not hail, or rain, or any snow,
Nor ever wind blows loudly; but it lies
Deep-meadow’d, happy, fair with orchard-lawns
And bowery hollows crown’d with summer sea,
Where I will heal me of my grievous wound.’
So said he, and the barge with oar and sail
Moved from the brink, like some full-breasted swan
That, fluting a wild carol ere her death,
Ruffles her pure cold plume, and takes the flood
With swarthy webs. Long stood Sir Bedivere
Revolving many memories, till the hull
Look’d one black dot against the verge of dawn,
And on the mere the wailing died away.







