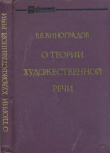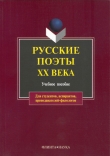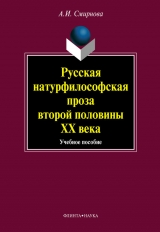
Текст книги "Русская натурфилософская проза второй половины ХХ века: учебное пособие"
Автор книги: Альфия Смирнова
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Отец-Лес»(1989) появился после первого романа спустя пять лет, вобравшие в себя раздумья над вопросами жизни и смерти, добра и зла, свободы и неволи, одиночества («Я – одиночество») и психологии «роя», оформившиеся в романе-притче в концепцию всеобщего самоуничтожения. Его можно назвать самым «философским» произведением писателя, не случайно глава рода Тураевых – Николай Николаевич – философ. И хотя сам автор говорит о том, что «не собирался писать философский трактат» (Ким, Шкловский 1990: 54), однако сравнение это закралось не зря. Основанием для него стала законченная, объемно-усложненная философская концепция книги. Именно она определила и романный материал, и направленность его осмысления (поучение и предостережение), и форму Многомерность и синкретизм философии произведения обусловили и предпринятый автором художественный поиск.
В центре внимания писателя человек, во многом сам являющийся непознанной вселенной. Человек мятущийся, ищущий, страдающий, через судьбу которого проходят все «изломы» эпохи, человек, стремящийся обрести свою истину, неотделимую от сути всеобщего существования. Таковы отец, сын и внук древнего рода Тураевых, история которого составила сюжетную канву романа.
Говоря о замысле произведения, А. Ким подчеркнул: «В романе я попытался сказать о таких качествах человека, с которыми человеческий мир во вселенной не имеет права, не имеет возможности продолжаться в будущем… Но главное, о чем мне хотелось сказать – это о суицидальных, самоубийственных началах в человечестве. О страсти к самоуничтожению» (Ким, Шкловский 1990: 53). К осмыслению этих вещей писателя подталкивала направленность развития цивилизации в XX веке. Если в природе все едино, живое и неживое создано так, чтобы иметь продолжение во времени, преображаться, находить новые формы для продления жизни, то люди «словно нарочно стараются сделать так, чтобы отрезать себе пути к дальнейшему существованию» (Ким, Шкловский 1990: 54).
Наиболее емким и трудно постижимым является в романе образ, вынесенный в его заглавие, – «Отец-Лес». Это многомерное понятие, к которому писатель шел долго в своем осмыслении мироустройства. Отец-Лес, по словам А. Кима, это мифический образ, «некий демиург-рассказчик, не принадлежащий никакому человеческому сообществу, но по протяженности своего духовного бытия намного превосходящий любое человеческое существование, неотъемлемое от определенного времени и социума» (Ким, Шкловский 1990: 54). А. Киму важно было представить в качестве повествователя не конкретного человека, а «некую духовную сущность», наделенную в то же время такими человеческими качествами, как сопереживание, любовь, ненависть, ощущающего себя «никем» и любым из людей, как ныне живущих, так и живших, первочеловеком и «Единым человечеством».
В первой части романа в разговоре с братом Николай Тураев критикует общее направление прогресса и предлагает в качестве спасения «путь деревьев».«Только философия Лесаспособна помочь человечеству» (Ким 1989: 4, 31), – говорит Николай, понимая под нею «абсолютную пассивность и полный отказ от действий при необходимости проявить агрессивность». Огромную самоотдачу «внутренней работы, направленной целиком на то, чтобы всю жизненную и творческую энергию отдать во исполнение единого закона Леса» (Ким 1989: 4, 31).
Смысл этого единого закона – в бескорыстной щедрости: «Какая масса самого ценного жизненного материала накапливается… многолетней работой» деревьев (Ким 1989: 4, 31), в плодовитости деревьев. «Натурфилософская поэзия» Коли, по выражению брата, является таковою потому, что предполагает отцовское назначение Леса, накапливающего имущество для сына. Сын – это «мы, Человечество» (Ким 1989: 4, 31).
«Социальная философия Леса»(Ким 1989: 4, 31) заключается в том, что «все его деревья мирно сосуществуют друг с другом: никто не терзается завистью и злобой, глядя на соседей. Они не воевать желают, а соответствовать друг другу, и в этом желании и качестве они все до единого одинаково равны» (Ким 1989: 4, 31). Именно поэтому Лес всегда полон жизни, могущества, богатства, и ему жить бесконечно. Этому и необходимо учиться у Леса.
Однако в реальной жизни происходит другое. Человечество в XX веке неумолимо движется к своему концу. Это «движение» и выявляет автор. Глеб думает о том, что «разобщению людей способствует все же начало неестественное, чувство самое противоестественное – зависть к чужой доле» (Ким 1989: 4, 139). Естественное же – та «живая, но невидимая субстанция вселенской доброты», которую ощущает Глеб. А. Ким показывает, что близкая нам история человечества – это беспрерывный процесс взаимного истребления в результате борьбы, ненависти, войн, начиная с империалистической войны, когда «людей людьми было уничтожено великое множество» (Ким 1989: 4, 45), а к двадцатому году «деревьев в лесу стало много больше, людей на земле значительно меньше» (Ким 1989: 4, 47), заканчивая Второй мировой войной, в которой «человечество как общее потерпело поражение столь же великое, и даже большее, потому что потери человеческих жизней надо было при этом учитывать общие…» (Ким 1989: 6, 113). Знаменательны слова Глеба: «Человеческие войны – это попытки человечества совершить самоубийство» (Ким 1989: 5, 101), проясняющие художественную концепцию произведения, которая, по мере развития, дополняется другими смысловыми оттенками. В частности, в числе причин, ведущих к катастрофе, автор называет и потребительство.
Все в романе «Отец-Лес» подчинено идее изображения «мира обреченного» (Ким 1989: 5, 55), именно потому в нем столько смертей, самоубийств, жестокости и насилия. Обреченный мир закономерно порождает потребность к самоуничтожению, охватывающую, подобно эпидемии, все большую часть человечества. Символического смысла исполнено и то, что первыми оказываются пораженными этой «болезнью» женщины, Деметры, природно призванные приумножать род человеческий (гибель женщины, выбросившейся из окна пятого этажа, но не насмерть, и повторившей самоубийство; попытка покончить с собой дочери Степана Ксении).
Смысл «учения» Деметры заключается в «великом внимании к самому зачатию». Будущее жизни в руках Деметры. Христианский постулат любви к ближнему находит в романе А. Кима и сугубо природное истолкование, способствующее созданию единой картины мира, проясняющее хрупкость этого мира и его зависимость от Любви, являющейся залогом продолжения жизни. Деметра в произведении, выполняя свое назначение, до определенного времени противостоит жажде всеобщего самоуничтожения. Даже бессмертный Отец-Лес жаждет вкусить смерти. И только Деметра, только Мать-сыра земля, на которой стоит Лес, вопреки «пессимизму вселенной утверждает оптимизм безудержного плодородия» (Ким 1989: 5, 84). Деметра – богиня плодородия – символизирует в романе не только Мать-сырую землю, но и земную женщину. «Не хотела больше Деметра выносить человеческое сумасшествие, омерзели ей насильники» (Ким 1989: 5, 133).
«…Такой мир есть уродливое произведение Вселенной» (Ким 1989: 5, 55) – этот тезис художественно обосновывается на протяжении всего романа, раскрываясь на судьбе трех поколений рода Тураевых, через сопоставление разных исторических эпох, через «отражение» одного времени в другом. «Весь остаток текущего века всеми неисчислимыми реальностями человеческих событий и поступков, исторических шагов племен и народов доказывался вселенский дебилизм ненависти, противоестественный в системе гармонических закономерностей Космоса» (Ким 1989: 5, 63–64).
Основу философской концепции романа составила система оппозиций: естественное / неестественное, порядок / хаос, божеское / сатанинское. «Философия Леса» противостоит прогрессу, осуществляемому человечеством, пути, избранному им. По словам Николая Тураева, «мир человеческий погряз, обслуживая свое звериное начало. Величие наших грандиозных злодеяний никак не сравнимо с жестокостью даже самых свирепых хищников. А вся сила и гений разума превращаются в силу нашего самоуничтожения и в гений неодолимого зла, мучительства и тоски. Называется все это прогрессом» (Ким 1989: 4, 30).
Некоторые из противопоставлений обусловлены наличием неразрешимых противоречий в человеческом существовании, соединившем в себе жажду жизни и тягу к смерти, непреодолимое одиночество и потребность единения с «человеческим» Лесом, устремленность к Богу и дьявольское в поступках. Эта противоречивость свойственна и Отцу-Лесу.
Обнаружив в человеческой природе «начало самоуничтожения» (Ким, Шкловский 1990: 54), А. Ким выявляет его во многих героях романа. С одной стороны, в человеке заложен страх смерти, благодаря чему он острее ощущает жизнь и ее радости. С другой стороны – «роковое желание не жить», порождаемое объективными условиями существования человека и захватывающее все большую часть человечества. «…Сумма душ не желающих себя вырастает безудержно и страшно», словно «мир человеческий старательно готовится к самоубийству» (Ким 1989: 4, 35). Однако «бедные деревья» не в чем винить, так как «сам их Отец-Лес несет в себе фундаментальное противоречие: мощную идею существования, неуклонно переходящую в великую страсть к небытию» (Ким 1989: 5, 100).
Если в «Белке» концепция человека определяется соединением в нем звериного и божественного, а смысл эволюции видится в искоренении первого и утверждении творческого отношения к жизни, то в романе «Отец-Лес» нет веры в человека. «В своем мире человеки гораздо ближе к сатане, чем к Богу, и реальность самых гнусных неотвратимых страданий, ожидающих каждого живущего человека, и сам абсолютный реализм позорной смерти (самоубийство Хандошкина. – Л.С.)являются тому спокойным гарантом…» (Ким 1989: 5, 62)
Идея образа Отца-Леса стала закономерным итогом осмысления проблем происхождения жизни, места человека во Вселенной, его одиночества. Вопрос о происхождении жизни и в современной науке остается весьма сложным, и, по словам авторов книги «Порядок из хаоса», «мы не ожидаем в ближайшем будущем сколько-нибудь простого его решения. Тем не менее при нашем подходе жизнь перестает противостоять обычным законам физики, бороться против них, чтобы избежать предуготованной ей судьбы – гибели» (Пригожин, Стенгерс 1986: 56).
Лес в романе символизирует эту жизнь. Отец же его является зачинателем этой жизни (он – «странный фантом земной жизни»), Философское осмысление образа Леса у А. Кима складывалось постепенно и концептуально наиболее завершенное воплощение нашло в его романе-притче, где Лес – это и «зеленый Лес», «бестрепетный, тысячеглазый», населенный зверями, птицами, деревьями, мифическими существами; и «человеческий Лес», в котором каждый «плоть и кровь того, кто первым из живых поднялся на Земле, – единого всеземного нашего Леса, и если мысленно проследить цепь развития – то каждый из нас в прошлом был деревом, и поэтому мы носим в себе его законы и нравственность» (Ким 1989: 4, 29). Эволюционная концепция развития человечества в данном случае позволяет А. Киму выявить ускоренное движение человечества к самоуничтожению в XX веке.
Лес, наделенный «неисчислимыми замыслами», – это животворящая природа, не ведающая смерти, а преобразующая, растворяющая в своем чреве теплые жизни. Лес соединяет мужчину и женщину естественным образом, пока в недрах этого целого не затеплится «капля новой жизни», которую «творит» Лес. В Отце-Лесе очень много человеческого. Хотя он является Творцом жизни, он не лишен «заблуждений», присущих его «детям», сынам человеческим. «Я всего лишь мыслящий атом, я столь мал, что почти и не существую – и все, что создано вокруг, скорее, не создано, а осознано мной. Это мне казалось, что мною создан мир, потому что я, не существуя в материи, вижу ее вокруг себя и в то же время никого другого не знаю, кроме себя самого, кто бы мог сотворить это» (Ким 1989: 5, 84).
В Отце-Лесе трагически совмещаются ощущение «своей Вселенности» и осознание «пустоты и холода межзвездных пространств». «Ее, этой пустоты, настолько больше, чем меня, дерева, единственного в своем одиночестве, что я как бы не существую или, если и осмелился существовать, тут же должен исчезнуть по строгому закону математики: слишком малое в силу того, что оно столь мало, должно исчезнуть» (Ким 1989: 5, 83).
В романе «Белка» великим божеством, «самотворящим началом» называется Вселенная. В нем главный герой размышляет о творце сущего и о том, «зачем эта хмельная брага, которую ты столь усердно варишь», эта «пышная пена вырвавшейся на волю струи жизни» (Ким 1988: 622). «Кто кого породил?» – вопрошает герой. Безвестная Таинственная воля – человеческий разум, или разум – «отца Вселенной»? В «Отце-Лесе» эти размышления занимают большое место и оформляются концептуально. В нем речь идет о «Высшем Устроителе», «Высшем Законодателе», «Великом Кибернетике», каковою и является самотворящая Вселенная. В образе Отца-Леса, представляющего собой некий симбиоз бога и человека вне его материальности, художественно реализуется пантеистическое представление о божестве как некой духовной сущности, растворенной в природе. В своем понимании универсума писатель близок автору «Феномена человека», рассматривающему божество как нечто растворенное в природе и совершенствующееся вместе с нею. Назначение человека, по П. Тейяру де Шардену, заключается в том, чтобы через познание природы приблизиться к Богу.
Отец-Лес в романе – подлинный Отец «человеческого» Леса, а привычный человеку Бог создан им – демиургом – «по своему образу и подобию – для утешения и самоуспокоения» одиночества (Ким 1989: 5, 73). Смелое авторское предположение, воплотившееся в фантастическом образе Отца-Леса, порождает новое отношение к Богу, связанное с осмыслением его места и роли в жизни человека. Хотя, по словам рассказчика, «Боги, которых познали и любят мои деревья, стали дороги и мне» (Ким 1989: 5, 82), но Отец-Лес задается вопросами, которые приходят в противоречие с существованием Бога: «Бог так нужен был им обоим (Николаю и Глебу Тураевым. – А.С.), но его, к сожалению, не было рядом в минуту их смерти» (Ким 1989: 5, 82). «Тот, кто никогда не будет свободен от страдания, никогда и не достигнет совершенства. Не стремясь же к совершенству, путник на земле теряет свой путь – утрата цели пресекает всякое устремление» (Ким 1989: 5, 64).
Катастрофичность бытия на исходе XX столетия ощущается многими писателями. Человек как первопричина мировой катастрофы – этот аспект поставлен А. Кимом во главу угла. К нему писатель пришел не сразу, еще в «Белке» сама эволюция человечества, осмысливаемая им в русле философских воззрений П. Тейяра де Шардена, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, позволяла увидеть человека венцом творения, хотя разъедающая, разрушительная роль «тайного уродства», «звериного хвостика», звериных рудиментов была выявлена и проблемно обозначена.
В свойствах крови, в родовых атомах тураевской породы содержится «способность к внезапной катастрофе всего их жизненного существа» (Ким 1989: 5, 59), способность «находить в себе самом признаки начинающейся вселенской катастрофы» (Ким 1989: 5,60). Эта способность присуща именно Тураевым и отличает их от остальных людей. Им дано осознание себя частью Леса, они ощущают свою связь с «мирообъемлющим Отцом» (Глеб – «любимец Леса»),
Тураевы, наделенные способностью мыслить, переживают пороки человеческого общества – жестокость, ненависть, насилие – как личную драму. Душевная боль, объединяющая отца, сына, внука, не позволяет им быть счастливыми. В жизни каждого из них наступает момент, когда от общего существования они уходят в зеленый Лес, который «растворял их души», превращая каждого «в такое же послушное и безмолвное существо», как его растения. Это являлось спасением (в том числе и от смерти) и позволяло жить и дышать «всею глубиною необъятной зеленой груди тысячелетнего Леса» (Ким 1989: 4, 21). На страницах произведения А. Кима упоминается известная книга Г. Торо «Уолден, или жизнь в лесу», в которой герой уходит в лес для того, чтобы приблизиться к сути жизни, «добраться до ее сердцевины». Ту же цель преследует и Николай Тураев, мечтая «обрести себя в свободе», в «благодатной лесной глуши, удалясь от суеты мира…» (Ким 1989: 4, 6). Степан, пришедший в родовой лесной угол умереть, залечивает в лесу душевные и телесные раны. Лес помогает ощутить Тураевым свою причастность целому, Вселенной, основанной на «гармонических закономерностях Космоса».
Тураевы не боятся смерти и достойно принимают ее. У каждого из них свое отношение к ней. Философ Николай Тураев определяет смерть как «всеобщую муку материи», а душевную тоску от ощущения ее близости как «могильный зуд». Душевная боль, переживаемая его сыном Степаном Тураевым, могла бы разрешиться смертью, но он выжил, и по прошествии множества лет боль эта «перестала править его жизнью», обретя в ней «самостоятельность и устойчивую отчужденность». Глеб Тураев, внук Николая, причастный к «усовершенствованию новейшего способа истребления людей» (Ким 1989: 4, 43), живет со «смертельным ожогом сердца» – «сожалением по невосполнимым утратам». Когда-то Глебу было неведомо, что окружающий его мир обречен, так как в нем есть страдание и смерть. После ухода отца ему кажется, что «никакой тайны смерти нет», он ощущает «тяжелую, холодную субстанцию одиночества».
Самоощущение, определенное автором как «Я ОДИНОЧЕСТВО» (эти слова лейтмотивом проходят через все произведение), сближает Отца, сына и внука. Оно ведомо и Отцу-Лесу. «Чувство непостижимой и страшной одинокости среди всех отдельных существ и элементов мира было стержнем тураевской духовности – и вместе с этим осознание себя как неотъемлемой части зеленого Леса» (Ким 1989: 5, 46). Отцу-Лесу также знакомо это беспредельное одиночество: «Я тоже Никто – и мне столь же одиноко, как и в далеком прошлом – когда я был камнем, горячей плазмой, летящим в пространстве лучом» (Ким 1989: 5, 52).
Путь Николая Тураева – это путь обретения истинной, с его точки зрения, свободы. «…Совершенно неважно, кем я был. Нет у меня теперь ни имени, ни звания; не гражданин я, не дворянин, не христианин, не молодой, не старый. И то жалкое отребье, во что превратилось мое тело, имеет со мною очень малую связь… Я теперь свободен от всего…» (Ким 1989: 5, 52). Это свойство своей породы Николай Тураев передал сыну, который в минуты одиночества ощущает себя «веселым, удивительным всечеловеком», забывая о бренности своего конкретного существования. Глеб наделен способностью «как бы соединяться с сознанием окружающего Леса, и подобное слияние совершенно перестроило его обычные отношения с окружающим миром и дало ему возможность быть наконец и предком своим и потомком – то есть быть тем единым родовым существом, которое рождается и умирает, рождается и умирает, поступает, говорит, думает по-своему, но всегда, во всяком воплощении и проявлении своем, испытывает особенное, единственное в своем роде главное чувство жизни» (Ким 1989: 4, 26). Дед Глеба через обретение подлинной свободы освобождается от себя и соединяется с Лесом: «ОН был всего лишь деревцем в ЛЕСУ…» (Ким 1989: 5, 42).
В Тураевых отсутствует то, что в разговоре с братом Андреем Николай определяет как «эгоизм роя или видовой семьи»: «Вы хотите, как пчелы или муравьи, жить только интересами улья или муравейника. У вас индивид должен быть полностью подавлен законами и порядками социального роя, поэтому ваши счастливцы никогда не постигнут категорий свободы» (Ким 1989:4,71).
В романе Лес и Город антитетичны друг другу Человек, ненавидящий город, который убивает его, но вынужденный жить в нем, стремится в Лес. «И ничем не измерить грусти от подобного раздвоенного существования» (Ким 1989: 5, 127). Город в романе – это «огромный организм», «Машина». Поясняя замысел произведения, А. Ким заметил: Отец-Лес однажды усомнился, «а не содержится ли в самом существовании вселенской материи начала самоуничтожения» (Ким, Шкловский 1990: 54). Добро и зло, их соотношение во Вселенной, определяет будущее человечества. Математик Глеб Тураев смог вычислить, что «энергия зла на столько же превышает энергию добра, на сколько пространство вселенской пустоты превосходит объем всего вещества Вселенной… Возможностей большего, долженствующего поглотить меньшее, примерно в 10 38раз больше, чем возможностей этого меньшего отстоять себя после случайного появления на свет.
Выброс энергии, заключенной в атомном ядре, означает не что иное, как самоистребление вещества, то есть нахождение способа, которым достигается затаенное в глубинах материи желание не существовать» (Ким 1989: 5, 90). Глеб Тураев начинает постигать «вселенскую жажду самоистребления». Человеческая мысль приходит к оправданию самоубийства. «Жажда самоубийства, стало быть, освящена высшей волей, внушающей вечной Деметре желание небытия» (Ким 1989: 5, 150).
Спасение Любовью для человечества в его жажде самоистребления уже невозможно. А. Ким, вслед за А. Адамовичем («Последняя пастораль»), рисует «мертвую землю», умершую потому, что Деметра не захотела больше жить. «Нулевым вариантом – струйкой дыма, втянутой в черную дыру, – завершилась жизнь Леса на Земле» (Ким 1989: 5, 150). В этой картине выражен основной назидательный смысл романа-притчи. По А. Киму, это тот предел, к которому неуклонно приближает себя человечество. А. Адамович в «Последней пасторали» дает картину Апокалипсиса, уничтожившего «последних свидетелей собственной трагедии», которая «стала рутинным физическим процессом превращения, энтропического падения энергии в ничтожно малом уголке Вселенной» (Адамович 1987: 3, 60).
В свете вселенского уничтожения, мировой катастрофы вопрос о смысле сущего приобретает в романе особую остроту и конкретность. Философ Николай Тураев пытается понять, «в чем высшее предназначение его единичной жизни». Его брат Андрей задает ему вопрос: «Скажи мне в этот общий для обоих час: зачем мы с тобой прожили со столь непостижимой неловкостью свои жизни?» (Ким 1989: 6, 127). «Зачем же путь человеческий?» – вопрошает Отец-Лес, Творец этого пути. В итоге своего жизненного пути Николай Тураев приходит к обретению «безбрежной свободы». «Это был миг разрыва последней связи с тем миром людей, который ему больше был не нужен» (Ким 1989: 5, 52). И обретению нового имени – «Никто». В этом проявляется осознанный выбор Николая, хорошо знающего древнекитайскую философию и последовавшего примеру мудреца Лао-цзы («навсегда уйти в безвестность» – Ким 1989: 5, 81), который писал в «Трактате о пути и потенции»: «Постоянство пути – в отсутствии имени» (Антология даосской философии 1994: 40). Николай Тураев размышляет и над «лукавым равновесием “дао”, скрывающем в себе нежелание китайцев менять свои привычки» (Ким 1989: 5, 46). Лао-Цзы писал в тридцать седьмом чжане «Трактата»: «Постоянство Пути – в отсутствии осуществления» (Антология даосской философии 1994: 40).
Глеб Тураев встретился с Отцом-Лесом в зрелую пору, когда «жизнь потеряла для него всякий смысл» (Ким 1989: 4, 43). После дорожной аварии, свидетелем которой он был, и привидевшейся собственной смерти, он приходит к пониманию, что каждый из погибших «всего лишь странствующий Никто, обязанный вернуться в родное Ничто» (Ким 1989: 6,132). «Была п о-гибель жизни – не уничтожающая и не заканчивающая, а переводящая жизнь в другое состояние». Живое «на земле лишь сменяло друг друга, смерти никакой не было» (Ким 1989: 6, 132). В связи с этим автор задает вопрос, попыткой ответить на который является все произведение: «И если, угрожая смертью, именем ее творится всякое человеческое беззаконие, то как разгадать причину общечеловеческого безумия? Почему от них, обладающих бессмертием, исходит столь противоестественный страх смерти, более никому не ведомый? Истребление Леса, поругание Деметры, попытки самоубийства через войны – человечество сошло с ума не от ужаса перед тем, что натворило. Нет, это произошло гораздо раньше, и оно сошло с ума потому, что сошло с ума» (Ким 1989: 6, 132–133).
В романе «Отец-Лес» находит философское осмысление и идея Бога, с которой рассказчик связывает свою веру в воскрешение человеческого мира – через любовь, неподвластную смерти. Опора на Новый Завет помогает писателю реализовать свою художественную концепцию, основанную на богатейшем мировом опыте философской мысли.
Писатель возражает тем, кто пытается интерпретировать его творчество в границах лишь одной национальной культуры, с которой он связан генетически. Кореец по происхождению, он как художник формировался под воздействием не только русской литературы, но и западной и восточной культур, что определило своеобразие его мировидения и необычность стиля. По словам писателя, философия начиналась для него с Запада, буддизм, даосизм, конфуцианство пришли потом (Ким, Шкловский 1990: 56). В связи с историей создания романа «Отец-Лес», А. Ким заметил, что он писался под воздействием некоторых идей Платона, Спинозы, Шопенгауэра, Гегеля, «древних китайцев» (в частности, «Трактата о пути и потенции» – «Дао дэ дзин» Лао-Цзы), индуизма.
Идея воскрешения человека, углубляющаяся по мере творческого ее постижения, как и мысль о бессмертии, объединяет «Лотос» и романы А. Кима. В данном случае на «масштаб рассмотрения человека» (А. Ким) повлияла, по словам самого автора, и «Федоровская идея воскрешения отцов, воскрешения предков и заселения умножившимся человечеством космоса» (Ким, Шкловский 1990: 55). В частности, Н. Федоров писал: «…Люди еще не доросли, полусущества, но полнота личного бытия, личное совершенство возможно только при совершенстве общем. Совершеннолетие есть и безболезненность, бессмертие; но без воскрешения умерших невозможно бессмертие живущих» (Федоров 1982: 160). Под «несовершеннолетием рода человеческого», «детством человечества» Н. Федоров понимал «суеверное преклонение перед всем естественным», «признание за слепою природою руководства разумными существами» (Федоров 1982: 159). В свете общей концепции романа «Отец-Лес» представляет интерес и высказывание Н. Федорова о «медленном, постепенно наступающем конце» мира. «Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация, эксплуатирующая, но не восстановляющая, не может иметь иного результата, кроме ускорения конца» (Федоров 1982: 301).
Поставив перед собой задачу изобразить «наш земной мир как мир космический, не замкнутый в самом себе» (Ким, Шкловский 1990: 55), А. Ким находит свой путь в истолковании места современного человека во Вселенной.