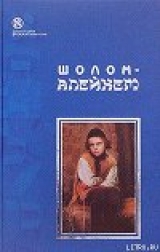
Текст книги "С ярмарки (Жизнеописание)"
Автор книги: Алейхем Шолом-
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
35
ДНИ ТРАУРА
Отец углубился в книгу Иова.[52]52
...Отец углубился в книгу Иова... – в дни траура запрещено читать священное писание, кроме библейской книги Иова.
[Закрыть] – Ему предлагают жениться. – Детей собираются отправить в Богуслав к дедушке Мойше-Иосе
Никогда герой этого жизнеописания так не тосковал по кладу, о котором ему когда-то рассказывал его приятель Шмулик, как в то время, когда он, отец и все его братья и сестры, сидели в одних чулках на полу, справляя семидневный траур по матери.
"Будь у меня теперь клад, – думал он, – клад, спрятанный там, в маленьком местечке... Ну, хоть не весь клад, а только часть его! Как бы он мне сейчас пригодился! Бабушка Минда перестала бы причитать и плакать, упрекать бога в том, что он нехорошо поступил, забрав сначала невестку, а не ее, свекровь... Отец перестал бы вздыхать и твердить без конца, что ему незачем жить на свете и что он ничто без Хаи-Эстер. А они, дети? Чем бы они сейчас занимались? Наверно, были бы на речке с другими мальчишками, плавали бы, ловили рыбу или просто бегали где-нибудь. Такое солнце. Такая жара. Вишни дешевы, смородину почти даром отдают, уже появляются зеленые огурчики в пупырышках, скоро поспеют дыни – желтые ароматные, и арбузы – красные как огонь, сладкие и рассыпчатые, словно песок, Ах, клад, клад!.. Где бы взять клад?" Эти мысли поднимают Шолома и уносят в другой мир – мир фантазий и грез, прекрасных, сладостных грез. Ему представляется, что клад уже у него, он вдруг открылся ему, со всем своим богатством, со всеми драгоценными камнями, вот у него в руках золото и серебро, кучи полуимпериалов, алмазы и брильянты; отец ошеломлен: "Откуда у тебя, Шолом, столько добра?" – "Я не могу тебе, сказать, отец, откуда, – если я тебе скажу, все это взовьется и исчезнет". И Шолом чувствует себя на седьмом небе, оттого что ему удалось вытащить отца из нужды, и только больно, очень больно, что нет при этом его бедной матери, "Не суждено ей, – говорит бабушка Минда, – все свои молодые годы она, бедняжка, жила ради детей, не видела радости, а теперь, когда пришла настоящая жизнь, кончились ее годы".
Но вот раздается вздох отца: "Боже мой, что делать? Как быть?"
И маленький мечтатель возвращается из счастливого мира грез и фантазий опять сюда, в этот горестный мир забот и слез, где люди говорят о муке для халы, о деньгах, чтобы пойти на базар, о постояльцах, которых нет, о доходах, которые "пали", – и все эти разговоры заканчиваются стонами и вздохами отца. "Боже мой, что делать? Как быть?"
– Что значит, как быть? – набрасывается на него дядя Пиня уже в последний день траура. – Сделаешь то, что все люди делают, – женишься, с божьей помощью...
Как, отец женится? У них будет новая мать? Какой она будет? Дети смотрят на отца – что он скажет? Отец и слышать не хочет. Он говорит:
– Мне жениться? Еще раз жениться после такой жены, как Хая-Эстер? И это говоришь ты, родной брат! Кто знал ее лучше тебя?
Отца душат слезы. Он не в силах говорить. Дядя Пиня больше не настаивает.
– Пора читать предвечернюю молитву, – говорит он, и все справляющие траур – отец и дети – встают с пола, становятся на молитву, и шестеро сыновей, между ними один уже взрослый, с рыжей бородкой, по имени Эля, отбарабанивают "Кадеш" так, что любо слушать. Родня с гордостью смотрит на сыновей Хаи-Эстер, читающих "Кадеш". Посторонние женщины даже завидуют... "Ну как не попасть в рай, имея таких сыновей? Это было бы невероятно", – говорит дальняя родственница, Блюма, рябая женщина, жена немого мужа. Она бросила и мужа и детей и прибежала помочь чем-нибудь: по дому, на кухне, присмотреть за сиротами. Дети Хаи-Эстер не могут пожаловаться, что они забыты. Напротив, с тех пор как мать умерла, они как будто стали дороже для окружающих – сироты ведь! Были моменты, когда траур казался им чем-то вроде праздника. Во-первых (и это самое главное), не надо ходить в хедер. Во-вторых, им дают сладкий чай с булкой, к чему они вовсе не привыкли; им щупают головы и животы и расспрашивают о "желудке". У них, оказывается, есть "желудки"! А сидеть всем вместе на одеяле с отцом, голова которого с широким морщинистым лбом склонилась над книгой Иова, наблюдать мужчин и женщин, которые приходят "утешать печалящихся", – все это тоже кое – чего стоит! Посетители входят без "здравствуйте", уходят без "прощайте", странно моргают глазами и что-то бормочут в нос.
Для пострела Шолома эти визиты – клад, здесь целая галерея разнообразных типов и образов, которые сами просятся на бумагу. Первым приходит дядя Пиня, не один, а со своими двумя сыновьями в длинных сюртуках – Исроликом и Ицей. Дядя Пиня, засучив рукава, начинает разговор. Сыновья молчат. Дядя толкует закон, когда собственно должны закончиться семь дней траура – утром или вечером. Он встает, обещая оправиться у себя в священных книгах, чтобы "знать точно". Не прощаясь, он скороговоркой говорит, как и оба его сына, "Сион и Иерусалим" и удаляется. После него приходит тетя Хана со своими дочерьми и поднимает крик: "Хватит, довольно плакать. Мать от этого не воскреснет!" Перед уходом тетя Хана заявляет, что здесь нечем дышать, нюхает табак из маленькой серебряной табакерки и вопит, чтоб открыли хоть одно окно, – здесь задохнуться можно. Потом приходит тетя Тэма, – совершенно беззубая женщина. Лицо у нее смеется, а глаза плачут. Покачивая головой, она произносит слова утешения и сообщает новость: все, мол, умрем...
Это родня. Потом приходят чужие. Разные люди. Такие, которые глубоко верят в бога и загробную жизнь, и такие, которые не очень – то верят. Арнольд из Подворок, например, издевается над всем этим: "Несть закона и несть судьи". Ведь сказано ясно, говорит он: "И нет у человека преимущества перед скотом". Ужас! Что говорит этот Арнольд?! Он не щадит ни бога, ни мессии! И все получается у него кругло, гладко. Он единственный перед уходом прощается, и не удивительно, раз он ни во что не верит. Интересно, что станется с этим Арнольдом, если он возьмет да богу душу отдаст... "Меня можете после смерти сжечь в огне и пепел развеять по всем семи морям – мне это совершенно безразлично", – говорит Арнольд и получает нахлобучку от бабушки Минды: "Не вам бы говорить да не мне бы слушать!" Но Арнольд хоть бы что! Только усмехается. Вслед за ним приходит Нося Фрухштейн, с большими зубами, и бранит отца за то, что он так горюет. Он, говорит, не ожидал этого от него. Додя, сын Ицхок-Вигдора, говорит то же самое. Он клянется совестью, что, случись у него такое несчастье, он – ей-же-ей – в благодарность опустил бы монету в кружку Меера-чудотворца... Когда Додя уходит, поднимается смех, потому что все знают его жену Фейгу-Перл. Эта Фейга-Перл – поистине "перл создания". Слава богу, уж и посмеяться можно. Отец все еще держит перед собой книгу Иова, но не плачет так много, как в первые дни. Он уже не злится на дядю Пиню, когда тот заговаривает о женитьбе. Он только вздыхает и говорит: "Что делать с детьми? С детьми как быть?"
– Как быть с детьми? – отзывается дядя Пиня, поглаживая бороду. Старшие будут учиться, как учились, а младших ты отправишь к дедушке в Богуслав.
Он имеет в виду дедушку Мойше-Иосю и бабушку Гитл с материнской стороны; дети никогда их не видели, они слышали только, что где – то далеко, в городе под названием Богуслав, есть у них богатые дедушка и бабушка. Туда, значит, их и собираются отправить. Это совсем недурно. Во-первых, сама поездка чего стоит. Во-вторых, они увидят новый город. Интересно также познакомиться с дедушкой и бабушкой, которых они никогда не видали. Возникает только один вопрос: кого дядя Пиня считает старшим, кого младшим, ведь не может быть сомнения в том, что мальчик, которому минуло тринадцать лет, будь он даже меньше щенка, должен считаться старшим. Этот вопрос так сильно занимал тринадцатилетнего "юношу", что он почти перестал думать о матери, по которой дважды в день читал заупокойную молитву, о вздыхающем отце, о кладе, по которому так тосковал. Его интересовало теперь другое: поездка в большой город Богуслав, дедушка Мойше-Иося и бабушка Гитл, которые, говорят, так богаты, так богаты...
36
У ДНЕПРА
Путешествие в Богуслав. – Возница Шимен – Волф – молчальник. – В ожидании парома. – Возница молится на берегу реки. – Сердечная молитва
Однажды, в конце лета, перед осенними праздниками, к крыльцу подъехала повозка. В нее усадили младших детей, четырех мальчиков и двух девочек, – тринадцатилетний Шолом был тоже среди них, – дали с собой по две сорочки, съестного на два – три дня, письмо к деду Мойше-Иосе и бабушке Гитл и раз двадцать наказали, чтобы они были осторожны при переправе на пароме через Днепр.
Переезжать через Днепр, да еще на пароме! Никто из детей парома никогда не видел и не представлял себе, что это за штука. Но они догадывались, что переправляться на этой штуке через Днепр должно быть неплохо. И дети забывают, что у них умерла мать; забывают все на свете и думают только о поездке, о Днепре, о пароме. Но им напоминают, что мать умерла. На то существует бабушка Минда, которая наказывает им еще и еще раз, чтоб они, упаси бог, не забывали читать по матери заупокойную молитву. Она гладит детей холодными, скользкими пальцами, целует в щечки и прощается с ними навсегда, ибо бог знает, доведется ли ей еще когда-либо с ними увидеться... Сердце подсказывало ей правильно. Когда некоторое время спустя дети вернулись из Богуслава, бабушка Минда была уже там, где их мать, – могила подле могилы. И отец читал заупокойную молитву по своей матери вместе с детьми, которые поминали свою мать. То был год поминаний, год холеры. Бесконечное множество людей утратило близких, вся синагога поминала мертвых.
Как различны бывают люди! Насколько возница Меер-Вевл, который возил детей из Воронки в Переяслав, был человек живой, подвижной, словоохотливый, настолько другой возница, Шимен – Волф, который вез детей из Переяслава в Богуслав, был угрюм, флегматичен, молчалив. Хоть кол на голове теши, хоть из пушки по нему стреляй, он ни слова не вымолвит, кроме: "Полезайте на воз", или: "Слезайте с воза". Дети сгорали от нетерпения узнать, скоро ли покажется Днепр, когда они будут переезжать его на пароме и что такое собственно паром, но ничего не поделаешь – молчит человек да и только! Сидит, как пугало, на облучке, подстегивает лошадей, причмокивает толстыми губами и только время от времени произносит: "Но – о, холера! Чтоб вас холера взяла!", или: "Но, дохлые, чтоб вам подохнуть!" Порою он что-то шепчет про себя или тихо напевает тоненьким голосом. Это он на память читает псалмы.
Так же, как у людей бывают разные характеры, так, простите за сравнение, и лошади – у каждой свой нрав. Лошади возницы Шимен-Волфа характером пошли в хозяина: такие же сонные, к тому же они были со странностью – чихали. Всю дорогу они чихали, фыркали, обмахивались хвостами и еле передвигались. Казалось, мы плетемся нескончаемо долго, и бог весть, доберемся ли когда-нибудь до жилья. Кругом – небо, земля и песок. Песку нет конца. А в довершение всего лошади вдруг останавливаются посреди дороги. Шимен – Волф слезает с телеги и, допев тоненьким голосом: "Бла-а-женны все уповающие на него", обращается к детям: "Слезайте с воза!" Дети вылезают из повозки. Что случилось? Ничего. Дорога песчаная, лошадям тяжело – придется пройтись пешком. Что ж, это не беда, пешком, так пешком. Тем лучше, пешком даже веселей. Беда только в том, что младшая девочка, которой всего лишь годик, не хочет оставаться одна в повозке, она плачет, и ее приходится нести на руках. Это не большое удовольствие. Счастье, что идти приходится не очень долго. Дорога вскоре становится лучше, и возница говорит детям: "Полезайте на воз!" Забираешься в повозку и вытягиваешься, пока снова не начинается глубокий, вязкий песок. Тогда опять раздается команда: "Слезайте с воза!" А потом: "Полезайте на воз!" Но что там стеркнуло вдалеке? Что там блестит, как стекло, и отливает на солнце серебром? Неужели это Днепр? Ребятам не сидится в повозке. А повозка как назло подвигается медленно, медленно; чтобы добраться до Днепра, нужно преодолеть одну полосу и еще одну полосу желтого, плотного, глубокого, до колен, песка. Лошади плетутся еле-еле, шаг за шагом, с трудом вытаскивая ноги. Колеса вязнут в песке, повозка кряхтит. А Днепр все ближе и ближе разворачивается перед ними во всей своей шири и красе. Да, это Днепр! Он сверкает на солнце и улыбается юным путешественникам, которые впервые явились приветствовать древнего старца: "Мир тебе, как живешь, дедушка?"
Высокий, зеленый, местами пожелтевший прибрежный камыш с отражающимися в воде длинными остроконечными листьями придает ему, этому старику, особую прелесть. Тихо кругом.
Вширь и вдаль, точно море, раскинулся Днепр, и воды его несутся куда – то, несутся в глубоком молчании. Куда? Это тайна. Синее небо глядится в воду и отражается в ней вместе с солнцем, которое еще высоко. Ясное небо, ясная вода, ясный воздух, чистый песок. Ширь и благодатная тишина. Необъятный божий простор. И вспоминаются слова псалма: "В просторе – господь". Фрр! – с криком вылетела птица из камыша. Прорезав стрелою чистый воздух, она зигзагами поднялась вверх и стала парить высоко, высоко, но, как бы вспомнив о чем-то, возвратилась и снова исчезла в желто – зеленом камыше. И хочется птицей выпорхнуть из повозки и полететь над водой или по меньшей мере раздеться догола; прыгнуть в воду и плескаться в ней, плавать, плавать, плавать...
– Слезайте с воза! – командует Шимен – Волф и первый вылезает из повозки. Заткнув кнут за пояс, он подносит обе ладони ко рту и, задрав голову, испускает глухой крик, точно из пустой бочки:
"Паро-о-м, паро-о-ом!.."
Паром, видно, живое существо, которое находится где – то на той стороне реки, его – то и нужно вызвать. Дети выползают из повозки и, расправив сведенные от долгого сидения члены, помогают вознице вызывать паром. Так же, как и возница, они подносят ко рту ладони, задирают головы и пронзительно кричат:
– Паро-ом, паро-ом!
Внезапно ими овладевает смех. Неизвестно отчего. Они смеются без всякой причины. Они смеются оттого, что им хорошо, оттого, что они молоды и здоровы, что стоят у Днепра и будут сейчас переезжать реку на пароме. Кто может сравниться с ними! Но вот солнце начинает прощаться с землей. Последними косыми чистого золота лучами оно касается серебристой глади Днепра – и смех обрывается. Пропало желание смеяться. Уж очень тихо здесь, на берегу Днепра. Священная тишина. Да и прохладно стало, и вода удивительно пахнет, она тихо плещется, журчит, бежит... Между тем возница, подпоясавшись платком и засунув за него кнут, стал лицом к востоку, благочестиво прикрыл глаза и, раскачиваясь, начал тоненьким голосом читать вечернюю молитву. Эта молитва здесь, под открытым порозовевшим небом, на берегу древнего, прекрасного, благоухающего Днепра, слилась с журчанием воды, и веселыми юными путешественниками овладело новое настроение: им тоже захотелось молиться. Это была, можно сказать, их первая добровольная, не вынужденная молитва, здесь, под открытым небом, в непосредственной близости к богу. Никогда им так не хотелось молиться, как теперь, в сумерки на берегу Днепра. Пропустив вступление, ничего, в дороге можно обойтись и без вступления, – они начали сразу с "Блаженны живущие в доме твоем", начали с увлечением, нараспев. Потом, закрыв глаза и раскачиваясь, как возница Шимен – Волф, они встали все лицом к востоку: "Господь великий, могучий, всесильный..." – смысл этих слов открылся им только здесь, под вечерним небом, на берегу Днепра. И молитва лилась так сердечно, так сладостно, как никогда.
37
НА ПАРОМЕ
Неожиданная встреча на пароме. – Исав – маленький выкрест. – Они узнают друг друга. – Расстаются без слов
Маленькие сироты – путешественники еще не успели кончить молитвы, как увидели вдали на сверкающей глади Днепра что-то темное, круглое, все время меняющее краски в свете заходящего солнца. Этот круглый предмет становился все больше и больше, то, ныряя, пропадал, то снова показывался. Потом дети услышали странный шум, будто колеса катятся, и скрип натянутой веревки. Покончив наскоро с молитвой, они побежали к берегу и увидели на шири Днепра толстый канат, привязанный к толстому бревну на берегу. Круглый предмет все увеличивался и увеличивался и, наконец, вырос в какое – то неуклюжее деревянное сооружение, какое – то чудовище, похожее на плавающий дом. Наверху, на спине этого чудовища, вертелось колесо; силой его чудовище и двигалось по воде. Оно медленно плыло, все приближаясь к берегу. Наконец его уже можно было разглядеть со всех сторон и убедиться в том, что это не чудовище, не живое существо, а своего рода судно, баржа или берлина, на ней стоят подводы, лошади, люди. Это и был паром, которого дети так долго ждали, чтобы переправиться через Днепр. Им стало легче на душе. Теперь можно присесть на песок и подождать, пока паром подойдет и остановится. Ведь паром плывет очень, очень медленно, еле тащится. Солнце движется много быстрее его. Лишь недавно оно было над горизонтом, а теперь катится точно под гору и быстро исчезает за горой, оставив за собой широкую красную полосу. Ветерок все свежеет. Дети сидят на песке. У старшего на руках годовалая сестренка; малютка спит.
Паром остановился. Люди с повозками и лошадьми стали медленно, поодиночке, не произнося ни слова, спускаться с парома, а возница Шимен – Волф, также без единого слова, взобрался на паром, точно все условились хранить молчание. Сначала он повел на паром лошадей с повозкой, даже не пожелав им, по обыкновению, холеры, потом махнул рукой своим юным пассажирам, чтобы и они взбирались. Еще минута – и паром волей одного человека, всей силой налегшего на толстый канат, тихо двинулся в путь; так тихо, что движение его почти не ощущалось. Казалось, не паром идет вперед, а река уходит назад, отступает, будто провожая их с миром. Тут только и стало видно, как широк Днепр, как он величествен и прекрасен. Плывешь, плывешь, а до другого берега все еще далеко.
Солнце давно уже село за рекой. Взошла луна, сначала багровая, потом она посветлела, стала совсем серебряной. Поодиночке, как субботние свечи, зажглись в небе звезды, и ночной Днепр приобрел другую окраску, другой вид и очертания, словно укутался в темный плащ. Тихой прохладой, мягкой, ласкающей свежестью повеяло от него. В голову приходили тысячи мыслей – о ночи, о небе, о звездах, отражающихся в водах тихого Днепра. Каждая из этих звездочек – душа человека... А паром? Как это один человек, малый этот, гонит такую махину? Он одной рукой налегает на канат, тянет его, колесо вертится, и паром идет.
Шолом не прочь посмотреть поближе, как этот малый работает у каната и гонит паром. Он подходит к паромщику. Это еще совсем молодой парень, в серой свитке, огромных сапожищах и бараньей шапке; малый всей силой навалился на толстый канат. Шолом приглядывается к работе этого паренька – он движет плечом вверх – вниз, вверх – вниз так, что даже кости трещат. "Исав, – думает про себя Шолом, – такую работу может делать только Исав. "И будешь ты служить брату своему", сказано в писании. Очень хорошо, что я внук Иакова, а не Исава..."
Но у него все же душа болит за паренька. Слишком юн этот паромщик. Шолом заглядывает ему в лицо и... отскакивает назад. Кажется, он его знает! Знакомые глаза. Шолом вновь подходит, на этот раз совсем близко: это даже не паренек, а совсем мальчишка, с дочерна загоревшим лицом и огрубевшими руками. Глаза еврейские, а руки иноверца. И он вспоминает писание: "Руки же, руки Исава". Но почему же мальчишка ему так знаком? Где он его видел?
Шолом роется в памяти, и вспоминается ему один из его воронковских товарищей, Берл – сын вдовы, смуглый паренек с огромными зубами. Неужели это он? Нет, не может быть! Это померещилось Шолому. Но, боже милостивый, ведь это все-таки он! Малый, почувствовав, что его разглядывают, еще глубже надвинул шапку, украдкой покосившись на того, кто так внимательно наблюдал за ним. Глаза их встретились в темноте, и они узнали друг друга...
Эта неожиданная встреча вызвала у Шолома множество мыслей: Берл – христианин? Еврей, и вдруг – христианин. Он, правда, слышал еще в местечке, что Берл крестился. Недаром говорили, что он отщепенец... Подойти к нему, дать себя узнать, расспросить его Шолому что-то мешало. Он чувствовал отчужденность, холодок, но в то же время испытывал жалость. Жалко еврея, который перестал быть евреем, и ради чего? Ради того, чтобы надеть серую свитку; большую мохнатую шапку и стать помощником паромщика, батраком? А "батрак" хоть бы что, даже не пошевельнулся. Видно, не мог товарищу в глаза смотреть... Он глядел вниз, в воду, будто там можно что-нибудь увидеть. Затем Берл еще крепче закутался в свою свитку, еще ниже надвинул шапку и, поплевав на руки, с особым рвением взялся за работу, всем телом навалился на толстый канат. Канат скрипел, колеса вертелись, паром быстрее заскользил по воде. Стоп – приехали!
– Полезайте на воз! – скомандовал наш возница – молчальник, выкатив повозку с парома, и стегнул лошадей, почтив их кличками "холера" и "дохлые". Днепр остался позади – с паромом, с батраком – паромщиком, который был когда-то еврейским мальчиком, внуком праотца Иакова. Бедный, бедный!








