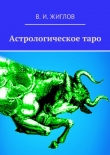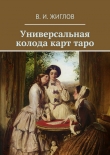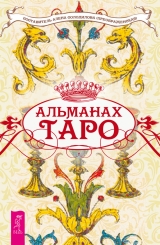
Текст книги "Альманах Таро"
Автор книги: Алена Солодилова (Преображенская)
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поэтому его действия в артуровском цикле очень характерны. С одной стороны, он помогает благородному королю Артуру занять трон, помогает ему решать сложные задачи, участвует в создании Круглого стола (метафора мандалы или Зодиака) и всячески противостоит козням его врагов. С другой – когда по звездам Мерлин прочитал, что Артур будет убит тем, кто рожден в этом году, он пошел по библейскому пути: посоветовал Артуру приказать перебить всех новорожденных младенцев. И что интересно, ни Артур, ни Мерлин не стали от этого негативными персонажами.
Исторически имя Мерлин является прямой отсылкой к алхимической ртути – меркулину, или Меркурию. Мы вновь возвращаемся туда, откуда начали – двойственность Гермеса, являющегося одновременно творцом, учителем и мошенником.
На самом деле архетип Мага в современном смысле очень тесно связан с архетипом Меркурия.
Следует перечислить их общие черты. Во-первых, и тот и другой тесно связаны с идеей границы между этим и тем мирами. Меркурий – единственный Бог, спокойно пересекающий границу между царствами небесных богов, людей и богов подземных (иначе – между миром ангелов и демонов). Он – одновременно свой и иной в каждом из этих миров. Как уже было сказано, Меркурий сочетает в себе высший и низший аспекты и связан с идеей божественной игры. В системе магических соответствий планетарная сила, соответствующая первому аркану, – опять же Меркурий.
Архетип Меркурия исследует Карл Юнг в своей работе «Дух Меркурия». Не вдаваясь в сложные символические сплетения и цитаты, мы приводим резюме, которое Юнг дает исследуемому им архетипу:
а. Он состоит из всех мыслимых противоположностей. Таким образом, он есть ярко выраженная двойственность – но постоянно именуется единством. b. Он и материален, и духовен. c. Он – процесс превращения низшего, материального в высшее, духовное, и наоборот. d. Он – черт, спаситель и психопомп, неуловимый «трикстер», наконец – отражение Бога в матери-природе. e. Он также – зеркальное отражение мистического переживания алхимика, которое совпадает с opus alchymicum.
Символ Меркурия, которому соответствует первый аркан, – кадуцей. Две змеи, обвившиеся вокруг Жезла. Этот символ можно интерпретировать метафизически – как соединение добра и зла в едином источнике Меркурия, точно также можно рассмотреть его с позиции тонкой физиологии: ведь сама схема кадуцея на удивление напоминает йогические схемы основных каналов нашего тела. Однако мне кажется, что по сравнению с символом такого масштаба какая-либо интерпретация мало применима. Ведь интерпретация появилась во времени как слово мага, а символ, архетип пребывает изначально.
Всего одна забавная история. Китайский шаман, когда идет за своими целебными травами, превращает себя в подобие кадуцея. Он ловит двух змей – красную и зеленую, и, держа их головы пальцами, идет туда, куда ведет его этот поток. Из этого примера мы видим, что архетипические образы являются чем-то гораздо большим, нежели рациональное построение. Некоторые эзотерические традиции, увлекаясь интерпретацией, утверждают, что символы были даны нам некими высшими существами, которые зашифровали так свои доктрины. Эта соблазнительная идея опровергается тем, что символ превыше любой интерпретации и концепции. Вначале переживается символ, и только потом появляется теологический или эзотерический трактат для его осмысления.
Маг дает нам возможность работать с символами без интерпретаций. Оказавшись на пути Бет, мы уподобляемся «самому динамическому импульсу творения» (Кроули), который идет от источника в первичную материю и извлекает оттуда нужные ему идеи. Суть Мага – в балансе. На большинстве изображений аркана Маг держит свои руки так, что одна показывает на небо, а другая на землю. Он как бы говорит нам, что только ему, как Гермесу, доступны все три мира, и только он может скользить между ними.
Разница между Магом и Иерофантом, между жрецом здешних богов (архетипов) и жрецом иных богов прекрасно уловлена Кастанедой. С одной стороны, учитель-тональ Дон Хуан воплощает архетип Иерофанта. Нельзя сказать, что он обучает тому, что Карлос уже знает. Нет. Но он обучает тому, что он хотя бы отчасти может услышать. Тому, что можно описать словами или хотя бы тому, к чему можно направить словами. С другой стороны, маг-нагуаль Хенардо. Тот, кто не учит почти ничему, но вызывает животный ужас одним своим присутствием. Не потому, что он специально пугает героя. И не потому, что он как-то враждебен. Потому что для героя он – выразитель нагуаля – тотально иного.
Кроули, пожалуй, один из последних, кто смог в полной мере воплотить архетип Мага, испив эту чашу до дна. Тот, кто был «скрыт под маской скорби» (Книга закона) и окружен ореолом черного мага, «приносившего в жертву младенцев», и «провокатора, нарушившего все нормы», на самом деле, как и Симон, был, прежде всего, жрецом иных богов. В своем жречестве Кроули создал уникальную теологическую и символическую систему, которая стала точкой отсчета для целого направления в культуре. Кроули было суждено стать сокрытым идеологом новой сакральности, сакральности плоти.
Именно Кроули удалось создать свою неповторимую символьную систему Таро, в которой ему удалось передать сразу оба аспекта. Маг-слово. И Маг-иллюзия. Маг-мошенник. И Маг-Бог.
Кроули, точнее леди Фрида Харрис под его мудрым руководством, изобразила Меркурия, рассекающего на серебряных крыльях многомерное пространство. В Таро Тота Маг – это не просветленный Гендальф и не базарный мошенник. Он и то и другое. Его артефакты больше не лежат на столике перед ним словно во сне, они танцуют свой танец силою его освобожденной мысли, творя окружающую реальность. «Жезлом создает, чашей сохраняет, кинжалом убивает, диском воскрешает». Но все это – лишь его игра.
Игра – важнейшая идея, связанная с архетипом первого аркана. Что было вначале – игра. Что есть Бог? «Играющее дитя!» – восклицает один из первых философов истории человечества Гераклит. А что наша жизнь? «Игра», – вторит ему Шекспир. Игра, «единственное слово, лишенное равной ему оппозиции», является началом всякого бытия, потому и Бог есть, прежде всего, великий игрок, крутящий небесную рулетку и иногда заставляющий себя забыть, что ему известны все комбинации, потому что иначе игра лишена своего смысла.
Во что играет Маг? Его игрушки – Жезл, Чаша, Меч (иногда Кинжал) и Диск. Или, если угодно, – Огонь, Вода, Воздух, Земля. Согласно легендам, Маг может ходить по воде и плавать в земле. Или более точно, как написано в инициатическом романе Густава Майринка: «думать сердцем и чувствовать мозгом». Потому что стихии Мага – это не просто земные стихии, которые мы каждый день видим перед собой. Это модусы сознания, режимы бытия.
В вводной лекции мы говорили о связи Малого аркана со стихиями. Жезлы-крести-Огонь, Чаши-черви-Вода, Мечи-пики-Воздух, Диски-бубны-Земля. Но мало кто делает правильный вывод из этого очевидного факта. Потому что четыре оружия мага – это вся колода Малого аркана. Его орудия, его продолжение. Как продолжение руки. Он – повелитель всех игр, которые может вести судьба.
Красивое подтверждение тому – прорвавшийся в XIX веке в игральную колоду джокер, который есть не кто иной, как Дурак и Маг в одном лице. Кстати, в некоторых игральных колодах есть две карты джокера, которые отличаются по цвету – красный джокер, черный джокер. Маг и Дурак. Ноль и единица.
Игральная колода есть горизонтальное бытие. Игра. Лила. Майя. Вот почему хорошая цыганка сможет погадать на обычной игральной колоде на любой житейский вопрос, вот только духовная реальность останется для нее закрытой. Потому что духовная реальность, мир архетипов – это Большой аркан. И не случайно явная нецелостность игральной колоды (горизонтального измерения), выраженная троичной структурой карт-картинок (король—дама—валет), естественным образом превращается в четверичность в колоде Таро, когда добавляется Принцесса. Три – число религии этой стороны. Четыре, точнее три плюс один – иное.
С арбалетом в метро,
С самурайским мечом меж зубами,
В виртуальной броне, а чаще, как правило, без,
Неизвестный для вас,
Я тихонько парю между вами
Светлой татью в ночи,
Среди черных и белых небес.
На картинах святых
Я незримый намек на движенье,
В новостях CNN я черта, за которой провал,
Но для тех, кто в ночи,
Я звезды непонятной круженье
И последний маяк
Тем, кто знал, что навеки пропал.
Все верно. БГ как подлинный художник прекрасно чувствует теургию Мага. «Среди черных и белых небес» – почти перифраз из недавно переведенного на русский язык ритуала Исрафель «О ты, звезда Востока, которой были ведомы маги. Ты, что всегда была в аду и в небесах. Ты, что между светом и тьмой трепетала. Отец твой – солнце, мать твоя – луна». Это скольжение, скольжение ночной звезды, последний маяк, о котором одновременно возвещают Кроули (эссе «Звезда видна») и Юнг (финал «Семи наставлений мертвым»). Звезда ведет Магов к колыбели играющего Бога – древний сюжет Древнего мифа, который обречен оставаться непонятым. Потому что, чтобы увидеть Звезду нужно уже стать Магом. Нужно уметь поставить себя на его место.
Одна из современных масок Мага – сверхчеловек. Есть восхитительная улыбка Бога, это то, что Ницше подсознательно выбрал для своего сверхчеловека по имени Заратустра, имя первого, в этимологическом смысле, мага. Само имя говорит нам о магии.
В идее сверхчеловека – великая красота и великая ловушка. Поместив себя на место Мага, мы обречены оказаться в состоянии обесценивания. Нужно иметь силу встретиться с Магом. И выдержать его взгляд с той стороны зеркального стекла. Тогда ты тоже станешь Магом. Малым Магом, посвященным, избранным. Но это невозможно сделать по своему желанию, волевым усилием. Этого можно достичь, только осознав, что колесница, которой ты управляешь, управляема иным.
Свою встречу, свой дар магии, прекрасно описал Юнг в последних главах «Красной книги». Там есть потрясающе точный диалог между Юнгом (получившим в дар от своей души Жезл Гермеса) и его душой.
Д.: Магия не легка, и она требует жертвы.
Я: Она требует жертвы любви? Или человечности? Если требует, забери Жезл обратно.
Д.: Не спеши. Магия не требует таких жертв. Она требует другой жертвы.
Я: Что это за жертва?
Д.: Жертва, которую требует магия, – это утешение.
Я: Утешение? Я правильно понял? Понимать тебя невыразимо трудно. Скажи мне, что это значит?
Д.: Утешение следует принести в жертву.
Я: Что ты имеешь в виду? Следует принести в жертву утешение, что я даю или утешение, которое я получаю?
Д.: И то, и другое.
Я: Я запутался. Это слишком неясно.
Д.: Ты должен принести в жертву утешение ради черного Жезла, утешение, которое ты даешь и которое получаешь.
Я: Ты говоришь, что мне непозволительно получать утешение от тех, кого я люблю? И нельзя давать утешение тем, кого люблю? Это значит утрату части человечности, и ее место занимает то, что называют жестокостью к себе и другим.
Д.: Так оно и есть.
К. Г. Юнг «Дар магии»
Очевидная параллель, которая сразу приходит в голову, – Книга закона. «Ненавижу утешаемых и утешителей». Но все параллели – игра ума. Попробуйте почувствовать, что для вас значат эти слова.
Подлинный магический ритуал – всегда трансгрессия. Выход за грань. Нарушение, жертва и отречение в одном лице. Такой ритуал делается два раза в жизни. Первый и десятитысячный раз. Первый раз, когда мы таки делаем над собой усилие. И совершаем ритуал. Делаем МРП (кстати, в одной из посттелемитских колод Маг изображен делающим МРП), принимаем причастие гностической мессы или просто садимся в асану. Делая ритуал в первый раз, мы переходим границу между человеческим и иным. Мы заявляем о своей готовности перейти границу. В десяти-пятнадцати-двадцатитысячный раз мы обретаем мастерство. И понимаем, что мы сделали тогда, в первый раз, на самом деле.
Жаль, что сейчас так мало тех, кто способны действительно совершить трансгрессию. Потому книги Мага всегда останутся «для всех и ни для кого»…
Олег Телемский, создатель и руководитель клуба «Касталия», выпускник программы обучения Московской ассоциации аналитической психологии, посвященный О.Т.О. пятой степени и рукоположенный жрец гностической церкви.www.castalia.ru+7(905)504-363-7
Семира
Сказочное Таро
Как система, помогающая человеку сориентироваться в мире, Таро ныне спустилось из области эзотерики в область психологии. Символы Таро гораздо чаще трактуются психоаналитически, чем космогонически. И создаются новые варианты как трактовок карт, так и самих рисунков (впрочем, редко отходящие от модели Уэйта). При этом психология все более смыкается с мифологией, что позволяет разукрасить Таро не только бытовыми, но и сказочными образами. Например, в западной литературе существует вариант такого «сказочного» Таро,[9]9
Lerner I. and Lerner M. Inner Child Cards. A Journey into Fairy Tailes, Myth and Nature.
[Закрыть] где карты содержат западные сказочные сюжеты, отчасти знакомые и русскому читателю.
Такая трактовка включает Таро в область сказкотерапии и избавляет интересующихся символическими системами от излишней туманной мистики – показывая, что любой психический и духовный процесс, сколь бы сложен для понимания он ни был, всегда имеет дело с реальностью нашей обыденной жизни, предельно простой в своих истоках. Если западные карты Таро нуждаются в трактовке, то суть знакомой сказки само собой понятна, и любой сам может приложить ее к своей жизненной ситуации – согласно известной пословице «Сказка – ложь, да в ней намек». Кроме того, сказочная колода может удовлетворить психологические запросы младшего поколения, поскольку его представителей часто заинтересовывают и символы, и карты, такие как Таро. Детское восприятие сказок хорошо тем, что еще не утратило целостности и потому воспринимает образы такими живыми и глубокими, какими они были столетия назад. Для детей они изначально наполнены тем эмоциональным, архетипически цельным содержанием, которого взрослые часто уже не замечают. И метафизические поиски юности находят в детском непосредственно-образном восприятии хорошую базу.
Сегодня развивается творческий подход к изображениям карт, видоизменяющий традицию, и его главным недостатком часто служит лишь недостаточно обоснованное соответствие традиционного содержания карты и современного рисунка. Это обычно происходит в том случае, когда вариант художественной трактовки подбирается лишь по внешнему и поверхностному сходству с каким-то символом традиционной колоды, не затрагивающему архетипической глубины данного символа в общей системе карт Таро. Или если карты рисуются просто произвольно, вне какой-либо модели, есть опасность, что они отразят лишь субъективный психологический процесс, но не объективно-духовный.
За любой сказкой стоит миф, и ее символика всегда архетипична. Поэтому, хотя сказки и являются профанацией мифов с точки зрения Древнейшей общечеловеческой мифологии, эмоционально приближены к нам, и на основе образного восприятия в них можно распознать не только ситуативно-психологический (чем пользуются психологи), но и более глубокий духовный смысл символизма.
Древнейшее мышление опирается на аналогии. Таро, как и астрология, – это, прежде всего, работа с аналогиями, позволяющая выйти к более глубоким пластам сознания. Поэтому важно находить верные аналогии, на которые откликается душа, которые прояснили бы смысл аркана, углубили бы его содержание и выявили современное философское значение. Эти аналогии, чтобы служить подсказкой и помощью душе, должны быть просты и красивы. Опираясь на глубинный смысл мифологических архетипов и астрологическое значение символов Таро, постараемся дать сказочную интерпретацию карт Таро, используя сценарии русских и хорошо известных зарубежных сказок. Задача была подобрать как можно более простые и понятные сюжеты, чтобы смысл карты не поменялся, но раскрылся, стал более ясным. Приблизить мистику к жизни и нашему менталитету, но сохранить при этом духовную вертикаль.
Старшие арканы
Нулевой аркан. Бродяга (Иван-дурак)Русский образ Шута колоды Таро – это, конечно же, Иванушка-дурачок, совершающий непредсказуемые поступки, которые ставят его на грань гибели, но и приводят к неожиданной удаче.
Сюжетную динамику аркана лучше всего раскрывает сценарий сказок, где главный герой отправляется, а чаще посылается на поиски неведомого: «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Такая цель пути символизирует непредсказуемость и свободу поиска, на которой делает акцент традиционная карта Таро. Сказочная карта может изображать, например, необитаемый дикий остров, куда попадает стрелец Федот (которого царь услал на скитание, с рациональной точки зрения, не имеющее видимого конца, чтобы тем временем соблазнить его жену), и яства на скатерти-самобранке, которые подает скитальцу невидимый гостеприимный хозяин (астрологически – Уран), исполняя все его мысленные пожелания. Скатерть-самобранка или чудесная торба, где прячутся сказочные помощники – самые частые находки скитальца, хотя могут быть и другие (в китайской сказке герой находит веник, ударом которого можно омолодить человека, – традиционная для Китая алхимия бессмертия, тема сянь-даосизма). Суть в том, что хотя герой обретает и вправду непонятно что – чудо, это освобождает его от тягот жизни, как Федота – от гнета царя.
Архетипически образ Царя воплощает социум и его мировоззрение. И такой сказочный сюжет показывает, что уже первая карта Таро ставит задачу освобождения героя (сознания «Я») от традиционных установок, что в конце пути может привести и к смене Царя (общественного разума). Недаром Уран заведует революциями, особенно в России!
Интересна русская трактовка этого сюжета, когда герой располагает к себе невидимого хозяина острова дружеским альтруизмом, приглашая разделить трапезу. Это удивляет того, кто, подобно Господу Богу, привык лишь исполнять желания других и сам ни в чем не нуждается (!), потому этот непонятно кто и решает составить герою компанию, отправившись вместе с ним в обратный путь. Такие нетривиальные повороты мысли отличают планету Уран, символизирующую все неожиданное и необъяснимое, с чем мы явным образом сталкиваемся в жизни и что дарует нам свободу от прежних стандартов поведения и общественных предписаний.
Надо добавить, что возможность помощи человека Богу в их совместном творчестве – идея Каббалы, перешедшая в Таро и характерная для христианской эзотерики. А также и русской православной философии богочеловечества (В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева). Творение нового предполагает изначальную непредопределимость бытия и веру в чудо.
И это более свойственно анархично-свободной душе России, чем регламентированной жизни Запада. Поскольку уранический архетип отражает характер нашей страны, то здесь нам и карты в руки: сюжет обретения непонятно чего – очень русская тема, как и образ Ивана-дурака – главного героя большинства русских сказок. Хотя образ простака есть и в западных сказках, он не несет в себе столь положительного акцента, и там царем чаще становится принц, как это и предписано, чем дурачок, а вот у нас, скорее, наоборот. Эта карта и характер России говорят о том, что выбор будет сделан в пользу того, чего не ждут.
I аркан. Мастер – «Приключения Буратино»Ключик Буратино, открывающий двери в волшебный театр, – аналог волшебной палочки и Жезла Мага на традиционной карте Таро. И в сюжете сказки, подобно Магу, манипулирующему предметами на традиционной карте Таро, Карло своим мастерством превращает неотесанный чурбан в куклу – существо, подобное человеку. Созданное умом и руками человека, оно оживает и помогает достичь заветной цели – с помощью Буратино Карло обретает новый кукольный театр. Трудясь над поленом, мастер вроде бы не ставит себе задачи создания целого театра, но и в первом творческом акте подспудно содержится конечная цель творчества. Мы можем не осознавать ее и даже забыть о ней, а потом, когда жизнь помогает довершить то, к чему мы сделали первый шаг, это кажется магией.
Жизнь учит контролировать весь процесс творчества, сознательно управлять им – в этом смысл образа Мага.
Это карта обучения и развития интеллекта-Меркурия – главного инструмента в достижении целей. Архетипически неслучайно в образе то, что Карло посылает Буратино учиться в школу. Но, как и наш интеллект, Буратино совершает множество ошибок, вместо учебы в школе жизни предпочитая театральную игру. Его водят за нос обманщики лиса и кот – это можно сопоставить с тем, что и в мифологии началом интеллекта выступает природная хитрость, и в сказках для самых маленьких ум обычно проявляет обманщица-лиса. Также герой попадается на удочку легкого приобретения денег (предприимчивости ума). Но в конце концов Буратино перестает покупаться на внешние обстоятельства и, справляясь с ними, находит то, что искал – ключик к стране своей мечты, которую вложил в него его создатель. Герой сдергивает покров иллюзий – очаг, нарисованный на холсте, – и находит настоящую дверцу к тому миру, где выдумка становится реальностью.
Черты I аркана также имеет сказка «Алиса в Зазеркалье», где ярко описано оперирование с иной (как сегодня говорят, виртуальной) реальностью нашего интеллекта.
Чтобы чувствовать себя непринужденно в мире Зазеркалья, Алиса должна понять свою «отделенность» от него – независимость своей воли от ограничений, традиций, накладываемых на сознание. Ей надо найти себя вопреки абсурду ума. Тогда, подобно Магу Таро, она оказывается способна оперировать виртуальной реальностью сознания: уменьшать и увеличивать ее размеры, находить искомое, входить в нее и покидать ее по своему желанию. Эта сравнительно новая сказка приобрела сегодня популярность, поскольку управление умом – требование нашего времени. (Астрологически аспект соединений Нептуна и Плутона, происходящий раз в 400 лет и отвечающий за потенциал эмоционально-духовного восприятия и преобразования реальности, имел место в начале XX века под знаком Близнецов. Поэтому, как говорится в сказках, акцент на виртуальной реальности ума как неизбежном фоне всякой душевной деятельности будет актуален еще триста лет и три года.)