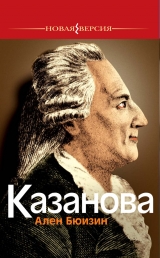
Текст книги "Казанова"
Автор книги: Ален Бюизин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XIV. Париж II
Все взаимосвязано, и мы порождаем деяния, не имея к ним отношения. Таким образом, все самое важное, что происходит в мире, есть то, что должно с нами случиться. Мы лишь думающие атомы, летящие туда, куда несет их ветер.
«Мы прибыли в Париж утром 5 января 1757 года, в среду, и я остановился у своего друга Балетти, который принял меня с распростертыми объятиями, уверяя, что, хотя я не подавал о себе вестей, он ожидал меня, ведь, поскольку неизбежным следствием моего побега было удаление от Венеции, даже изгнание, он и представить себе не мог, чтобы я избрал для проживания иной город, нежели тот, где провел два года кряду, наслаждаясь всеми прелестями жизни» (II, 12–13). Первым делом он попытался представиться аббату де Берни, но ему сказали, что тот в Версале: благодаря покровительству всемогущей госпожи де Помпадур он возглавил внешнеполитическое ведомство. На данный момент это была его единственная надежная опора во французской столице. Он немедленно отправился в Версаль, где узнал, что Берни уже вернулся в Париж. У самой решетки замка его карету остановили. Он увидел переполошенную толпу, бегущую в полнейшем смятении, услышал крики со всех сторон: «Король убит, убили его величество!»
Едва Казанова узнал эту ошеломляющую новость, как его вместе с двумя десятками других людей, бывших рядом, забрали солдаты. Неужели он выбрался из Пьомби лишь для того, чтобы подвергнуться произвольному заключению в Версальской кордегардии? Проклятие на нем, что ли? Я полагаю, в первые минуты Джакомо не мог не подумать с тоской обо всех безвестных узниках, годами томящихся в подземельях Бастилии. А если он сам попадет туда, пробыв пятнадцать месяцев в Пьомби? Неужто его судьба побывать во всех тюрьмах Европы!
Королю в самом деле вонзили нож в правый бок, в пять часов вечера, когда он выходил из Версальского замка и собирался сесть в карету, чтобы вернуться в Трианон. Когда он спустился с лестницы, освещенной факелами стражи, к нему бросился какой-то человек, оттолкнул солдат и ударил короля в бок. Сначала Людовик XV подумал, что его ударили кулаком. Он приложил руку к груди, а когда отнял – та была вся в крови, ручьем струившейся по камзолу. По счастью, в тот январский день было довольно холодно, и он надел два плотных плаща, один из которых был подбит мехом, что смягчило удар. Жизненно важные органы не пострадали. И тем не менее, по ужасной привычке века, ему из предосторожности пустили кровь, от чего король, разумеется, ослаб еще больше. Правда, неделю спустя он совершенно поправился.
После четырех-пяти минут заключения Казанову и его товарищей по несчастью выпустил офицер, который принес им сухие извинения. В самом деле, убийцу поймали сразу: им оказался некий Робер Франсуа Дамьен, сначала бывший метрдотелем, а потом бродячим торговцем чистящими средствами. Его приговорили к самой мучительной казни: рвали щипцами, жгли и четвертовали.
Чтобы доставить удовольствие своим тогдашним знакомым, «любопытствующим увидеть ужасное зрелище», Казанова предоставил в их распоряжение широкое окно, выходящее на Гревскую площадь, которое снял за три луидора. Сам он тоже присутствовал при жутком расчленении Дамьена 28 марта 1757 года, которое длилось не менее полутора часов. Гревская площадь была черна от народа, а во всех окнах торчали зеваки, привлеченные страшным зрелищем, среди которых множество знатных красавиц, которые, думая тем самым польстить государю, напротив, возмутили Людовика XV своим непристойным присутствием при казни несчастного.
«Во время казни Дамьена, – пишет Казанова, – мне пришлось отвести глаза, услышав его вопли, когда у него осталась лишь половина тела; но Ламбертини и мадам ХХХ их не отвели; и отнюдь не от жестокости сердца. Они сказали мне – и мне пришлось притвориться, будто я им поверил, – что не чувствовали ни малейшей жалости к такому чудовищу, настолько они любили Людовика XV» (II, 47). Все современники подтверждают грубую и безжалостную бесчувственность женщин при виде ужасных мучений и агонии Дамьена. Чтобы оградить себя от жестокостей, вызывавших у него отвращение, Казанова перешел от мучений к любви, от крови к сексу. Если ему не хотелось глядеть на казнь, то он не упустил ничего из эротических маневров графа Тиретта де Тревизо, неделикатного соотечественника, которому пришлось бежать во Францию, растратив казну своего города с единственной целью – раздобыть денег на удовольствия во время карнавала. Тот активно занимался мадам ХХХ. «Стоя позади нее и очень близко, он приподнял ее платье, чтобы не наступить на его край, и все было прекрасно. Но потом я увидел в лорнет, что он приподнял платье чересчур высоко; тогда я, не желая ни помешать предприятию моего друга, ни смутить мадам ХХХ, встал позади моей прелестницы таким образом, чтобы ее тетя была уверена в том, что ни мне, ни ее племяннице не видно, что с ней делает Тиретта. Я слышал шорох платья целых два часа и, находя происходящее довольно забавным, ни разу не отступил от положенного себе правила. Я больше восхищался хорошим аппетитом в самом себе, нежели дерзостью Тиретты, ибо в этом я зачастую ему не уступал» (II, 47). Удивительное положение! Мадам ХХХ позволяет взять себя сзади, глядя, как расчленяют человека! Постепенно, чисто в стиле Казановы, разворачивается настоящий порнографический водевиль, когда Джакомо узнает из уст самой мадам ХХХ, что Тиретта совершил ужасную низость, гнусную и непростительную. Надо, разумеется, понимать, что в том положении, в каком он находился, он вступил с ней в сношение через задний проход. Джакомо усовестил своего юного друга, чтобы тот извинился перед своей возмущенной партнершей:
«Я могу ей сказать только правду. Я не знал, куда вошел. Причина единственная, и для француженки может показаться вполне приемлемой» (II, 52).
В Париже Джакомо быстро понял, что в том непрочном положении, в каком он находится, ему лучше отказаться от своих дурных привычек, вести себя примерно и не привлекать к себе скандального внимания, если он хочет преуспеть в великих и плодотворных предприятиях. Сидя без средств, не стоит поддерживать сомнительные связи. Со времени его последнего пребывания во французской столице многое изменилось: отныне ему приходится обхаживать власть имущих, если он хочет сколотить состояние. Первым делом карьера, а уж удовольствия потом. Отнюдь не просто выделиться из толпы и обратить на себя внимание, если представить себе огромную массу придворных, художников, поэтов, философов, изобретателей, дальних родственников, разорившихся провинциальных аристократов, ходатаев и просителей всякого рода, которые каждое утро толпились в прихожих вельмож, не говоря уж о нищих в лохмотьях, выпрашивавших объедки со стола или монетку, чтобы выжить.
Пока единственный козырь, который он мог разыграть в обществе, чтобы развлечь власть имущих и привлечь их внимание, – это его побег, вернее, подробный рассказ о побеге: «Тем временем я вменил себе в обязанность повсюду, где бывал, рассказывать о своем бегстве; дело нелегкое, поскольку рассказ длился два часа; но я был обязан снисходить к тем, кто проявлял к нему любопытство, ибо они не могли бы им заинтересоваться, не питая живого интереса к моей особе» (II, 16). Словно этого еще недостаточно, он записал рассказ на бумаге для аббата де Берни, который снял с него столько списков, сколько счел нужным, чтобы позабавить знакомых и сделать Казанову известным всему Парижу. Труд, конечно, утомительный, даже изнурительный, но совершенно необходимый. Этот рассказ – его визитная карточка, пропуск, даже плата за вход в высшее общество. Попутно следует заметить, что положение беглеца не повредило Казанове, напротив, это бегство сыграло ему на руку. В наши дни, в нашей новой правовой Европе он непременно подвергся бы судебному преследованию, был бы объявлен в международный розыск, экстрадирован. В XVIII веке все было иначе. Его сердечно принял министр иностранных дел, подаривший ему к тому же сотню луидоров. Стоит ли полагать, что деспотичная Венеция пользовалась тогда столь дурной репутацией, что беглец, сумевший вырваться от ее тирании, тем самым становился персоной грата в других европейских столицах? Думать так значило бы забыть, что в том самом XVIII веке Венеция была излюбленным туристическим направлением лучшего общества. Просто в то время не было никакого общего законодательства. Произвол правосудия уравновешивался территориальными границами, действием в рамках определенных режимов и королевств. То, что имеет силу в Венеции, не имеет таковой в Милане. Границы были укрытиями. Раздробленный мир – пространством свободы.
После трех встреч – с аббатом де Берни, с герцогом де Шуазелем и с главным инспектором финансов г-ном де Булонем он быстро понял, чего от него ждут: всего лишь увеличить доходы короля и поправить положение государственных финансов. Государство погрязло в долгах, было на грани разорения. В то время как его просили раздобыть всего двадцать миллионов, он, кокетничая, легкомысленно заявил, что задумал операцию, которая смогла бы принести сто миллионов, полученных на добровольной основе от народа. И вот Казанова стал финансистом, готовым спасти королевскую казну от полного банкротства и при этом не имеющим ни малейшего представления о том, как это сделать. Будучи приглашен в Пьяченцу к Пари-Дюверне, интенданту Военного училища, он уцепился за первый же план, попавшийся ему на глаза, а именно лотерею, прочитав на фронтисписе поданной ему тетради: «Лотерея в девяносто билетов, лоты которой, вытягиваемые по жребию каждый месяц, могут попасть только на пять номеров», и т. д. Вот об этом-то я и думал! – заявил он, не моргнув глазом.
На самом деле за секунду до этого он ни о чем подобном и не помышлял. Однако тотчас приписал себе чужое изобретение: план лотереи был ловко разработан по образцу генуэзской братьями Кальцабиджи, итальянцами из Ливорно, старший из которых, Раньери, больной и прикованный к постели, был мозговым центром, а младший, Джованни Антонио, воплощал его идеи в жизнь. Джакомо загорелся, включился в игру, исполнился воодушевления, размахивал руками, глотал слова, так быстро он тараторил. Чтобы успокоить игроков, достаточно сказать, что выигрыш обеспечивается королевской казной по декрету королевского совета. На уровне ста миллионов. Это огромная сумма, заметили ему. Нужно сразу же ослепить, возразил он. Если король проиграет при первом тираже, успех обеспечен на будущее, поскольку игроки поверят. «Это желанное несчастье» (II, 22), – смело заявил он, уверенный в себе. Его так понесло, что он в конце концов убедил своих собеседников. Отмел все возражения. Правда, цифры были его стихией. Он знал арифметику, а когда она применялась к деньгам, то не знал удержу. Ринулся в бой очертя голову. В этом весь Казанова: ухватить на лету, уцепиться за первую представившуюся возможность. Не вилять. Даже воспоминание о крахе финансовой системы Джона Лау его не взволновало. А ведь банкротство Лау наделало много шума, когда в 1720 году стоимость акций Западной Компании упала наполовину, и общество потеряло всякое доверие к его системе. Акции быстро обесценились до 1 % от начальной стоимости, и французские финансы на какое-то время оказались на краю пропасти. Тогда все было наоборот. Джон Лау был богат в Париже, пока его не выгнали из Франции в 1720 году и он не умер в нищете в Венеции под именем Дежардена, тогда как Казанова, уехавший из Светлейшей без гроша в кармане, очень быстро сколотил себе в Париже приличный капитал.
Теперь, когда дело было на мази, Казанова не давал себе роздыху. Отправился в Версаль, где встретился по очереди с министром де Берни, г-ном де Булонем, г-жой де Помпадур, аббатом де Лавилем, первым заместителем министра, и всех убедил в обоснованности своего проекта. Дело в шляпе. Декрет вскоре будет объявлен. Казанова, предусмотрительно поручивший ведение дела Кальцабиджи, получил годовую пенсию в четыре тысячи франков с самой лотереи, а также шесть пунктов распространения билетов. Он поспешил пять из них продать, оставив себе шестой, роскошно обставленный, на улице Сен-Дени. Чрезвычайно ловкий, когда речь заходила о его финансовых интересах, Казанова тотчас объявил, что все выигрышные билеты, подписанные его рукой, будут оплачены в его конторе на улице Сен-Дени через сутки после тиража. Эффект не заставил себя ждать: все стали ломиться в его контору, пренебрегая другими, к великому отчаянию их содержателей. Получая шесть процентов с доходов, Казанова, не имевший ни гроша в кармане по приезде из Венеции, обогатился с головокружительной быстротой. Начался самый пышный период всей его жизни.
По крайней мере, таков блестящий и самовлюбленный рассказ, предложенный нам Джакомо Казановой, в котором он, очевидно, преувеличивает свою роль. Однако благодаря кропотливым изысканиям Шарля Самарана нам известно, что в архивах Военного училища, финансы которого, находившиеся в ужасающем состоянии (в начале 1757 года его долг составлял огромную сумму в два миллиона двести тысяч ливров), и должна была поправить лотерея, вовсе не упоминается о Казанове. Нет его имени и в полном списке двадцати восьми распространителей лотерейных билетов, опубликованном в начале февраля 1758 года. Лишь после 1759 года Казанова стал заправлять одной из контор, на улице Сен-Мартен.
На самом деле эту прибыльную лотерею, разрешенную Государственным советом на тридцать лет, запустили братья Кальцабиджи, прекрасно знакомые с принципом лотерей, уже давно практиковавшихся в их стране – в Генуе, Риме, Неаполе и Венеции. Первый тираж состоялся 18 апреля 1758 года. Вот каков был его принцип в изложении Шарля Самарана:
«В “колесо Фортуны” помещали девяносто шаров одинакового размера и цвета, в каждом из которых был номер. В день публичного тиража, в присутствии членов Совета Военного училища, номера, прежде чем поместить в шары, последовательно предъявляли присутствующим – полезная предосторожность, чтобы избегнуть обвинений в плутовстве со стороны неудачливых игроков. Затем шары перемешивали и, по обычаю, какому-нибудь ребенку поручали сыграть роль его величества случая. Публика была вольна ставить на каждый из девяноста номеров либо 12, либо 24, либо 36 су, всегда увеличивая на двенадцать. Можно было также сделать ставку тремя различными способами: на один номер, на два, на три. Игроки, у которых совпадал один, два, три, четыре или пять номеров, получали лоты, пропорциональные уровню совпадения и сумме ставок. Билеты выдавались на один номер, и там сумма доходила до шести тысяч ливров, на два номера, по 300 ливров, на три номера, по 150 ливров. За один номер выплачивали ставку в 15-кратном размере, за два связанных номера – в 270-кратном, за три связанных номера – в 2500-кратном. Разумеется, каждый мог попытать счастья, сделав ставку на один, два или три номера в совокупности на шесть, семь, восемь или девять номеров: риск возрастал соответственно, но и шансы тоже»[67]67
Charles Samaran, Jacques Casanova, Vénitien. Une vie d’aventurier au XVIIIe siècle, Paris, Calmann-Lévy, 1914, pp. 121—122.
[Закрыть].
Если поначалу все шло хорошо, потому что лотерея сразу же приобрела популярность, очень скоро дела стали портиться. Кальцабиджи считали себя обделенными и требовали все более значительного вознаграждения. Более того, вскоре открылось, что младший брат прибегал к услугам самых подозрительных личностей, игроков и шулеров. Когда Раньери, считавший лотерею своим личным достоянием, заболел, брат временно его заменил, но продолжал интересоваться делами лотереи, когда старший поправился. В глазах Совета Военного училища это все были недопустимые поступки, почти что шулерство: Кальцабиджи отстранили от дел 11 июня 1759 года.
Ну и причем здесь Казанова? Без сомнения, он хотел бы стать вместо Кальцабиджи инициатором этой лотереи, столь соответствовавшей его математическим познаниям и склонности к расчету вероятностей, но стал простым конторщиком, получив скромную, но прибыльную должность. Благодаря гибкому уму и кое-какой поддержке он, вероятно, сумел просочиться в это предприятие, хоть и не сыграл той роли, какую себе приписал.
Занятый своими «грандиозными» финансовыми делами, Казанова не забывал о женщинах. Для начала он грубым образом вывел из неведения восхитительную семнадцатилетнюю девушку, племянницу мадам ХХХ, которая только что вышла из монастыря. За одну-единственную встречу, явившую собой самый поразительный урок сексуального воспитания во всей известной мне европейской литературе, он обучил ее всему, относящемуся к любви. В относительно косвенной и завуалированной манере Казанова объяснил ей, что Тиретта, прозванный, как уже говорилось, Шесть Раз, обладает половым органом просто чудовищных размеров в сравнении с его собственным; но невинная девушка с трудом могла себе представить, о чем идет речь: «Я не очень четко себе представляю эти вещи, чтобы вообразить, какую величину можно назвать чудовищной» (II, 38). Решительно, очаровательной невежде необходим хороший урок естествознания, с наглядными пособиями. Казанова обнажается: «Взгляните, прошу вас», онанирует и эякулирует при ней: «Останьтесь, уже все», и наконец показывает ей на своем платке верный признак своего наслаждения: «Если поместить это вещество в положенную ему печь, оно выйдет оттуда спустя девять месяцев мальчиком или девочкой» (II, 39). Девица, прекрасная ученица, схватывающая на лету, настолько покорена его активной педагогикой, что вскоре предлагает ему брак, чтобы узаконить желанное сексуальное взаимодействие. Эта сладостная связь не помешала, однако, Казанове влюбиться в юную Манон Балетти, дочь дорогой Сильвии, младшую из четырех детей четы комедиантов. Когда он снова увидел Манон, прибыв в Париж, то был удивлен чудесным преображением ее особы, то есть, что важно для Казановы, ее тела. Теперь ей пятнадцать лет, и она превратилась в очень хорошенькую девушку. У нас есть блестящее подтверждение этой красоты, если, как утверждает Шарль Самаран, портрет, написанный Натье для Салона 1757 года, был сделан с нее[68]68
По мнению Гугица, портрет, опубликованный Альдо Рава как изображение Манон, приписанный им Натье, на самом деле принадлежит кисти Рау и изображает ее мать Сильвию, тогда как портрет, опубликованный Рава как портрет Сильвии кисти Ван Лоо, изображает как раз Манон.
[Закрыть]: «Она изображена по пояс в образе Талии, с маленькой маской в руке, среди летучих занавесов, окружающих ее, один из которых, с элегантными складками, она поддерживает рукой над своей головой. В вырез платья видна грудь очень приятной формы. На улыбающемся лице под венком из листьев – черные глаза с широкими бровями, тонкий нос, веселый рот. Круглые щеки сильно нарумянены. Позади нее возвышается театральная декорация, где видны три крошечных персонажа – Коломбина, Меццелин и Арлекин». Начав встречаться, Джакомо и Манон полюбили друг друга, хотя в первое время они не признавались самим себе в нежной взаимной склонности. Казанова влюбился настолько, что Шарль Франсуа Клеман, клавесинист и композитор, на двадцать лет старше Манон, с которым она была помолвлена и кому предназначена, хотя ее мнения не спрашивали, получил безапелляционный отказ. И Джакомо, которого вся семья стала считать официальным женихом, крутил любовь (соблюдая все приличия, разумеется!) с нежной Манон, каждый день дарившей ему новый знак своей привязанности. Без малейшей мысли о соблазнении, он всерьез подумывал о браке – в очередной раз.
Страсть к Манон Балетти – совершенно исключительный случай в бурной любовной жизни Казановы, поскольку ему достало терпения ухаживать за ней два долгих года, так и не вступив с ней в интимную связь. Это совсем не в духе Казановы: он не тот человек, чтобы тратиться на бесконечное ожидание и обхождение. Спокойная и почти семейная любовь у камелька. Что-то чересчур мирная атмосфера. Однако Казанова сохранит благостное воспоминание об этой целомудренной страсти, поскольку так и не расстанется с письмами своей дорогой Манон: много времени спустя после его смерти в чулане Дукса нашли сорок два пожелтевших и покрытых пылью письма, написанных с апреля 1757 года по январь 1760-го. Надо только представить себе, что всю свою жизнь Казанова возил их с собой, переезжая с места на место, гонимый по всей Европе, так и не расставшись с ними: явное доказательство нежного чувства и истинной привязанности. Да, порой – хоть и очень редко – Казанова мог быть сентиментален.
Поздно вечером, засыпая на ходу, Манон уходит в свою комнатку, чтобы написать Казанове, если забота о соблюдении приличий, неуместное присутствие лишних людей или бдительность родителей помешали ей поговорить с ним днем наедине. Живые и нетерпеливые, нежные и трогательные, искренние и пламенные письма, переполненные любовью к Джакомо, к ее дорогому Джакометто, как она порой ласково его называет. Когда ему приходится отлучиться на какое-то время, ей страшно тяжело: «Ваше удаление причиняет мне боль, какую я не могу Вам описать; я удручена и совершенно без сил. Я не могу свыкнуться с печальной мыслью о том, что Вы далеко от меня, что я целых два месяца Вас не увижу и даже не смогу получать от Вас вестей. Эти грустные мысли удручают меня, наполняя сердце болью» (I, 1091). Однако красавица, не будучи ни простушкой, ни дурочкой, не доверяет Казанове в той же степени, в какой любит. Она быстро поняла, что этот мужчина, которого желают все женщины, ослепляющий своей авантажной и внушительной внешностью, импозантностью и уверенностью в себе, престижными связями при дворе и в правительстве, деловой жилкой и способностью быстро сколотить состояние, богатым прошлым и бесчисленными удачами, путешествиями и побегом, не создан для того, чтобы стать чутким и верным мужем. «Вы начинаете сильно преувеличивать Вашу любовь, я верю в ее искренность, мне это лестно, и я не желаю ничего другого, только чтобы она длилась всегда. Но продлится ли она? Я прекрасно знаю, что Вас возмутят мои сомнения; но мой дорогой друг, от Вас ли зависит перестать меня любить? Или любить по-прежнему?» (I, 1085–1086). Читая эти письма, понимаешь, что Казанова несколько лицемерно утверждал, будто это Манон вскоре переменит любовника, чтобы лучше оправдаться в собственном отдалении и очевидном непостоянстве. Эта мысль возмущает малышку Балетти.
Письма Казановы к Манон так и не нашли. Однако содержание их можно себе представить. Насколько письма Манон были длинными и страстными, не менее четырех страниц, настолько ответы Джакомо, как признавал он сам, были краткими и поспешными. Я представляю себе короткие записки, начерканные наспех в редкую минуту досуга среди многочисленных занятий, дел лотереи, игры в карты, приемов в высшем обществе, каббалистической чепухи, секса. Наверняка любовь Манон ему льстила – такая чистая, трогательная, однако он был к ней довольно безразличен, поскольку она не сразу уступила его ненасытным развратным капризам. Ибо любовь в сердце распутника угасает, если ничем ее не подпитывать. Видя, что посещения любимого становятся все реже и реже, бедная Манон, несмотря на свою неугасимую страсть, постепенно поняла, что Казанова не перестанет вилять и никогда на ней не женится. Их бесконечная помолвка ни к чему не приведет. Он никогда не совьет гнезда: разве можно себе представить Казанову отцом семейства? Чувствуя, что Казанова от нее ускользает, обманутая в своих ожиданиях возлюбленная испытывает сильную горечь. В середине февраля 1760 года Манон, в яростной усталости от его чересчур долгих отлучек, пишет ему последнее письмо: «Будьте благоразумны и примите хладнокровно новость, которую я Вам сообщу. В этом свертке все Ваши письма. Верните мне мой, и если Вы храните мои письма, то сожгите их. Я рассчитываю на Вашу порядочность. Не помышляйте более обо мне. Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы позабыть Вас. Завтра я стану женой г-на Блонделя, королевского архитектора и члена королевской Академии. Вы меня очень обяжете, если по возвращении в Париж притворитесь, будто не узнали меня повсюду, где меня встретите» (II, 242). 29 июля 1760 года было подписано свидетельство о браке Манон Балетти с Франсуа Жаком Блонделем, вдовцом пятидесяти пяти лет, профессором Художественного училища и членом Академии архитектуры. Нет никаких сомнений в том, что Манон Балетти, разочарованная большой несчастной любовью, дала согласие первому серьезному жениху, попросившему ее руки.
В 1761 году Казанова, вернувшись в Париж, наносит визит г-же Ванлоо, которая просит его остаться на ужин. Но узнав, что среди приглашенных будет г-жа Блондель, он, выполняя просьбу Манон, предпочитает уйти и избежать этой встречи, за что Манон на следующий же день передаст ему благодарность. По случаю мы узнаем кое-что об этой странной паре: муж жил в Лувре, тогда как Манон – в другом доме, на улице Пти-Шан. Однако это очень хорошая семья, уверяет г-жа Ванлоо, подтверждая, что муж каждый вечер ходит ужинать к жене. «Блондель хочет, чтобы его жена ни в чем себе не отказывала. Он говорит, что это поддерживает любовь и что, никогда не имев любовницы, достойной быть его женой, он рад, что нашел жену, достойную быть его любовницей» (II, 706). Вот, наверное, замечательная острота, которая рассмешит читателя! Тем не менее в 1761 году Блондели оба жили на улице Лагарпа. И только в 1767 году Блондель получил позволение поселиться на первом этаже Лувра, с выходом во двор, где он также будет жить вместе с женой. Казанова что-то позабыл или перепутал? Скорее всего, это низкая месть, высмеивание пары, которая никогда не будет таковой. Разве не сказал он г-же Ванлоо, что если архитектору досталась новехонькая жена, то не по его вине: этим он обязан Манон Балетти? Такое впечатление, что Джакомо разочарован и почти обижен, что не стал первым мужчиной этой девушки.
Можно заподозрить, что столь платоническая страсть, отнюдь не удовлетворяющая законные и пламенные чаяния его вечно ненасытного тела, подталкивала Казанову не пренебрегать продажными красотками и содержанками из парижских театров. Более того, он регулярно влюблялся в очередную красавицу – разумеется, еще более привлекательную и соблазнительную, чем предыдущая. Необходимо подчеркнуть, что в приключениях Джакомо Казановы присутствует зачастую водевильная сторона. На сей раз он безумно влюблен в некую мисс Х.С.V. двадцати лет от роду, которая не кто иная, как Джустиниана Винн, дочь венецианки и англичанина. Он уже встречал ее в первое пребывание в Париже, когда ей было всего двенадцать, потом в Падуе и в Венеции, где безрезультатно за ней ухаживал. Разумеется, это не причина, чтобы отступать, и Джакомо в очередной раз пытается ее соблазнить. К несчастью, она беременна: отчаявшись, она не видит иного исхода, кроме как наложить на себя руки, если не сможет избавиться от ребенка. Джакомо делает все возможное, чтобы найти вместе с бабками-знахарками решение проблемы, уверенный в том, что его услуги подлежат оплате, иначе говоря, что ему следует воздать самой интимной благорасположенностью. Но Джустиниана и слышать об этом не хочет и упорно противится. Ничего не поделаешь! Она не сдается. В довершение несчастья, снадобья не возымели никакого действия. Вскоре она уже не сможет скрывать своей постыдной беременности от родных. И тогда Казанова, готовый на любые ухищрения, лишь бы добиться своей цели, сообщает ей, что открыл совершенно безотказное средство, чтобы мгновенно избавиться от плода. В данном случае речь идет об Арофе (сокращение от «аромат философов») – средстве, которое упоминается у Парацельса и Борхава: это мазь, в состав которой входят порошок шафрана, мирра и т. д., на медовой основе.
«Женщина, стремящаяся опростать свою матку, должна обмазать этим снадобьем край цилиндра подходящего размера, ввести его в вагину, касаясь округлой плоти, которая есть ее самое возвышенное место. Цилиндр должен одновременно тереться о стенки канала, соприкасающегося с запертой дверью домика, где находится маленький враг, которого хотят выманить. Если повторять это трижды-четырежды в день в течение шести-семи дней подряд, дверка поддастся и наконец откроется, и зародыш выпадет наружу» (II, 161). Казанова первый прекрасно сознавал полную нелепость столь дурацкого рецепта, но проблема не в этом. Доводя мистификацию до конца, чтобы удовлетворить свои все более обостренные желания, он без смеха объяснил внимательно слушавшей мисс, что для того чтобы Ароф подействовал, он должен быть «смешан со спермой, ни на миг не теряющей своего естественного тепла». Всем понятно, что щедрый и услужливый Казанова тотчас самоотверженно предлагает предоставить пациентке свежую драгоценную жидкость. Обман, одновременно смешной и отвратительный, поскольку он цинично построен на чужой беде.
Можно только гадать, почему Казанова, обожающий роскошь и комфорт, согласился на подобные условия, чтобы проникнуть внутрь своей желанной мисс. Им приходилось заниматься любовью, прячась на мерзком чердаке, где хозяйка дома три дня хранила дичь. Какая разница! Казанова нашел место для матраса, подушки и одеял, так что они занимались любовью среди пуха и перьев в кладовой, вооружившись свечой и огнивом, необходимыми для того, чтобы он мог должным образом разместить Ароф на стратегическом объекте. Она раздевалась, ложилась на спину и разводила ноги, согнув их в коленях, а Казанова тем временем покрывал извергательным средством головку своего члена, в данном случае служившего вводящим цилиндром и источником семенного вещества-основы. Совершенно смешная и гротесковая ситуация, во время которой он должен был сохранять серьезность, как хирург, готовящийся к операции. Смешно и немного жалко. Даже в наихудших условиях, даже под псевдомедицинским предлогом, даже без намека на любовь, страсть, единение чувств – секс, лишенный всяких оправданий, кроме себя самого, имеет для него ценность сам по себе. Решившись воспользоваться ситуацией до конца, Казанова советует повторно применить зелье, что лишь усилит его действие. Новое введение. Хотя лечение продолжалось несколько ночей, Ароф, разумеется, не подействовал. Трезвомыслящая Джустиниана, не сожалевшая о лечении, извлекла вывод: «Она сказала мне при последнем расставании, что все проделанное нами скорее породило бы в ее органе дополнительный зародыш, нежели заставило исторгнуть заложенный в нем плод. Нельзя было рассуждать более здраво» (II, 170). Всем известно, что оплодотворение двух яйцеклеток, во время двух последовательных овуляций, так и не было научно доказано. Тем не менее это был уникальный случай проверить вероятность данного явления. С надеждами на аборт было покончено. Джустиниане оставалось только тайно разродиться в монастыре.
Чуть позже Казанова влюбился в очень хорошенькую торговку шелковыми чулками, которая вышла замуж в следующее же воскресенье. Немного времени спустя она сообщила ему о своей беде: мало того, что молодожены по уши в долгах, но к тому же ее муж, слабого здоровья, оказался совершенно не способен исполнять свой супружеский долг. «Он не умер, но не подает признаков жизни», – жестоко уточнила она. Вся проблема Казановы и очаровательной Баре, желавших друг друга, заключалась в том, что она не могла «располагать плодом, принадлежащим Гименею, пока Гименей хотя бы раз его не вкусил» (II, 205). Пока они должны удовольствоваться самыми восхитительными безумствами, оберегая ее девственность. При следующей встрече, тогда как Казанова надеялся, что брак наконец свершился, чтобы он мог свободно насладиться своей возлюбленной, та оказалась по-прежнему девственной, хотя муж провел с ней всю ночь. Какой тяжелый удар! Она его успокаивает. На сей раз дело обстоит совершенно иначе, поскольку муж полагает, что сделал то, чего не сделал. Если он все поймет, то наверняка страшно расстроится, так что два голубка приходят к по меньшей мере неожиданному и игривому решению: Казанова должен лишить ее девственности, чтобы муж мог быть уверен, будто сам достиг своей цели. Короче, они занимаются любовью, чтобы оказать ему услугу! Дабы увериться в своей мужской силе, муж должен стать рогоносцем.








