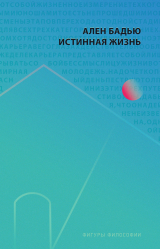
Текст книги "Истинная жизнь"
Автор книги: Ален Бадью
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ален Бадью
Истинная жизнь
Возможность истинной жизни: этико-политическая мысль Алена Бадью
Сказать, что Бог существует или что Он мог бы существовать, возможно, для философии сегодня является не таким смелым жестом, как сказать, что истинная жизнь возможна. А уж сказать, как это делает Ален Бадью, что Бог мертв, что Его нет, а истинная жизнь возможна, скандально вдвойне. Не безумно ли допустить, что жизнь может относиться к истине? Конечно, ей можно воспользоваться дурно или умело, извлечь из нее больше или меньше удовольствия, но как отнести к ее истине? Надо ли думать, что есть неистинная жизнь? Само различие статусов жизни не может не быть подозрительным – по крайней мере, в рамках секулярного и критического дискурса едва ли можно позволить себе нечто подобное. В чьих глазах истинная жизнь способна отличать себя от неистинной? Что, в конце концов, останется неистинной жизни, какая участь ей уготована? Чтобы всерьез заговорить об истинной жизни и не быть дисквалифицированным из философского поля, нужно миновать ряд препятствий. Безусловно, непозволительно было бы утверждать, что говорящему известна некая истина, знание которой делало бы саму жизнь истинной. По крайней мере, такое утверждение едва ли бы относилось к философии в большинстве ее современных разновидностей. Нельзя также было бы утверждать, что нам известно нечто, от приобщения к чему жизнь из пропащей превращалась бы в истинную. В общем, запрещена вся та речь, которая настаивает на знании о доступе к некой истине. Как мы увидим, Бадью не дает ничего подобного. Большая часть из того, что пишет Ален Бадью, является попыткой систематически осмыслить возможность истин, которых не одна, а много. Среди истин, что совсем неслыханно, есть и политическая. Мысль, воспитанная на текстах Арендт и Шмитта, с порога отклоняет эту возможность: более того, условием политического философствования едва ли не является сегодня подтверждение мысли о том, что истине в политике нет места, – напротив, чтобы была политика, вопрос об истине должен быть смещен, на время оставлен.
В политике не может быть места тому, что нельзя было бы оспорить, поэтому всякое установление истины было бы лишь делом силы. Истина, таким образом, была бы лишь максимально возможной силой, которой невозможно что-либо противопоставить. Никакая истина не может заместить оспариваемость, которая является принципиальной чертой «демократического процесса». По Арендт, «ни истина религии откровения… ни истина философов… больше не вмешиваются в ход мирских дел»[1]1
Арендт X. (2014). Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли. М.: Изд-во Института Гайдара. – С. 347.
[Закрыть]. Единственно легитимная форма истины в политике – это истина факта, которая, в свою очередь, имеет мало веса в «нормальной» ситуации. Философская же истина может обрести действенность в мире человеческих дел, только поменяв свой статус, – в образе поступка философа, руководствующегося этой истиной, она становится предметом созерцания, то есть примером верности и добродетельной жизни. Иначе, эта истина живет уже не собственной жизнью, поскольку в политике истины, кроме истин факта, жить не могут. Такая истина, которую обнаруживает одинокий ум, впоследствии выводящий из нее принципы для человеческого сосуществования, для Арендт немыслима. Существо политики составляют равенство, дискуссия и свобода. Иначе, если у политики есть своя истина, если есть истинная политика, то ни в каких других видах истины она основываться не может. Так же у Шмитта: каждое «поле» управляется своим различением, и в верности этому различению, если угодно, и состоит истина того или иного поля. Можно утверждать, что в XX веке была большая группа мыслителей, весьма различных, которых объединяло стремление удержать специфическую истинность самой политики, изгнав из нее неподобающие политике истины. Бадью, несомненно, относится к этой группе, но даже от столь близких к нему мыслителей, как Рансьер, его отличает стремление наряду с истинностью политики предъявить политическую истину. Однако политическая истина Бадью, которая и связывается с истинной жизнью, отнюдь не такова, что, узнав ее, мы обретаем истинные принципы построения политического сообщества. Истина политики имеет для Бадью ту же форму, что истины любви, математики и поэзии: это истины, которые не знаются и познаются, но производятся. Философия ни в коем мере не сообщает здесь некие истины, касающиеся политического обустройства людей, – согласно Бадью, философия вообще своих истин не производит.
Мы еще вернемся к трудному вопросу производства истины, чтобы сейчас лучше присмотреться к философскому жесту, который делает Бадью в тексте «Истинная жизнь». Бадью отнюдь не говорит, что форма истинной жизни уже предопределена философией, – дело философии не сообщать истины: «Философия… исходит из убеждения, что истины есть… То, что имеет отношение для человека как индивида, что одаривает его настоящей жизнью и ориентирует его существование, – это причастность к этим истинам… Философия предлагает провести отбор в области опыта, из которого она выводит определенную ориентацию»[2]2
Бадью А. (2013). Философия и событие. Беседы с кратким введением в философию Бадью. М.: Институт общественных гуманитарных исследований. – С. 157.
[Закрыть]. И чуть дальше: «Нужно показать, что истина действительно существует»[3]3
Там же. – С. 158.
[Закрыть]. Иначе, философия имеет, кроме прочего, педагогическую задачу, которая состоит в том, чтобы предъявлять возможность истин и истинной жизни. Врагом истины является не столько ложь, сколько распространенное мнение о том, что истины нет, а истинная жизнь невозможна. Бадью говорит, что у молодежи сегодня есть множество внутренних врагов (а в тексте «Истинная жизнь» речь идет главным образом о молодежи), которые «грозят сбить ее с пути истинного к истинной жизни и не позволяют признать саму возможность ее существования». Но оспаривает возможность такой жизни также и отчаяние, звучащее в строках поэмы в прозе «Одного лета в аду», принадлежащей Артюру Рембо, с которым Бадью в «Истинной жизни» вступает в разговор: «Подлинная жизнь отсутствует». Рембо говорит: «La vraie vie est absente». Если различие между истинным и подлинным едва ли могло много значить для перевода самой поэмы, это различие очень значимо для Бадью. Русским словом «подлинный» было бы лучше переводить французское authentique, с которым Бадью отнюдь не связывает истинную жизнь. Напротив, «страсть к подлинному (l'authentique в оригинальном тексте. – Л. С.) <…> может свершаться только как разрушение»[4]4
Бадью Л. (2016). Век. М.: Издательство «Логос», проект lettera.org. – С. 75.
[Закрыть]. Цитатой Рембо также начинается первый раздел книги Эммануэля Левинаса «Тотальность и бесконечное»: «"Подлинная жизнь отсутствует". Однако мы существуем в мире. Метафизика возникает и держится на этом алиби. Она обращена к „другому месту“, на „другое“ и к „другому“»[5]5
Левинас Э. (2000). Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга (Книга света). – С. 73.
[Закрыть]. Бадью в своем тексте не ведет полемики с Левинасом, как и с какими бы то ни было философами вообще, так как перед нами – в строгом смысле не философский текст. Однако в других текстах Левинас все же вспоминается, и отнюдь не лестно.
Маленькая книга Бадью «Истинная жизнь» написана как наставление молодежи. Что может быть более дискредитированным, чем наставления, да еще и молодежи?! А ставить себя на место Сократа, как это здесь же делает Бадью? Ничего не озадачивает больше, чем своего рода постоянная игра на повышение, которую ведет Бадью: да, я буду говорить об истинной жизни, да, я буду наставлять, да, я буду наставлять именно молодежь, да, я буду сравнивать себя с Сократом! Лишь бескомпромиссность тона, держащаяся на бескомпромиссности и последовательности стоящей за ним мысли, не позволяют прерваться, сославшись на немыслимое ныне отсутствие иронии, смягчения, самооговорок. Вернуть философской и политической речи их боевитость и непримиримость – одна из декларируемых Бадью задач. Итак, что же происходит в «Истинной жизни»?
Бадью, говоря о развращении молодежи, предлагает провести различие между наставлением и коррупцией, понятой как порча или соблазн: ставка последней – утвердить невозможность истинной жизни, коль скоро повсюду есть только мнения, и направить молодежь на обретение власти и других благ, делающих жизнь насыщеннее и лучше. Благоустроенность жизни, жизнь, наполненная удовольствиями, противостоит жизни, допускающей возможность истины. Подобное различие между истиной и благами мы найдем и у Лакана в семинаре «Этика психоанализа», где блага противостоят желанию субъекта, который, как у Бадью, является «пропавшим звеном»[6]6
Лакан Ж. (2006). Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959–1960)). М.: Издательство «Гнозис»; Издательство «Логос». – С. 290.
[Закрыть]: «Измерение блага воздвигает на пути нашего желания нерушимую стену»[7]7
Там же. – С. 298.
[Закрыть]. Бадью не боится относить подобные тактики соблазнения и коррупции к нигилизму, врагом которого он открыто себя признает. Истинная жизнь у Бадью определяется отношением к любой из возможных истин, и в этом смысле она является жизнью в верности, однако верности не желанию, как у Лакана (у Бадью нет этой категории), а истине. Верность у Бадью – это набор процедур, позволяющих отделять множества, которые зависят от события. Так, любовная верность означает «меру, которую необходимо принять, чтобы вернуться к ситуации, чьим символом на протяжении долгого времени был брак, который живет за счет ежедневного соединения между регулярными множествами жизни и интервенцией, в которую единица встречи была введена»[8]8
Badiou A. (1988). L’Être et l’Événement P.: Seuil. – P. 257.
[Закрыть]. То, что принадлежит этой встрече и этой любви, должно быть отделено от всего того, что составляет просто жизнь вместе. Верность определяется как функциональное отношение к событию. Субъект же, по Бадью, есть не что иное, как активная верность событию. Точнее, он есть связывание события с процедурой верности. Мы, однако, не рискнем здесь освещать концептуальный и математический «каркас» ключевых событий Бадью, даже при лучших обстоятельствах у нас не нашлось бы на это достаточных ресурсов. «Истинная жизнь» – это этико-политический текст, чтение которого кажется слишком простым, однако, как и все простые тексты Бадью такого рода, он требует сверки или соотнесения с ключевыми этико-политическими аспектами его философии. Здесь мы предложим некоторый обзор и проблематизацию нескольких важных для этой речи и истинной жизни тем. Это приведет нас к проблеме политической истины, ее отношений с философией, этикой и универсальностью, являющейся, как мы попытаемся показать, собственно этическим в истине.
Если наше время – нигилистическое (а в этом трудно сомневаться после Ницше и Хайдеггера, хотя и клеймение нашего времени как «нигилистического» до некоторых пор было (или все еще остается) чем-то уже скомпрометированным), то само сообщение о возможности истинной жизни будет обладать неким философским весом. Иначе, хотя философия не дает своих истин, в том числе не сообщает никаких истин политике, философ как тот, кто сообщает о возможности события и верности, то есть об истинной жизни, совершает нечто если не политическое, то предполитическое. В этом отношении Бадью обходит запрет на привнесение истины в политику, которая существовала бы в форме знания об устройстве общества. Однако этот маневр отнюдь не снимает остроту и дерзость всей операции Бадью: истинная жизнь, которая должна проходить по ведомству этики, вдруг попадает на территорию политики. Бадью, враг современной «этизации» политики, которая переводит политику на язык ценностей, заставляя типы благ конкурировать друг с другом, отнюдь не разводит этику и политику.
Итак, философ соблазняет молодежь к истинной жизни, но истинной жизнь делает лишь сама истина, которая всегда есть истина той или иной ситуации и которая противоположна знанию, делает дыру в знании, то есть находится на стороне события. Для истинной жизни нет другого способа стать таковой, кроме как через некоторую единичную истину. А истины, в свою очередь, «можно достичь лишь через процесс, решительно порывающий со всеми установленными критериями суждения (или интерпретации) об обоснованности (или глубине) мнений (или представлений)»[9]9
Hallward P. (2003). Badiou: A Subject to Truth. Minneapolis: University of Minnesota Press. – P. xxiii.
[Закрыть]. Истина ситуации не совпадает со знаниями, служащими для воспроизводства этой ситуации. Субъект возникает вместе с истиной, которая производится, а не обнаруживается. Далее она поддерживается субъектом, который ее провозглашает. Истины нет в ситуации и в устойчивом знании, истина у Бадью – это всякий раз разрыв с существующим порядком, а событие и есть процесс этого разрыва. В таком случае, может возникнуть вопрос: как возможно склонить к истине и к истинной жизни, если субъект, верный истине, производит только событие?
Рискнем процитировать Бонхёффера для того, чтобы проиллюстрировать (а ведь мы знаем, что Бадью вовсе не чурается подобных примеров и не считает их компрометирующими, – чего стоит его «пример» с апостолом Павлом) то в каком отношении дискурс философии мог бы состоять к дискурсу политики: «…наряду с проповедью “последнего” слова Божьего, оправдания грешника по благодати, необходимо отдавать должное также и “предпоследнему”, в том смысле, чтобы не чинить препятствий на пути к “последнему” через разрушение “предпоследнего”… Слову должен быть приготовлен путь»[10]10
Бонхеффер А. (2013). Этика. (Серия «Современное богословие»). М.: Издательство ББИ. – С. 146.
[Закрыть]. Речь Бадью в «Истинной жизни», речь философа, играет роль «приготовления пути»: истина и событие некоторым образом получают здесь помощь со стороны. Вот что Бадью пишет о роли философии в отношении истин-событий в «Бытии и событии»: «Она может помочь процедуре, которая ее обусловливает, именно потому, что философия от нее зависит и опосредованно воссоединяет ее, таким образом, с фундаментальными событиями своего времени. Но философия не конституирует родовую процедуру. Ее собственная функция – располагать множества для случайной встречи с этой процедурой (курсив мой. – Л. С). Однако от нее не зависит ни то, будет ли эта встреча иметь место, ни то, вступят ли так расположенные множества в связь с супернумерическим именем события. Философия, достойная своего имени, – та, которая началась с Парменида, – в любом случае противоположна служению благам, поскольку она стремится служить истинам, потому что служить можно лишь тому, что вы сами не конституируете. Философия, таким образом, служит искусству, науке, политике»[11]11
Badiou A. (1988). L’Être et l’Événement. P.: Seuil. – P. 375–376.
[Закрыть]. Проблема, однако, в том, что речь философа обращена к тем, кто еще не оказался в составе субъекта истины, которая, как мы говорили выше, возникает как дыра в знании. Из сказанного самим Бадью следует, что индивиды, не будучи еще в составе субъекта, могут быть расположены лучше или хуже для того, чтобы войти в его состав. Хотя событие и не зависит от индивидов и их усилий, но они смогут быть более восприимчивы к нему, менее связанными со знанием, воспроизводящим ситуацию. Эту проблему можно конкретизировать в связи с политикой – если политика не вступила в силу как событие, то что можно делать во время, лишенное события? Для этого сперва необходимо понять, что такое политика как событие у Бадью.
Здесь важно удерживать в уме два шага Бадью относительно концептуализации политики и политической философии.
1. Политическая философия отвергается Бадью как дисциплина, держащаяся за счет производства политического, то есть некой постоянной и устойчивой общественной связи. Политика или политическое полагается в политической философии «объективной или даже неизменной данностью опыта»[12]12
Бадью А. (2005). Мета/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.: Издательство «Логос». – С. 103.
[Закрыть]. Как таковая, эта связь безразлична к истине, она, как предполагается, просто имеется. В свою очередь, политика, как ее понимает Бадью (некотором образом наследуя мысли Арендт), возникает отнюдь не из того, что люди просто живут вместе и им необходимо как-то организовывать свое общежитие, – «необходимость всегда неполитична»[13]13
Badiou A. (1988). L’Être et l’Événement. P.: Seuil. – P. 380.
[Закрыть]. Этой операции удостоверения реальности политики или политического, которая подготавливает дальнейшее философствование-о, Бадью противопоставляет политику-событие, политику, как активистскую операцию, отправляющуюся от «аксиомы равенства».
2. Отстраняя политическое как связь и данность опыта и получая политику как событие, Бадью тем самым, по его словам, делает политику интересной и мыслимой для философии – политика оказывается «истинностной процедурой». Иначе, политика, как некое производство политической истины (и значит, истины вообще, входя в которую человек может стать «бессмертным»), мыслима в философии, которая дает истинам место и определяет истины своего времени. Но что произошло? Философия с этого момента, конечно, не становится тем, что сообщает истину политике, однако происходит любопытное смещение. Было: «философия сообщает истину политике» (в платоновской версии); стало: «философия сообщается с политикой только через истину политики». Сама политика не знает, что у нее есть некая истина, потому что истина – это философское понятие. Способ сообщения философии с политикой здесь таков: философ не сообщает некое знание о том, какой должна быть истинная политика. Философ говорит иное: есть политика как истинностная процедура, и ничто другое политикой не является. Философ занят теперь «реабилитацией темы истины»[14]14
Бадью А. (2005). Мета/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.: Издательство «Логос». – С. 109.
[Закрыть] вообще и истины политики в частности. Политика царя-философа заменяется здесь на политику философа-бунтаря, поскольку любая истина – это разрыв в ткани знания, интервенция. Сам философ как таковой не осуществляет эту интервенцию, он может это сделать лишь в качестве политика. Философия и философ не получают здесь привилегии, как таковой философ может содействовать политической истине на уровне мысли.
Трудности, которые окружают эту связь политической истины, и ее преломления в философии подобны тем, о которых размышляли христианские теологии. Относительно философии Бадью эта трудность может быть сформулирована так: если мнение и так всегда отворачивается от истины и истине самой приходится мостить себе дорогу, зачем же истине нужен особый голос, реабилитирующей истину или помогающий проложить ей путь во мнениях? Относительно теологии вопрос будет следующим: если спасение – дело благодати, то что же требуется от нас или что мы должны делать сейчас, в связи с Его пришествием, которое случится независимо от нас? Бонхёффер пишет: «Если, к примеру, человеческая жизнь лишается тех условий, которые являются частью бытия человека, то оправдание такой жизни по благодати и вере если и не становится невозможным, то по крайней мере встречает серьезные препятствия <…> Его приход – это победное шествие, триумф над Его врагами. Однако чтобы мощь Его пришествия не ожесточила людей, но была бы встречена со смиренным упованием, приходу предшествует призыв к приуготовлению пути. Подготовка пути есть не только внутреннее событие, но и оформляющая деятельность широчайших масштабов»[15]15
Бонхёффер Д– (2013). Этика. (Серия «Современное богословие»). М.: Издательство ББИ. – С. 147.
[Закрыть]. Чем бы ни были истина и истинная жизнь, о них следует возвещать и помогать их пришествию.
Итак, пусть истины и самодостаточны в отношении философии и, по словам самого Бадью, возможность этих истин составляет условие философии, выясняется, однако, что философия оказывает на истины и обратный эффект: она парадоксальным образом, непрямо, увеличивает их возможность, устраняя препятствия для них. Например, рассеивая силу мнений, или, иначе, идеологии. Само по себе это знание и его оглашение не составляют политики, но, провозглашая политику истин и располагая знанием о процедуре истины, философия получает не меньшую власть, чем в случае захвата «политического» как связи, пусть эта власть и другого рода. Философия Бадью одновременно скромна и не скромна. Упрекая деконструктивизм в самоумалении философии, Бадью утверждает, что философия, заявляющая о своей невозможности, одновременно берет на себя огромную задачу «окончания». Философия Бадью своеобразно повторяет эту «нескромную скромность»: отказываясь от говорения истины, философия, предварительно сводя политику к ее истине, захватывает эту истину, берет в свое распоряжение, вынуждая политику следовать ее же истине (хотя у нее нет средств вынудить ее). Рассматривать отношения философии с истинами как захватнические не значит тем самым обвинить Бадью в «философской гордыне». Напротив, наша гипотеза состоит в том, что продумать предложенную Бадью пересборку отношений политики, истины и философии можно, лишь отдавая себе отчет в этом захватническом характере. Философия принимает форму возвещения о существовании истинной политики в противоположность политике, основанной на мнении и дискуссии.
Кажется, нет никаких трудностей в том, чтобы просто сказать на это: у политики нет никакой истинностной процедуры, политика никак не связана с истиной (а уж тем более сказать: истинной жизни нет!). Однако эта легкость обманчива: если у политики нет никакой истины, если политика – это не особое изобретение людей, а просто данность наличия властных отношений, то между политикой и философией не может быть никаких отношений. Для Арендт, например, политика обладала своей собственной истинностью, о которой, правда, философия ничего не могла знать, – однако Бадью понимает и политику, и философию иначе, таким образом, что отношения между ними становятся возможны – возможны за счет отказа философии от производства истины. Тот, кто зовет себя политическим философом, оказывается в своего рода ловушке: если политическая философия – это дискурс о формах сообщества, оценивающий эти формы, мы тем самым полагаем, что философия способна сказать нечто специфически философское, дать специфически философскую оценку политическим формам. Или же философия оказывается таким дискурсом, который ведет запись и учет политических дискурсов, выводит их «философские» генеалогии и т. д. Но не ясно, что в этом вообще может быть от философии. Есть ли у нас прежде какая-то философия, с которой мы подходим к политике, или философией здесь называется исследование политических идей и выработка рефлексии о социальном? Или философия – это некое прояснение и анализ таких спорных понятий, как справедливость или равенство? В последнем случае в своих прояснениях мы должны прийти к некому непротиворечивому знанию об этих означающих и к измышлению порядка, который бы им соответствовал. Политическая философия была бы, да и является зачастую таковой, изобретением градов справедливости. Но какое это ремесло имеет отношение к политике? Такая политическая философия встречала бы реальное лишь как препятствие на пути продвижения своих моделей. Каким бы эгалитарным по своему устройству этот град ни был, он не являлся бы эгалитарным изобретением, а действие в нем сводилось бы к воплощению уже готовой модели. Наличие модели града еще ничего не говорило бы о политике: град есть, а политики нет. Философия также может присматривать за политикой, чтобы та не натворила бед, чтобы та относилась с должным почтением к человеческой природе. Бадью обходит все эти пути, пусть и высокой ценой: ценой сведения политики до ее истины и ценой переподчинения ее множественных субъектов «коллективной истине как таковой».








