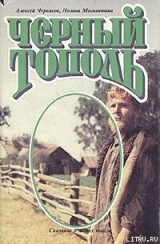
Текст книги "Черный тополь"
Автор книги: Алексей Черкасов
Соавторы: Полина Москвитина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
III
…Два отцовских туеса с золотом Филя самолично вытащил из подполья и перепрятал в овечий хлев. Но и там не залежались. Ночью разворотил каменку в бане, под каменкой выкопал глубокую ямищу, обложил ее досками, и там, в яме – еще тайничок, куда Филя засунул туеса с золотом.
Золото! Уж что-что, а золото у Фили никто не вырвет. Ни господь бог, ни сам антихрист.
Никогда Филя не работал с таким остервенением, как в ту памятную морозную ночь. Фунтов пять сала спустил с боков, и на лицо заметно осунулся, а успел вовремя. К утру заново сложенная каменка на месте тайника весело потрескивала березовыми дровами. Хоть не субботний день, Филе понадобилось попариться. И вышло хорошо. Филя хлестался распаренным березовым веником, когда в дом ввалились сельсоветчики во главе с председателем. Мамонтом Петровичем Головней. Пришли с обыском. Конфисковали кулацкое барахло и самого Филю арестовали как подкулачника. Меланья исходила криком, девчонки цеплялись за шаровары тятеньки, и только один Демка, тринадцатилетний подросток, поглядывал на рыжебородого тятьку исподлобья, как звереныш.
Филя успел шепнуть Меланье:
– Гляди за выродком – волком зырится! Отвези к куме Аграфене в Кижарт. Сей же час. Пусть там побудет до мово возвращения. Как вроде в гостях. Смыслишь то?
– Ночью-то как?
– Ни пискни! Сполняй! Он нас под самый корень срежет. Скажешь: в гости едем. И так дале.
Покорная Меланья заложила лохматого, заиндевевшего Карьку в сани-розвальни, кинула туда охапку лугового сена, положила в головки саней топор на всякий случай – если волки нападут в дороге, наскоро одела сухонького, лобастого и всегда молчаливого Демку в рваную шубу и в разбухшие отцовские пимы, прихватила кое-какое барахлишко в подарок куме Аграфене и в середине ночи выехала из ограды. Сразу за воротами – дорога в пойму Малтата. А там, в десяти верстах за Амылом, кержачье поселение Кижарт.
Небо прояснилось рясными звездами. Между звездами – точно от крупчатой булки, крошечная краюшка луны. Певуче и сладко скрипел снег под полозьями. Карька лениво шлепал нековаными копытами, будто бил в ладоши.
– Погостишь малость, Демушка – тараторила мать, подстегивая хворостиной вислопузого Карьку. – От ученья-то худущий стал. Хоть бы поправился, болезный мой.
– Как же! – пробурлил Демка в облезлый воротник шубы. – То все молились, как бы бог прибрал выродка, а тут – штоб поправился.
– Окстись, што бормочешь-то?
– Не правда, што ль? Мне в школу надо, а тут – в гости.
– Дык грю: худущий ты. Силов у те никаких нету-ка на анчихристову школу.
– В гости – есть, а в школу – нету? Уйду я от вас.
Мать начала хныкать, сморкаться, жаловаться на свою лихую судьбу, что вот – вырастила сына и добра от него не жди. Демка отмалчивался. Наслышался он всякого от отца и матери, только ни разу никто не приласкал Демку, не пожалел. Гоняли из угла в угол, кидали его книжки, тетрадки, грифельные карандаши, и единственно, в чем согласны все были, так это – что он выродок. И сестры звали выродком, и мать, и отец. И отец ли Демке Филимон Прокопьевич? Жил Демка, как огарышек в поле. Кругом радостная зелень, а огарышек торчит, маячит перед глазами, и никому до него дела нет.
Сам Филя не жаловал Демку. Для него сын – пустое место, как срамной туес, из которого старообрядцы потчуют водицей пришлых людей с ветра.
В ту пору, как Филя не солоно хлебавши вернулся с германских позиций и узнал, что отец в его отсутствие призвал к тайному радению невестку Меланью и та осенью 1916 года родила мальчонку, он готов был испепелить все надворье. Нету теперь в живых батюшки Прокопия Веденеевича, а выродок окаянный вот он – жив-здоров!..
IV
…Парнишке полюбился тополь. Не раз Демка поднимался на развилку старого дерева, мастерил там самострелы из гибких сучьев, засматривался в дымчатую синь тайги.
– Ишь, язва! Как белка летает по дереву – поглядывал Филимон Прокопьевич. – Кем будешь, Демид: кедролазом аль водолазом?
– Комсомольцем хочу – сказал однажды сын.
– Што-о? Под анчихристову печать метишь? Я те покажу косомол! Попробуй токмо. Так исполосую шкуру – сам себя не признаешь.
– Все в школе вступают, и я вступлю.
– Все, гришь? А ну, слазь, лешак!.. Я те покажу косомол!
И – показал. Содрал с Демки шароваришки на лямках и долго порол ремием с медной пряжкой, приговаривая: «Вот те, выродок анчихристов, косомол и вся Советская власть. Вовек не забудешь».
Постепенно между отцом и сыном будто кошка хвостом дорогу перемела – оказались чужими. Отец давил на сына жестокою синевою глаз, бил нещадно, на всю мужичью силу, на что сын отвечал угрюмым, настороженным сопением. И хоть бы раз попросил пощады. Упрется глазами в землю – ни слова. Только кряхтит – тяжело, с придыхами.
Как-то поутру Филя позвал Демку в моленную горницу, поставил на колени перед иконой Пантелеймона-чудотворца и спросил:
– Чадо, зришь ли бога?
Демка поглядел на иконы и лба не перекрестил.
– Зришь ли бога, вопрошаю? – наступал Филя.
– Какого бога? Тут одни доски разрисованные.
– Што-о?! – вытаращил глаза Филимон Прокопьевич. – Доски, гришь? Ах ты, окаянный выродок! – И, как того не ждал Демка, Филимон Прокопьевич схватил его за тонкую шею и ударил лбом в половицы. Раскровенил нос, губы, и кто знает, до какой степени измолотил бы его, если бы под тот час не подоспел Мамонт Головня, председатель сельсовета.
– Истязательством занимаешься? – гаркнул высоченный Головня, вторгаясь в моленную. – За такой номер при Советской власти очень свободно загремишь в тюрьму. Сей момент составлю протокол, единоличная контра!
Филимон Прокопьевич позеленел от злости.
– А ну, гидра библейская, пойдем в сельсовет, потолкуем.
Почуяв недоброе, «как-никак, Филимон-то хозяин: а без хозяина и дом – сирота!» – Меланья кинулась в ноги Мамонта Петровича и, заламывая руки, причитая в голос, всячески чернила собственного сына.
– Кабы знали, какой он вреднущий аспид, осподи! – вопила она. – С отцом огрызается, девчонок затравил, змееныш. А лодырюга-то, лодырюга-то какой, осподи! Сидит себе с книжками, и хоть рожь на нем молоти! Как же такого лоботряса не проучить? В петлю из-за него лезти, што ль?
У Демки от напраслинных слов матери слезы закипели в глотке. Это он-то лодырюга! С утра до ночи работает, и он же лоботряс.
– Уйду от вас! Все равно уйду – бормотал Демка, размазывая кровь по щекам. – Живите со своими иконами и с библией. И в бога вашего дурацкого совсем не верую. Вот!
Пунцовое лицо Филимона Прокопьевича готово было брызнуть кровью – до того оно пылало.
Протокол Мамонт Петрович не составил, но в сельсовете круто поговорил с Филей. Толстоногий, упитанный Филя не знал, чем и оправдываться. Бормотал себе в бороду нечто невнятное о «тятином грехе», и что у него все нутро выболело, и дал слово больше не трогать пальцем.
Слово свое сдержал – отмахнулся от сына, как будто и не видел его в доме.
Постепенно мутная горечь обиды на покойного тятеньку отстоялась у Фили, как старая опара в квашне. Пусть живет тятин грех, коли бог не прибрал!.. Да вот беда: времена-то какие смутные! Как бы выродок про золото не пронюхал.
И вот Демку мать отвезла к крестной Аграфене в Кижарт…
Вдовая Аграфена приняла Демку ласково. Жила она в маленькой избенке о трех окнах, занималась рукодельем, имела своих пчел, коровенку и кобылу.
Демка старался помогать одинокой Аграфене: и дрова таскал в избу, и за коровой смотрел, и за сеном не раз съездил. Потому что крестная Аграфена сама была хворая. Все кашляла. На грудь жаловалась. А к весне и совсем согнулась, скрючилась, как обруч. Все ей холодно было, мерзла.
Однажды ночью подозвала она к себе Демку, попросила воды, пожаловалась, что в избе не топлено и ей придется умереть не согревшись.
Демка, конечно, не верил, что крестная Аграфена вдруг умрет. Но однажды утром она не встала с постели. Тогда Демка притащил два беремя дров, растопил железную печку, чтоб крестная немного отогрелась. Но та лежала на деревянной кровати желтая и неподвижная. Рука ее, свисая с кровати, не гнулась. Демка попробовал поднять руку, но вместе с рукой поворачивалась крестная Аграфена. Демка даже удивился, как за ночь она вдруг помолодела. Морщины на лице разошлись, нос стал тоньше, с забавной горбинкой, которой не было вчера…
На похороны приехала мать. Сообщила, что Филимон Прокопьевич сидел в каталажке и, как только его выпустили, уехал будто бы насовсем из Белой Елани, так что в хозяйстве теперь у матери остался только вислопузый Карька да одна корова. Овец и свиней отец прирезал.
Демка, как чужой, слушал мать. И когда крестную схоронили, он сбежал к кижартской учительнице, наотрез отказавшись возвращаться домой. Учительница приняла Демку, обиходила и отвезла в Каратуз в интернат школы крестьянской молодежи. В Каратузе весною встретил Демку Мамонт Петрович Головня.
– Демид? Ого! В натуральную величину вытянулся. В какой группе учился? В пятой? Маловато. Чем и как жить будешь летом? Не знаешь? А вот я имею соображенье. Поедешь со мною в Белую Елань…
– Не поеду! – перебил Демка.
– В каком смысле, то есть?
– Не хочу и все.
– Ну, это ты брось! Заладил. Дело есть при колхозе. Пасека у нас огромятущая собралась. Пчеловодом взяли Максима Пантюховича, предбывшего партизана из Кижарта. Поживешь с ним до осени на пасеке, подкормишься. Ну, а зимой, слышь, самолично отвезу тебя в Красноярск на курсы по лесному делу. В самый аккурат будет для такого орла, как ты. Парень ты смышленый. Для чего мы кровь проливали в гражданку? Чтоб такие орлы пропадали заздря?..
Демка не посмел перечить и приехал с Мамонтом Петровичем из Каратуза в Белую Елань. Перед тем, как отправить Демку в тайгу на пасеку, Мамонт Петрович наказал:
– Гляди за пасечником-то! Хоть мы его и не выселили с его кулачкой Валявихой, как в работниках он у ней пребывал, а нутро у него подпорченное. В кулаки метил, сивый. Смотреть надо. Ты это таво, Демид, смотри за ним в оба и на ус мотай, хотя усов у тебя в доподлинности не имеется. Но вырастут еще! Вырастут!
V
…Из-под мшистых камней пробивается родничок. Прозрачный, звонкий и резвый. Это еще не река, не ручей даже, а только родничок. Здесь путник может утолить жажду. Здесь кругом вольготные заросли дикотравья – дремучие, непролазные дебри – тайга. Родничок журчит, бормочет, сверкает меж камней и бежит, бежит. По пути он собирает другие роднички. И вот уже не родничок, а ручеек. Еще дальше – речушка в шаг шириной.
Так от источника к источнику набираются толщи вод, покуда не заиграет такая вот могучая и гордая река, как Амыл, несущая шумливые воды в слиянии с Тубою в Енисей и дальше в океан льдов.
Демка – еще не мужчина, не парень даже, он только журчащий родничок. Журчит, журчит, бежит, бежит – а куда? Про то и сам Демка не ведает. Он растет еще, мужает.
Скучно Демке с Максимом Пантюховичем на пасеке.
Пасека далеко от деревни. Очень далеко! Места здесь по взгорью залиты душистым иван-чаем, над которым с утра до вечера жужжат пчелы. Богатей Валявин давно еще облюбовал место в верховьях Жулдетского хребта для пасеки. Начал строиться. А нынче весною перевезли сюда всех пчел, отобранных у раскулаченных мужиков.
Дом еще не отстроили. Не вставили окна, двери. Но дом будет большой, пятистенный.
Тошно Демке с Максимом Пантюховичем у костра. Рыжее пламя плещется, жжет темень, а просвету нет.
Накрывшись дерюгой до черной бороды, Максим Пантюхович лежит возле костра и смотрит в небо. Не спит. Бормочет себе в бороду, кряхтит.
Демка наблюдает за Максимом Пантюховичем с другой стороны костра. Вздыхает.
Ночь. Теплая, июльская. С двугорбого хребта тянет в низину верховой ветерок. По берегам речки тоскливо пошумливают лохматые деревья. На прогалине белеет дом с торчащими ребрами стропил. Квадратные глазницы окон без рамин чернеют, как пропасти. И кажется Демке, что в срубе дома хозяйничает домовой, черный, лохматый, бородатый, похожий на Максима Пантюховича. И он отчетливо слышит, как домовой посвистывает, перебирает щепы, шебуршит, стукает чем-то, будто на кого сердится. Только бы не ополчился на Демку за щепы и обрезки досок. Если вдруг сядет на шею да крикнет: «Вези, Демка, да не останавливайся!» – вот тогда хана Демке. Бога нет – это точно. Сколь раз Тятька колотил его в моленной. И никакая холера не заступилась. А вот черти есть. Крестная Аграфена кажинную ночь крестик из прутиков на порог клала и под цело. Это от чертей. Она сказывала, как самолично видела чертенят у заслонки.
Шумливые воды Жулдета ворчат на перекате, плещутся возле берега. Темная туча ползет по небу, застилая звезды и синеву небес, а куда? Учительша, Олимпиада Петровна, говорила, что тучи вокруг земли плавают. Вот бы оседлать тучу и полететь с нею. А вдруг она спустится на землю и ляжет вот здесь, возле костра, придавив Демку, Максима Пантюховича с берданкой, что лежит у него в изголовьях!.. Да нет, Демка не видел, чтобы тучи спускались на землю в низине. Оседлает туча макушку горы, полежит немножко и уплывет дальше. Но так, чтобы туча кого-то придавила, – не слыхивал. А кто ее знает! С тучами разное случается. И градом хлещут, и молнией жгут. Глаза Максима Пантюховича, черные, углистые, под метлами косматых бровей, устрашающе поблескивают в отсветах костра. И что так тревожно ухает тайга? И отчего стволы берез возле омшаника черные, а листья отбеливают, трепещутся? И что там в небе за тучей? И отчего так неспокойно Демке? И сердчишко ноет у Демки, и ноги занемели от сидения на корточках. Наседает гнус. Липнет пригоршнями на продегтяренное лицо. Максим Пантюхович отмахивается от гнуса, матерится, похожий на большущего паука. Лежит мужик на душистых хвойных лапах, подтянув под себя ноги, охает, как истый лешак.
Муторно Демке. Никого-то, никого у Демки теперь нет. У всех, как у людей, и тятька, и мамка. А у него тятьки вроде отродясь не было. «Выродок». Об матери и говорить нечего! У ней Манька, Фроська, Иришка да эти иконы…
Нет, как ни говори, а крестная его любила. И книжки давала читать. Особено он любил ту, с картинками, про геологов. Вот бы и ему выучиться на геолога и пойти искать в тайге золото и разные там металлы, минералы… А вот теперь он, Демка, за сторожа на пасеке.
– Кинь хворосту! Вишь, тухнет? – рыкает Максим Пантюхович.
Костер и в самом деле тухнет. Угольки покрываются сединкою пепла, подмигивая Демке красными бусинками, как будто мышиными глазками. Но ведь хворосту на всю ночь не хватит, если все время подбрасывать по охапке?
– Дык горит же – мямлит Демка, пихая в костер хворостину.
– Ты што? Тебя зачем послали? Помогать?
Демка отбежал от костра, захватил хворосту, подбросил в огонь.
– Ох-хо-хо – стонет Максим Пантюхович, ворочаясь на хвое. – Душа ноет, мается. Места себе не находит. Эх ма! Молодость-то промчалась по земле в бесшабашье, все было нипочем. А вот теперь судьба пристигла – похолодела душа. Нет у ней пригрева: ни детей, ни бабы, ни курочки рябы. Знать, сдохну, и креста некому будет поставить. Ну да об кресте печали не имею. Потому: ни в бога, ни в черта отродясь не веровал.
Демка внимательно слушает рокот Максима Пантюховича, угодливо соглашается:
– Бога нет. Я тоже не верую… Дурман один.
– Как так?! А тебе откуда это известно? «Не верую!» Да ты сопля, чтобы знать, есть он, Христос-спаситель, или нет его!..
Демка погнулся у костра, примолк.
Вот так каждую ночь. Хоть беги из тайги. Что-нибудь да выкопает Максим Пантюхович в душонке Демки. Зловредный мужик. Хуже самого черта. И борода у него чернее сажи, и лицо углистое, и нос крючковат, и голова лохматая, как шерсть на неостриженном баране.
Максим Пантюхович кряхтит, садится на лагун, закуривает. Из залатанных штанин выпирают мосалыги коленей. Он вздыхает, горбится, а из ноздрей – вонючий дым.
– И что меня крутит? – бурчит он. – Который день душа мается, будто пчела в нее всадила жало. И какие мои ишшо годы, чтоб об смерти думать? А вот, поди ты, мается душа. Знать, окончательно переехала ее телега жизни.
– А душа, значит, есть? – Демка вытянул тонкую шею, ждет, что скажет Максим Пантюхович. В отсветах костра насквозь просвечиваются оттопыренные уши Демки, словно большущие лепестки розы с ниточками жилок.
– Душа-то? Ежели мается, знать, существует. Душа у человека – сердце. В нем есть такая чувствительность, что всего тебя переворачивает, и ты не знаешь, куда сунуть голову. Ежли вынуть сердце – капут.
Демка моментально соображает. Если у человека душа в сердце, то и у свиньи есть душа. Он сам видел, как Филимон Прокопьевич, зарезав свинью, зажарил ее сердце. И потом они съели свинячье сердце. А выходит – душу у борова слопали.
– И у борова душа есть? – тянется Демка.
– Как так у борова? – Максим Пантюхович повернулся к Демке, подозрительно посмотрел. – Ты ее видел, у борова? Экая сопля! И туда же со словом. Вынуть бы из тебя душонку да мою вставить, чтоб ты уразумел, что и к чему.
Демка испугался. А что если в самом деле мужик вынет из него душу да себе вставит? У него-то душа, поди, старая, никудышная, а у Демки – как желторотый птенчик, едва оперилась. С такой душой жить да жить!..
От свирепого взгляда Максима Пантюховича губы у Демки слиплись, веки пугливо запрыгали, сердчишко заныло, и весь он, еще более сжавшись узкими мальчишескими плечами, готов был слиться с землей или, превратившись в дым, подняться в небо к звездочкам. Чугунный напор углистых глаз давил Демку, сверлил, пронизывал. Озаряемое красными космами костра бородатое лицо Максима Пантюховича, прошитое рытвинами морщин, нагоняло на Демку такой страх, что он дрожал, как осиновый лист. Не зря же в Кижарте Максима Пантюховича побаиваются! И нелюдимым зовут, и лешаком, и носатиком. А за что? Про то Демка не ведает. Не потому ли Мамонт Петрович наказывал Демке смотреть за ним и, если что заметит подозрительное, немедленно сообщить. А как смотреть? Он, Демка, не знает.
Скорее бы минула мгла парной ночи да настал рассвет. Днем Максим Пантюхович говорит Демке о жизни пчел, о трутнях, которых безжалостно истребляет, заботливо доглядывает за ульями. К пчелам он подходит с некоторым умилением, с ласкою. Никогда не одевает лицевой сетки, и пчелы его не жалят. Демка не раз видел, как пчелки, ползая по лицу Максима Пантюховича, забирались ему в ноздри, и тогда он громко чихал. Не терпит Максим Пантюхович курильщиков, близко к пасеке не подпускает их, хоть и сам с кисетом не расстается, когда не работает у пчел. «Пшел от ульев, пшел – кричит он на курцов-махорочников. – Не с твоим дымогарным рылом подходить к вразумленным тварям».
Прежде чем выйти к пчелам, Максим Пантюхович полощет рот Кипреем, моется и Демку заставляет мыться настоем воды на кипрее и белоголовнике. Простой водой никогда не плеснет на руки. Под вечер, когда наступают сумерки, мужик мрачнеет, темнеет, а к ночи он уже не Максим Пантюхович, а лешак. И тогда для Демки настают мучительные часы бдения у костра. Максим Пантюхович не дает ему спать, тормошит, зырится на него подозрительно и зло, а если Демка прикорнет сидя, он рычит на него страшным голосом. И кого он боится, леший? В избушке Максим Пантюхович почти не бывает. «Для человека природа сготовила одну всеобщую крышу-небушко – говорит он, пользуясь этой крышей в любую погоду. – Кто помочит, тот и высушит. Кто в озноб кинул, тот и отогреет». Но Демке в его рваной одежонке невесело под такой крышей. Знай таскай хворост для костра да сиди вот так, каменея на корточках. И так до самой зорьки. Как только плеснет по небу зорька и звездочки одна за другой потухнут, Максима Пантюховича одолевает долгожданный сон с тяжелым храпом. Тогда Демка валится на бок и, забыв обо всем на свете, дрыхнет как убитый. Ни укусы комаров, ни гнус – ничто не в силах нарушить сон Демки.
Два дня назад на пасеку забрел гость – в коричневой кожаной куртке, с ружьем. Он вышел из тайги под вечер, когда на траву пала роса. Максим Пантюхович угощал пришельца медовухой, сотовым медом и переспал с ним в избушке. Демку угнал на крышу омшаника. Утром пришелец, умываясь в Жулдете, подозвал к себе Демку и, заглядывая ему в глаза, спрашивал, есть ли у Демки родители, чей он, у кого живет, и пообещал взять с собой на охоту, если Демка будет прилежным парнем. Но что значит быть прилежным? Что разумел под прилежностью охотник со шрамом на лбу и с такими жидкими русыми волосами на темени, что Демка про себя назвал его лысым? И не его ли боится и караулит Максим Пантюхович?







![Книга Чудища из-за миров[СИ] автора Д Кузиманза](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-chudischa-iz-za-mirovsi-165648.jpg)
