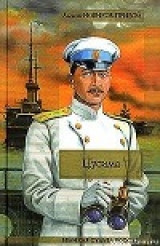
Текст книги "Цусима. Книга 1. Поход"
Автор книги: Алексей Новиков-Прибой
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
И командир Юнг после долгих колебаний сдался.
Старший офицер сбежал с мостика и, подняв для чего-то руки вверх, словно умоляя команду о пощаде, прытко, не по его летам, пронесся мимо фронта, выкрикивая:
– Сейчас, братцы, сейчас!
Он исчез в одном из люков. Но ждать его долго не пришлось. Спустя каких-нибудь пять минут он сам вывел на верхнюю палубу матроса, освобожденного из карцера, и заговорил:
– Вот он, братцы, вот. Не надо больше шуметь. Успокойтесь. Возбужденное настроение команды быстро падало, прекратились крики.
Старший офицер продолжал:
– Я сейчас распоряжусь, чтобы состряпали для вас новый обед. А вы выберите комиссию. Пусть она наметит, каких быков для вас зарезать, – двух лучших быков.
Фронт сразу рассыпался. С веселым говором расходились по палубе матросы, словно получили небывалую награду. Победа была на их стороне.
Все выше поднималось солнце, расточая буйный свет. В жарком сиянии нежился океан. Над золотисто-синей пустыней вод высоко, поднялись вершины гор и застыли в немом безмолвии. Казалось, эти серые и бесплодные великаны для того только и обступили бухту, чтобы охранять ее мирный покой от разбойных набегов бурь.
С флагманского броненосца «Суворов» донеслись звуки духового оркестра.
Глава 7
СПЕКТАКЛЬ ТРАГИКОМЕДИИ
На второй день пасхи по сигналу командующего все суда начали готовиться к погрузке угля. Праздник наш кончился. О вчерашнем дне у макросов осталось приятное воспоминание – добились освобождения товарища и поели мяса до отвала.
На переднем мостике старший сигнальщик Зефиров торопливо доложил вахтенному начальнику:
– Ваше благородие, на «Суворове» спустили паровой катер.
Вахтенный начальник распорядился:
– Следи хорошенько за ним.
Спустя некоторое время сигнальщик снова сообщил:
– Сам адмирал садится на катер.
А когда увидели, что катер направляется к нам, все начальство на «Орле» пришло в движение. Как теперь быть? У нас не были поставлены трапы. Другие приезжающие с визитом офицеры приставали на своих шлюпках к корме, взбирались по шторм-трапу на балкон, а дальше проходили через кают-компанию.
В довершение всего, последняя была превращена в угольную яму, а наш офицерский состав давно уже переселился в запасную адмиральскую кают-компанию. Да, так могли к нам попасть на броненосец младшие офицерские чины. Они с этим мирились. Но разве можно будет таким же образом принять самого командующего эскадрой, вице-адмирала Рожественского? И командир и старший офицер безнадежно разводили руками, хватались в отчаянии за голову: приближалась гроза.
Только матросы были спокойны.
– Несется к нам бешеный адмирал.
– Первый раз за все плавание.
– С чего он вздумал проведать нас?
– Вероятно, хочет с праздником поздравить и похристосоваться.
– Может быть, настроение перед боем поднять?
Офицеры и команда выстроились во фронт, глаза всех были направлены в сторону катера.
Каково же было возмущение адмирала, когда, приблизившись к броненосцу, он узнал, что ему предстоит попасть к нам на палубу не совсем обычным путем.
Это было для него оскорблением. Он поднялся на корме остановившегося катера во весь свой огромный рост и, потрясая кулаками, зарычал:
– Что за мерзость? Что за распущенность такая. Это не корабль, а публичный дом! Немедленно поставить трап!
Рожественский направился к броненосцу «Ослябя», желая, очевидно, посетить больного адмирала фон Фелькерзама.
Команда наша и не подозревала, что о вчерашнем бунте на «Орле» все стало известно командующему эскадрой. Виноват в этом был вахтенный начальник. Он написал командиру такой рапорт, который никак нельзя было замять, не дав законного хода.
На «Орле» поднялась суматоха. Закипела работа по спуску правого трапа.
Для этого поставили матросов больше, чем следует. Помимо старшего офицера, тут же находился командир судна, который все время торопил:
– Скорее! Скорее!
Не успели покончить с одним делом, как с «Осляби» передали сигналом новый приказ Рожественского:
«Поставить и левый трап».
Последний находился на левом срезе и, как на грех, был завален углем. Не было никакой возможности быстро освободить его из-под толстого слоя угля.
Начальство заметалось, бросаясь от одного борта к другому.
Удалось оборудовать только один правый трап. Снова явился Рожественский.
Почти весь экипаж выстроился во фронт на верхней палубе. Молча поднялся на нее адмирал и, не поздоровавшись, как это обычно бывает, с командой, остановился, словно в тяжелом раздумье. Огромная фигура его, возвышаясь на целую голову над другими, немного сутулилась. Принадлежность к свите его величества, чин вице-адмирала, звание генерал-адъютанта, положение командующего эскадрой – все это вместе отделяло его от нас, как божество.
Его лицо с круглой, коротко подстриженной бородой было гневно и мрачно, как разверстое море в непогоду. По своей постоянной привычке адмирал двигал челюстями, словно что-то разжевывая, и медленно скользил сверлящим взглядом по рядам матросов, как будто разыскивая среди них виновников. Все на корабле замерло. Люди, казалось, притаили дыхание. Эта молчаливая сцена продолжалась минуту или две. Наконец, тишина взорвалась потрясающим рычанием:
– Изменники! Мерзавцы! Бунтовать вздумали! Выстроиться по отделениям!
Унтер-офицеры – отдельно!
Раздался топот многочисленных ног. Сколько раз нам приходилось выполнять такую простую команду. А на этот раз мы путались и шарахались из стороны в сторону, как обезумевшее стадо животных при виде хищного зверя.
Мы еще раньше слышали, что адмирал будто бы страдает болезнью почек.
Поэтому малейшее раздражение приводило его в бешенство. Может быть, с ним действительно было так. Во всяком случае теперь он производил на нас впечатление ненормального человека. Он топал правой ногой, размахивал руками, выкрикивал брань, какую не всякий матрос может произнести, называл броненосец и команду самыми непристойными именами. Каменными глыбами падали, громыхая, его слова:
– Я не потерплю измены! Позорный корабль! Я расстреляю его всей эскадрой, потоплю его на месте!..
Мы верили в его могущество. Наши жизни находились в его руках. Он внушал нам непомерный страх.
Адмирал потребовал:
– Дайте мне зачинщиков! Где они, эти разбойники? Подать мне их сюда!
Офицеры забегали по фронту. Они сами не знали, кто зачинщик, а заранее список таковых не составили. Пришлось хватать кого попало: либо кого-нибудь из штрафных, либо такого матроса, чья физиономия им не нравилась. Случайно подвернувшийся под руку судовой плотник Лебедев был первым выхвачен из строя. Адмирал, набросившись на него, как на мишень своей разъяренной злобы, разбил ему лицо и, словно испугавшись при виде крови своей невоздержанности, приказал ему:
– Становись, мерзавец, на свое место!
Лебедев стал во фронт и был доволен, что вместо суда и угрожаемой смертной казни отделался только потерей четырех передних зубов, выбитых адмиральским кулаком.
Офицеры продолжали без разбору хватать матросов и выводить их из рядов на середину палубы, как на лобное место. Это был самый критический момент: каждый из команды думал лишь об одном – как бы его не вытащили из фронта.
И мысль, замораживая сердце, забегала вперед – расстреляют или повесят.
Остальные все облегченно вздохнули, когда офицеры набрали восемь человек и поставили их на середину палубы.
Началась трагикомедия.
Адмирал замолчал, как будто решил успокоиться, прежде чем приступить к допросу виновников. Только грудь его бурно вздымалась. Долго испытывал их взглядом, переводя его с одного лица на другое. Потом заскрежетал зубами так громко, точно они были у него железные. И вдруг снова, прорвавшись, неистово заорал на провинившихся матросов:
– Вот они, предатели земли русской! Ни одного человеческого лица! У всех арестантские морды! За сколько продали Россию? Я спрашиваю: за сколько продали родину японцам?
Восемь человек стояли вытянувшись, тараща бессмысленные глаза на грозного адмирала. У них дрожали колени, а лица их были так бледны, как будто запудрились мучной пылью. Это были безмолвные манекены.
Адмирал быстро повернулся перед всей командой и широким оперным жестом правой руки показал на арестованных:
– Посмотрите, посмотрите на этих изменников! Они продали японцам нашу родину за золото!
Потом согнулся, вобрал голову в плечи и, тыча пальцем в сторону виновников, заговорил голосом, пониженным почти до шепота, до клокочущей вибрации:
– Вижу, вижу… Вон как оттопырились карманы! Японским золотом набили!
Смотрите, все смотрите на их карманы! Они сейчас лопнут от золота! Ага!
Вот куда попали вражеские деньги.
Адмирал то приближался к виновникам, то отходил от них, все время кривляясь, пересыпая слова матерной бранью. Лицо его становилось чугунно черным, глаза пучились, словно был ему тесен накрахмаленный ворот сорочки.
Он бесновался, как одержимый. И вся эта брань, все его поведение, все глупые слова настолько были нелепы, как будто он играл перед публикой роль шута, лишь на время нарядившегося в блестящий китель. Наконец, выбрал одного из восьми человек, худого, с лицом, изрытым оспой, и загорланил:
– Вот она рожа, самим богом отмечена! Говори, сколько с японцев денег взял? Ну! Ага! Молчишь!
Он схватил его за грудь и так начал трясти, словно хотел вытряхнуть из него душу. Голова у несчастного матроса болталась, как на пружине.
Отшвырнутый, он полетел от адмирала, ударился о переборку камбуза и свалился, а затем, усевшись на палубе, вдруг начал громко икать.
Унтер-офицеров адмирал облаял последними словами, кондукторов и офицеров назвал «позорными начальниками позорной команды», командиру сделал выговор за его слабость.
– А вы, подлые души, так и знайте, – я не прощу вам этого! – в заключение обратился он уже ко всем матросам. – Разве только в бою собственной кровью сможете искупить свое преступление! В противном случае с вас полетит немытая шерсть клочьями!..
Адмирал уехал на «Суворов».
Восемь человек арестованных матросов, как тяжких преступников, под усиленным конвоем отправили на транспорт «Ярославль», заменяющий плавучую тюрьму.
Мы разошлись молча, с таким чувством, словно у каждого из нас выдавили сердце. Нам не о чем было говорить. Все было ясно. Мы отделались гибелью восьми своих товарищей[В одном из писем своему отцу младший минный офицер броненосца «Суворов» лейтенант Вырубов сообщил следующее о нашем бунте: "На «Орле» на пасхе был небольшой беспорядок, адмирал поехал туда и навел на них порядочного страху, орал он, как никогда, и наговорил таких вещей и в таких образных выражениях, что доставил нам развлечение по крайней мере на сутки.
Ю. и Ш. страшно влетело, попало и офицерам" (Архив войны шкаф N 4, дело N 305.)].
Глава 8
ВСТРЕЧАЕМ ТРЕТЬЮ ЭСКАДРУ
Вечером 25 апреля эскадра связалась по беспроволочному телеграфу с кораблями контр-адмирала Небогатова. Приближались товарищи, покинувшие Либаву через четыре месяца после нас. Весть об этом приятно всех взволновала.
На следующий день в восемь часов утра эскадра поотрядно вышла из бухты Ван-Фонг. Суда приняли походный строй, каким был сделан переход Индийским океаном. Броненосные отряды вытянулись двумя параллельными колоннами, возглавляемые флагманскими кораблями: «Суворов» и «Ослябя». Разведчики «Алмаз», «Светлана» и «Урал» выдвинулись вперед. Наши летуны «Изумруд» и «Жемчуг» расположились по флангам на траверзе флагманских кораблей, а транспорты и миноносцы – сзади броненосных отрядов. В арьергарде были поставлены крейсеры: «Олег», «Аврора», и «Донской». Четыре вспомогательных крейсера разошлись по сторонам горизонта. Эскадра шла курсом сначала на зюйд-ост, потом повернула на вест.
На нашем броненосце возбуждение охватило весь личный состав. Вместе с другими матросами и я бросился на задний верхний мостик. Все взоры были устремлены в ясную даль океана. Между «Суворовым» и «Николаем I» происходили непрерывные переговоры по радио. Во втором часу дня начали вырисовываться мачты направляющихся к нам судов. Немного погодя показались трубы, выкрашенные в черную краску, и мостики. Во главе под флагом контр-адмирала Небогатова шел «Император Николай I», за ним тянулись броненосцы береговой обороны: «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и «Адмирал Ушаков», старый броненосный крейсер «Владимир Мономах»; транспорты: «Ливония», .
«Курония», «Герман Лерке», «Граф Строганов», походная мастерская «Ксения», буксирный пароход «Свирь».
Должно было подойти еще второе госпитальное судно «Кострома». Эскадры встретились, салютуя друг другу пушечными выстрелами. Странно было видеть эти коренастые и кургузые тихоходы с высокими трубами, с длинными орудиями в такой дали от своих родных берегов. Но они пришли, покрыв в три месяца огромнейшее расстояние, 2-я эскадра застопорила машины. На «Суворове» подняли сигналы: «Добро пожаловать», «Поздравляю с блестяще выполненным проходом», «Поздравляю эскадру с присоединением отряда». Сигналы были отрепетованы всеми судами. «Николай I», ведя за собой кильватерную колонну, обогнув наши концевые корабли, прошел вдоль всей эскадры и стал в третью линию параллельно двум первым. Это был торжественный момент. С безоблачного, неба щедро разливались тучи тропического солнца. Накаленный воздух дрожал.
Морская поверхность сверкала, словно шелковая скатерть, усыпанная драгоценными камнями. На каждом судне команда выстроилась на верхней палубе во фронт, радостно выкрикивая «ура». Флагманские корабли гремели оркестрами.
А «Донской», приветствуя своего старого соплавателя «Мономаха», послал команду по реям, как это было принято во времена парусного флота, к поколению которого принадлежали эти оба броненосные фрегата.
Вскоре с «Николая» был спущен катер, на котором Небогатов отправился к командующему с докладом. На трапе «Суворова» встретились два адмирала и перед всей эскадрой облобызались. Рожественский провел младшего флагмана в свой кабинет, где провел с ним около часа. После этого Небогатов вернулся на свой корабль[О своем разговоре с командующим эскадрой адмирал Небогатов в показании перед следственной комиссией написал следующее:
"26 апреля в море, у берегов Аннама, мой отряд присоединился к эскадре Рожественского; тотчас же сигналом я был приглашен к адмиралу, который, встретив меня на верхней палубе, провел в адмиральскую столовую, где мы и беседовали в присутствии чинов его штаба; беседа эта имела вид общего частного разговора, так как предметом ее были вопросы совершенно постороннего содержания, ничего общего не имеющие с предстоящим делом.
Сначала я полагал, что адмирал не желает в присутствии чинов своего штаба говорить со мною о предстоящих действиях и что он пригласит меня к себе отдельно для деловых разговоров, но этого не случилось, так как через полчаса такой частной беседы адмирал отпустил меня…
Во время разговора с адмиралом Рожественским, между прочим я ему сказал, что имел намерение, в случае не состоявшегося свидания с ним идти во Владивосток самостоятельно Лаперузовым проливом но эти мои слова он пропустит мимо ушей и не поинтересовался никакими деталями. Это был единственный раз, когда я виделся с адмиралом Рожественским, так как с тех пор он ни разу не приглашал меня к себе и не был ни разу на моих судах. Ни о каком плане, ни о каком деле мы с ним никогда не говорили: никаких инструкций или наставлений он мне не давал". («Русско-японская война» книга 3-я, выпуск 4, стр. 49 – 50.)].
Торжество кончилось.
Четыре прибывших броненосца вошли в состав эскадры в качестве третьего броненосного отряда, а крейсер «Владимир Мономах» присоединился к крейсерскому отряду.
Мы хорошо знали, что представляют собою вновь прибывшие суда. Реальная сила их была ничтожна. И, однако, вопреки логике цифр, весь экипаж броненосца «Орел» еще долго радовался, словно произошло событие, повернувшее нашу судьбу в сторону надежды. Так у тяжко больного на пороге смерти бывает порыв к жизни, когда вдруг будущее начинает манить обещаниями.
Одно было хорошо – наше томительное скитание у берегов Аннама кончалось.
Оставалось только сделать перегрузку с прибывших транспортов, и через несколько дней мы двинемся дальше на северо-восток. Теперь над прошлым поставлен крест. Нас больше ничто не может задерживать. Россия отдала, нам все, что могла. Слово осталось за 2-й эскадрой. Все взоры были мысленно устремлены на Рожественского, чтобы на его лице под грозными бровями, в его сосредоточенном взгляде прочесть планы ближайших действий.
На второй день с рассветом отряд Небогатова с несколькими транспортами вошел в бухту Куа-Бэ, где принялись за погрузку угля и починку механизмов.
Остальные отряды эскадры остались в море, недалеко от входа в бухту. От командующего получили приказ N 229, в котором говорилось, что «с присоединением отряда силы эскадры не только уравнялись с неприятельскими, но и приобрели некоторый перевес в линейных боевых судах». И еще: «У японцев больше быстроходных судов, но мы не собираемся бегать от них».
Я не знаю, верил ли сам Рожественский в свои слова, но на матросов они не произвели должного впечатления. Слишком очевидна была вся нелепость такого заверения. Поэтому матросы только посмеивались над этим приказом:
– Хватил тоже! Какой это перевес в линейных судах? Ведь старички только прибыли да броненосцы береговой обороны.
– Вот если бы Черноморскую эскадру прислали к нам, другое было бы дело.
– Хуже всего насчет быстроходности сгородил чепуху. Как будто быстроходные суда для того и только и существуют, чтобы убегать от врага.
– Боевой дух поднимает у нас.
Некоторые матросы получили почту и радовались известиям с родины.
Делились впечатлениями с товарищами. Но не у всех было благополучно дома.
Вот кочегар привалился к правой носовой башне. Держа в корявых руках перед собою распечатанное письмо, он впился глазами в неровные строчки. Все шло хорошо, пока перечислялись поклоны от родственников. Но вдруг по грязному лицу кочегара покатились капли слез.
– Ты что? – спросил я у него.
Не сразу он ответил мне, запинаясь:
– Сынишка… Третий год шел… Петькой звали… Помер.
И, сунув письмо в карман рабочих брюк, усталой походкой побрел в низ корабля продолжать свою вахту.
Теперь наша эскадра состояла из пятидесяти кораблей: тридцать семь военных и тринадцать коммерческих. Тактическое распределение их было таково:
Первый броненосный отряд, в который входили четыре лучших однотипных корабля – «Суворов» под флагом командующего эскадрой, «Александр III», «Бородино» и «Орел».
Второй броненосный отряд – «Ослябя» под флагом контр-адмирала Фелькерзама, «Сисой Великий», «Наварин» и «Адмирал Нахимов».
Третий броненосный отряд – «Николай I» под флагом контр-адмирала Небогатова, «Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков».
Первый крейсерский отряд – «Олег» под флагом контр-адмирала Энквиста, «Аврора», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Рион» и «Днепр».
Второй крейсерский отряд – «Светлана» под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Шеина, «Кубань», «Терек» и «Урал».
Первый минный отряд – два легких быстроходных крейсера: «Изумруд» и «Жемчуг», четыре миноносца: «Бедовый», «Быстрый», «Буйный» и «Бравый».
Второй минный отряд – «Громкий», «Грозный», «Блестящий», «Безупречный» и «Бодрый».
Затем отряд тринадцати транспортов, из которых «Камчатка», «Иртыш» и «Анадырь» были вооружены малокалиберными пушками. Эти транспорты возглавлялись крейсером «Алмаз», под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Радлова. Кроме того, при эскадре находились два госпитальных судна – «Орел» и «Кострома».
Еще были транспорты, но их за ненадобностью предназначили отправить в Сайгон.
Четверо суток провели в беспрерывной суматохе. Перегружали с одних транспортов на другие уголь, провизию и припасы. До отказа заполняли углем и боевые суда. По распоряжению Рожественского на судах, прибывших с Небогатовым, все трубы были перекрашены из черных в желтые с черными каемками наверху, а мачты – в светло-шаровый цвет.
За время нашей стоянки в бухтах Камранг и Ван-Фонг офицеры «Орла» не раз поднимали между собою вопрос о том, что следовало бы эскадру задержать здесь и начать переговоры с Японией о мире. С присоединением к нам небогатовских кораблей разговоры об этом усилились. Вот что можно было услышать в кают-компании:
– После Мукденского сражения даже для дураков стало ясно, что наши сухопутные войска не могут одолеть врага. Единственная надежда у них – это 2-я эскадра. Но мы хорошо знаем, что собою представляют эти последние поскребыши наших морских сил.
– Да, совершенно верно. Если Порт-Артурская эскадра не сделала ничего путного, то мы и подавно обречены на разгром.
– Что отсюда следует?
– Следует то, что нужно бы немедленно начать переговоры о мире. Для этого теперь сложилась самая подходящая ситуация. Вы подумайте хорошенько, что получается. Так или иначе, но мы, к удивлению всего мира, преодолели огромный путь и не потеряли ни одного корабля. Дошли почти до Японии, находимся, можно сказать, у нее под боком. Это невольно должно вызвать у противника серьезные опасения. Ведь он не имеет истинного представления о всех наших недочетах. Это мы знаем, что 2-я эскадра как боевая сила никуда не годится. Японцы же, пока она не уничтожена, не могут не тревожиться ее пребыванием в восточных водах. Пусть они на море численно сильнее нас, но на войне бывают всякие случайности и неожиданности, когда слабейшая сторона разбивает сильную. Из мировой военно-морской истории можно было бы много привести таких фактов. Противник, вероятно, и это учитывает. Словом, находясь у аннамских берегов, мы могли бы заключить мир, более или менее сносный для нас. Мало того, сохранилась бы в целости наша эскадра для будущего времени, и престиж России не был бы окончательно подорван.
– Как жаль, что природа обидела разумом тех, от кого зависит прекращение этой неудачной войны.
В кают-компании против таких мыслей никто не возражал.
Утром 1 мая эскадра в составе пятидесяти кораблей, построившись в походный порядок, тронулась вперед девятиузловым ходом. Первый и второй броненосные отряды были разделены на две колонны. За ними, взяв миноносцы на буксир, следовали две колонны транспортов, возглавляемые «Алмазом». Крейсеры держались с флангов, охраняя транспорты. Разведочный отряд из четырех крейсеров выдвинулся вперед эскадры. Плавучие госпитали – «Кострома», накануне присоединившаяся к нам, и «Орел» – шли вне строя по сторонам крейсеров. Третий броненосный отряд, руководимый Небогатовым, прикрывал тыл эскадры в строе фронта.
На баке я встретился с боцманом Воеводиным.
– Пошли окончательно, – сказал он, оглядывая эскадру.
– Да, бесповоротно, – ответил я.
Эскадра вытянулась на пять миль. Из многочисленных труб выбрасывались густые черные клубы дыма. И этот дым, отставая, висел над океаном, как грозовая туча.
– Посмотришь – силищу какую представляем мы, – продолжал боцман – Да, если не разбираться по существу.
– Через две-три недели некоторым из судов, может быть, удается достигнуть Владивостока.
– А некоторым придется застрять на дне Японского моря. – Боцман испытующе посмотрел на меня.
– Да, это верно.
Все дальше отодвигались лиловые берега, дававшие нам временный приют.
Погода стояла тихая. Лишь слегка зыбилась водная ширь, поблескивая отражением утреннего солнца.
По мостику, оглядывая горизонт из-под козырька пробочного шлема, прохаживался капитан 1-го ранга Юнг. До сих пор я почти ничего не сказал о нем. А между тем за это плавание он определился и как личность, и как командир судна.
Это был питомец старой школы парусного флота. Он много плавал на клиперах, корветах и фрегатах. Перед назначением на «Орел», состоявшимся в начале войны, после перевода броненосца в Кронштадт для вооружения он командовал лучшим парусным крейсером «Генерал-адмирал». На этом судне плавали ученики, готовившиеся на строевых унтер-офицеров, и поэтому порядок там был образцовый. Юнг обладал большим морским опытом, привык к налаженной службе Парусников, на которых вся жизнь сосредоточена на верхней палубе.
На новом броненосце он чувствовал себя, как в незнакомых лесных дебрях.
Механическая и трюмная части, электротехника, башенная установка крупной артиллерии были для него таинственной областью, в которой он совершенно не разбирался. Поэтому трудно ему было руководить работой всех специалистов, контролировать их и объединять. Постепенно он принужден был всецело положиться на старших судовых специалистов. Он совсем переселился в ходовую рубку, неотлучно находился на мостике и, следя за сигналами флагманского корабля, отдавал распоряжения сигнальщикам и в машину. Эти обязанности с успехом мог бы выполнять вахтенный начальник. Таким образом, от своего корабля, от всего происходившего под спардеком и верхней палубой командир все более отрывался, а жизнь судна вне поля зрения шла самотеком.
Старший офицер тоже не мог его заменить. Тогда объединенная группа специалистов забрала власть в свои руки и начала заправлять всем броненосцем.
Так происходило не только у нас на «Орле», но и на многих других судах.
Неподготовленность командиров к переходу на новую техническую базу повела к упадку их авторитета в глазах младших чинов. На каждом судне зарождался коллегиальный орган, нечто вроде совета старших специалистов.
В жизни броненосца «Орел» эти новые взаимоотношения сказались с полной определенностью.
Командир Юнг был вполне порядочный, незлобивый и храбрый человек, с большим опытом морских плаваний. Но он потерялся перед трудностью свалившейся на него задачи – командовать необычайно сложным, еще не налаженным и имевшим много технических недочетов броненосцем. Ему пришлось ограничиться чисто внешней стороной командования, исполняя приказы адмирала и поддерживая общий порядок на судне. Всякое замысловатое положение в действиях судовых устройств и механизмов ставила его в тупик.
Даже молодые мичманы скоро заметили такую слабость командира. Над его беспомощностью посмеивались в кают-компании.
Командир знал со слов артиллеристов, что есть такой страшный зверь «реостат», который обладает свойством гореть в самую нужную минуту, когда от башни требуется ответственная работа – боковой поворот с борта на борт.
И вот однажды произошел курьез. Командир стоял на мостике и смотрел, как перед ним медленно поворачивается двенадцатидюймовая башня. Его обеспокоило, что поворот происходил слишком медленно. Он обратился к лейтенанту Павлинову с вопросом:
– Почему это башня идет так медленно?
Тот ответил:
– Башня идет вручную.
Командир подумал и сказал:
– Ах да, вероятно, реостаты горят.
Павлинов удивленно поднял черные брови.
У Юнга выработалась стремительность, свойственная морякам парусного флота.
Поэтому он все вопросы решал немедленно, без исследования, по интуиции.
Постоянные придирки адмирала издергали его. Он сам начинал терять самообладание и в свою очередь разносил офицеров, не разобрав сущности дела.
На Мадагаскаре, когда мы стояли в бухте Сан-Мари, командующий запретил сношения катеров после шести часов вечера.
К трапу «Орла» подошел катер, отправляющийся в дозор. На нм находился младший доктор Авроров и артиллерийский офицер лейтенант Гирс перенесший тяжелую болезнь и возвращавшийся обратно на броненосец с госпитального судна. Когда катер хотел пристать к трапу, командир Юнг начал кричать что-то невразумительное. Он махал руками, захлебываясь и бессвязно кричал:
– Адмирал… Шесть часов… Не позволю…
Катер ушел на всю ночь с доктором и больным офицером. Нервность командира вызывала сомнение у офицеров и команды насчет его поведения в бою, когда необходимо иметь особое хладнокровие. Постоянные «авралы» на мостике из-за каждого сигнала командующего, и при каждом, маневре заставляли многих думать, что во время сражения он потеряется. Однако под конец командир стал на путь осуждения, тактики адмирала, говоря про его штаб:
– Да что они там понимают! Боятся адмирала и ничего не видят. Не стоит обращать на них внимания.
Адмиральские сигналы с выговором он уже получал хладнокровно:
– Ерунда! Пусть себе ругаются. Ведь они там, в штабе, потеряли голову.
Постепенно он пошел за группой старших специалистов, проникся их взглядами и, не дожидаясь распоряжения адмирала, начал проводить на «Орле» ряд подготовительных мер к бою[Если командир Юнг, как бывший марсофлотец плохо разбирался в сложной технике новейшего броненосца, то это еще не значит, что он не понимал и глупой затеи овладеть Японским морем. Он заранее предвидел печальный конец 2-й эскадры. Но об этом, будучи человеком замкнутым, он никому из своих офицеров не говорил и в одиночестве переживал трагедию. В моем распоряжении имеются его письма, которые он посылал с пути своей родной, сестре, Софии Викторовне Востросаблиной.
Вот что им было написано с Мадагаскара от 28 декабря 1904 года:
«Что с нами будет дальше – пока ничего неизвестно. Мое личное мнение, что как было безумно отправлять нашу сравнительно слабую силу из Кронштадта, так и теперь безумно посылать дальше, когда весь наш флот на Востоке уничтожен и мы ничего сделать не можем с нашими старыми судами, которые взяты для счета, за исключением пяти новых броненосцев. Это слишком мало, чтобы иметь перевес над японцами и их отрезать. Вот к чему привела наша гнилая система – флота нет, а армия тоже ничего не может сделать…» Из письма от 2 января 1905 года:
«Вот действительно будет истинное счастье для бедной России, когда закончится война, так бессмысленно начатая благодаря слабоумию и недальновидной политике. Как было больно и жалко смотреть и слушать нашего принципала, провожавшего нас в Ревель и говорившего, что мы идем сломить упорство врага и отомстить за „Варяга“ и „Корейца“. Сколько в этих словах и детского, и наивного и какое глубокое непонимание серьезности положения России…» Из письма от 2 марта:
«Надо признать, что кампания проиграла и бесполезно продолжать ее. Это не простая победа японцев, а победа грамоты над безграмотностью: в Японии нет ни одного человека неграмотного, тогда как Россия одна из самых неграмотных стран. Наши верхи всегда думали, что в этом вся сила России, ну а дело-то теперь показало другое…»].








