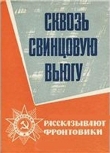Текст книги "Анатолий Петрович Ваксмут герой Моонзунда (СИ)"
Автор книги: Алексей Крылов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Впрочем, одни ли они заслуживают столь слабо выраженной похвалы? И торпедисты, продолжавшие твердо стоять на своих постах, несмотря на полную безнадежность использовать свое оружие ввиду большого крена миноносца. Чтобы не увеличивать опасность взрыва резервуаров в случае попадания в аппарат, воздух уже был стравлен – торпеды перестали быть торпедами. Но прислуга аппаратов продолжала стоять на своих постах, ожидая приказаний и для голосовой передачи с носа на корму.
А машинисты, исправлявшие повреждения у орудий? И не вина прочих, толпившихся на верхней палубе под рострами, что случай, проклятый случай, лишил их возможности доказать свою устойчивость в бою возле машин и кочегарок. Среди них старший механик Розанов, рядом с ним его помощник Малышев, измазанный, как дьявол, протирая пенсне, выслушивал подошедшего к нему старшину. Трюмный механик Грум-Гржимайло, которому также делать было нечего, который был уверен, как он говорил, что миноносец и без его помощи пойдет ко дну, бродил по верхней палубе с улыбкой, чтобы хоть чем-нибудь заняться, щелкал своим фотоаппаратом, прицеливаясь то в противника, то в отдельные группы команды. Этот милый человек, сам того не сознавая, делал, по существу большое дело: вид улыбающегося фотографа невольно бодрил команду, позировавшую ему и наблюдавшую эти сценки. Да, он был прав, этот боевой фотограф. Его аппарат все еще жил, в то время как трюмная система уже почивала мертвым сном. Имело ли смысл, и возможно ли было в нашем положении бороться с пробоинами и креном? Никакого. Да и как это сделать? Механические отливные средства бездействовали, ручные были бесцельны. Откачивать помещения, которые скоро придется, очевидно, топить, которые заполняются без постороннего вмешательства, имело так же мало смысла, как и таскать камни на высокую гору, чтобы затем их снова оттуда сбрасывать. Это был бы своего рода сизифов труд, бессмысленность которого понималась всеми без слов.
В корме взрыв снаряда. Внезапно смолкает кормовое орудие, выстрелы которого бодрили, где-то в глубине души вызывая надежду, что еще не все потеряно.
– Узнайте, что случилось, – приказывает командир. Пауза.
– Плутонговый командир сам идет на мостик, – докладывают из центрального поста. Действительно, балансируя, цепляясь за кормовой леер, быстро пробирается мичман Тихомиров. Спускаюсь к нему навстречу. И только я ступил на палубу, грянул выстрел. Снова заговорило носовое орудие.
Плутонговый командир докладывает, что разорвавшимся поблизости снарядом убило первого наводчика, двух из прислуги подачи легко ранило, комендора контузило. Сбит правый прицел, прицельные штанги погнуло. Кроме этого орудие не накатывается. Стрелять невозможно. Возвращаемся на мостик. Стреляет единственное из оставшихся в живых носовое орудие. Артиллерист, стоя на левом крыле, передает установку к нему непосредственно, так как прибегнуть сейчас к помощи центрального поста не имеет смысла. Дистанция до северной группы уменьшается: 47 кабельтовых, 45, 43. Все внимание приковано в эту сторону.
Но вот и апофеоз.
Шальной снаряд попадает в носовое орудие, не разорвавшись. Слышен резкий металлический удар, и одновременно над моей головой со свистом пролетает другой снаряд, сорвав фуражку. Ловлю себя на том, что голова под влиянием этой неблагозвучной мелодии пригибается книзу. А, черт!
Севастьянов бежит к орудию.
Между тем сигнальщики докладывают, что третий неприятельский миноносец южной колонны, запарив, вышел из строя. Уцелевшие комендоры во главе с артиллеристом некоторое время еще копошатся у носового орудия, но вскоре бросают его. Махнув рукой, Севастьянов возвращается на мостик. Комендоры стоят, с сожалением поглядывая на свое любимое детище, умолкнувшее навсегда.
– От погребов отойти!
Да там больше делать нечего.
– Пулеметы проверить, будем отбиваться, если противник подойдет вплотную.
Наступила жуткая тишина, прерываемая гулом отдаленной канонады, резкими ударами снарядов, стонами раненых и шумом воды. Прошло всего несколько мгновений с момента, когда умолк наш последний выстрел, а кажется – целая вечность. Наступило тяжелое оцепенение и какое-то безразличие. Скорее бы, что ли, кончить эту волынку! Во сне бывает иногда: видишь, как на тебя надвигается какая-то беда, бесформенная, безобразная, хочешь отвратить эту опасность, бежать, а сам скован по рукам и ногам, хочешь крикнуть, а голос не появляется. Какой-то столбняк сковал все тело. Нечто подобное пережили многие из нас в эти тяжелые минуты. Но не страх перед неизбежным концом, а какое-то особенное чувство беспомощности и безразличия.
– Попросите старшего механика на мостик, – приказал командир.
– Есть, – отвечаю и в мегафон передаю приказание командира. Видно было как столпившаяся внизу команда надела спасательные пояса. Начальствующий состав и несколько матросов поясов так и не надел. Ложный стыд. В некоторых иностранных флотах их надевают по боевой тревоге.
– Как вода? – спросил командир быстро появившегося на мостике механика.
– Прибывает. Затоплены уже обе машины кормовая кочегарка. Вода начинает просачиваться в соседние отсеки.
– Хорошо.
В сущности говоря, во всем этом было мало хорошего, если не считать, что каждый лишний фут осадки приближал нас к цели нашего путешествия.
Этот вертикальный маршрут был для корабля довольно необычен. Но разве 'Гром' походил сейчас на корабль? Банка с нефтью, стальная коробка переставшая быть даже артиллерийской платформой на плаву, превратившаяся в щит, по которому, как в бубен, могли колотить немцы уже без всякого для себя ущерба.
Но в этот момент, когда, казалось бы, всякая надежда на спасение была потеряна, когда миноносец, объятый дымом, беспомощно склонившись набок, доживал свои последние минуты, в это время сигнальный унтер-офицер громко доложил:
– 'Храбрый' идет на нас.
Действительно, продолжая стрельбу всем правым бортом по замедлившей ход северной колонне, 'Храбрый', подымая бурун, приближался к 'Грому'.
Не хотелось верить, что он решился на этот маневр ради нашего спасения. Тянуться минута за минутой – 'Храбрый' продолжает идти тем же курсом.
Неужели он на самом деле рискнет подойти к нам? Вот уже отчетливо различаются действия прислуги у орудий, видны люди на мостике. Нас разделяют всего каких-нибудь три-четыре кабельтовых, а 'Храбрый' продолжает переть не уменьшая хода. Сомнений быть не могло. Какого черта лезть в этот ад, если у него нет намерения снять команду? Немного не доходя, нос его покатился вправо. Стопорит машину. В рупор кто-то кричит 'приготовьтесь' или 'приготовьте' – из-за свиста пара не расслышать.
Вся бывшая наверху команда сгрудилась на левом борту – на полубаке и внизу у первого аппарата. Несколько человек не выдержали и бросились в воду. Но до них не было дела. Взгляд прикован к 'Храброму'. Еще мгновение – и сильный удар левой скулой позади первого аппарата. Миноносец вздрогнул и покачнулся. Снизу из воды послышался душераздирающий крик, а затем неприятный хруст – и все кончено. Это в лепешку были смяты люди, бросившиеся в воду навстречу 'Храброму'. Глянул вниз, и увидел, что спасать там больше некого – окрашенная в красный цвет вода говорила о судьбе этих несчастных.
– Полный назад!
'Храбрый' медленно пополз по борту и остановился. Стрельба на нем не прекращалась.
– Раненные, вперед! – летит приказание с нашего мостика.
– Готово!
Вслед и одновременно с ними попрыгала остальная команда. 'Храбрый' уже дал ход и, еще раз толкнув миноносец, отошел от него.
Это был прекрасный, незабываемый маневр. Мы невольно замахали ему вслед фуражками.
Миноносец опустел.
Остался на нем командный состав – восемь человек – и десять матросов, в том числе все сигнальщики.
Почему мы, оставшиеся на корабле, не последовали за всей командой? Не успели? Этого нельзя было сказать. Хотя 'Храбрый' находился возле 'Грома' всего каких-нибудь 30 секунд, но ведь переброситься на него было делом одного мгновения. Помешали нам? Никто из нас не делал ни каких попыток двинуться с места. В чем же дело? Геройство? Сомнительно. Просто неудобно было бежать с корабля – ведь он еще на плаву. Но двое из нас все же не выдерживают. Торпедист и боцман сходят с ума. Один дико захохотал и стал плясать на первом минном аппарате, а второй, взобравшись на ростры, пробовал спустить первый моторный катер, так же, как и вельбот, вдребезги разбитый. Если бы он и не был поврежден, то все же спустить катер в сторону, противоположную крену, даже при большом числе команды было делом достаточно безнадежным. Боцман это понимал лучше, чем кто-либо другой. Стали окликать обоих по фамилиям – никакого впечатления; даже не взглянув, они продолжали свое дело.
Между тем 'Храбрый', отойдя от нас, стал описывать циркуляцию вправо. Это было совершенно естественно. Ему ничего другого не оставалось, как уходить от противника. Стрельба на нем временно прекратилась. Но, к нашему удивлению, 'Храбрый' продолжал описывать циркуляцию. Мелькнула мысль: заклинило руль. Нет, все благополучно, корабль выровнялся и пошел прямо на 'Гром'. Неужели вторично подойдет?
Если это так, то третьего случая спастись, конечно, не представиться. Все средства сопротивления уничтожены. Шлюпки перебиты. Крен увеличивается: 'Храбрый', приставая, видимо, сорвал пластырь – и вода свободно хлынула внутрь миноносца. Оставаться на корабле было бесполезно и бессмысленно. Как бы подтверждение этого снова сильный удар в носовой части – весь залп угодил в кают-компанию, откуда через открытые двери коридора повалил густой дым, поднимаясь кверху и достигая мостика. На этот раз действительно начался пожар в кают-компании, но тушить его уже не пришлось.
– Впечатление такое, что делать нам здесь больше нечего, – проговорил командир.
– Жаль миноносца, но надо уходить.
Что можно было ему возразить? И мы молча согласились с ним.
– Где секретные книги и документы? – спросил я капитана.
– У меня в каюте. – И с этими словами он поспешно стал спускаться по трапу вниз и пропал в клубах дыма.
Когда командир, с трудом пробившись в свою ближайшую от входа каюту, вышел к нам с парусиновым портфелем под мышкой (жаль, что секреты перед боем не выносились на мостик), 'Храбрый' был уже возле нас. Оттуда под призывное махание рук неслись неистовые крики нашей команды, столпившейся на полубаке.
– Спасайтесь! Спасайтесь!
Доблестный командир 'Храброго' Рененкампф, застопорив машины; взял рупор и крикнул:
– Переходите на 'Храбрый'!
Затем полный ход назад. Стоп. Толчок – и два корабля, так много пережившие в тот день, по-своему 'нежно расцеловались', застыли друг возле друга, чтобы затем разойтись навсегда.
Думать было некогда. Сквозь дым, валивший из-под полубака 'Грома', все оставшиеся перебросились через поручни. Командир на секунду замялся, а затем, махнув рукой, повинуясь крику 'Скорей, скорей!', тоже перешел на 'Храбрый'. Последним, если не считать двух сумасшедших, которых, несмотря на попытки, так и не удалось стянуть с их мест. Они бешено отбивались. 'Храбрый' уже отходил от 'Грома'. Боцман в скором времени пропал за дымом, продолжавшим валить из средней части корабля, а торпедист, нелепо размахивая руками в сторону противника, все еще откалывал свой жуткий танец. Стеньговые флаги гордо реяли над тонущим миноносцем'.
Отчаянный командир пожелал погибнуть со своим кораблем, но экипаж оказался против такого хода событий. И Ваксмут был насильно снят с 'Грома' своими матросами. На всем протяжении боя рядом с командиром корабля 'Гром' А. П. Ваксмутом стоял секретарь судового комитета Соловьев, руководитель большевистской организации на эсминце.
После Октябрьской революции Ваксмут остался не у дел. Он тяжело переживал упразднение Командующего Балтийским флотом и разложение личного состава экипажей. Ушёл с флота, что бы этого не видеть.
А.П. Ваксмут вспоминал: 'Вскоре после большевистского переворота так называемый Центробалт в Гельсингфорсе, где находился почти весь действующий флот, заявил, что он не нуждается больше в командующем флотом и будут командовать они сами.
В это время действительно флот почти потерял свою боевую силу, лучшая часть команды разъехалась по домам, а оставшиеся занимались митингами и требованиями себе различных земных благ, вроде калош и т. д.
Не помню, по чьему почину, но было предложено всем офицерам собраться в Морском Собрании для решения – что же делать дальше?
Офицеры собрались в большом количестве. Не помню, кто председательствовал, но вспоминаю лейтенанта Ладыженского, говорившего о том, что до сих пор мы, офицеры, подчинялись всем распоряжениям, чтобы удержать боеспособность флота, но что теперь довольно, флот воевать не может, и мы можем делать то, что повелевает нам наша совесть, а не какие-то там комитеты, что мы не желаем быть участниками в развале флота.
Представители Центробалта, пронюхавшие про это собрание и сидевшие слева от председателя, очень заволновались, и после того, как были выступления нескольких офицеров о том, что нужно продолжать работать с большевиками, они успокоились, убедившись, что часть офицеров остается с ними.
Мое личное положение тогда было идеальным. Я был назначен в Минную оборону, где получил в командование строящийся сторожевой корабль 'Чибис'. Приехав на завод, я увидел лишь торчащие ребра шпангоутов. Корабельный мастер сказал, что мое присутствие может потребоваться не раньше чем через полгода. Таким образом, я жил на берегу, получая хороший оклад, а главное – не имея ни одного матроса под своим командованием. Между тем развал флота двигался большими шагами вперед. Многие офицеры, также потеряв веру и идею службы, предавались карточной игре и пропивали то, на что не имели права. В Морском Собрании, еще оставшемся не тронутым большевиками, с утра до вечера можно было видеть господ офицеров, играющих открыто на деньги в покер, а в городе на частных квартирах – в железку и банк, и невольно создавался вопрос – кто же еще несет службу на кораблях и остался ли еще кто-нибудь, кто интересуется кораблями?
Я решил обратиться за советом к контр-адмиралу Михаилу Андреевичу Беренсу. Он мне ответил: 'Подождите, через неделю я еду в Москву, а когда вернусь, скажу вам, что делать'.
В начале декабря 1917 года он вернулся обратно, и, явившись к нему, я получил пакет для передачи генералу Алексееву.
Михаил Андреевич сказал: 'Поезжайте в Новочеркасск, где явитесь на Барочную улицу, ? 2, передайте пакет генералу Алексееву, там создаются силы для борьбы с большевиками. По приезде в Петербург идите в кафе на Морской, там к вам подойдет капитан 1-го ранга Павел Михайлович Пиен, который расскажет, как ехать дальше'.
Уезжая из Гельсингфорса, я многим из своих приятелей рассказал о том, что мне передал Михаил Андреевич. Почти все уверяли, что они также приедут, но приехали и остались только два брата Ильвовы – Борис и Сергей.
Придя в кафе, я сразу увидел Павла Михайловича, сидящего за столиком в штатском платье. Для тех, кто не знал Пиена, был установлен какой-то – не помню – условленный знак. Павел Михайлович повел меня в свою комнату, где он ночевал, – не помню, на какой улице, – и сказал, чтобы я пришел на следующий день за документами и пропусками для проезда на Дон.
Придя к нему на следующий день, я застал у него лейтенанта Де Калуго-Сунтона и мичмана Иванова с 'Изяслава'. Павел Михайлович выдал нам троим удостоверения, что мы рабочие, едем на Кавказ строить какую-то дорогу. Документы были со всеми печатями Советов.
С большим трудом втиснувшись в поезд, мы втроем двинулись через Москву на юг. Сунтон и Иванов решили заехать в Харьков, где в это время играла в оперетте знаменитая в Гельсингфорсе опереточная певица, а я решил заехать в Екатеринослав повидать свою мать и сестер. Было Рождество Христово 1917 года. На Екатеринослав наступали какие-то гайдамаки, в городе шла стрельба, и никто не понимал, в чем дело. Пробыв несколько дней у матери, я окольным путем добрался до вокзала и поехал дальше по направлению к Дону. Частью на поезде, частью на лошадях удалось доехать до станции Дебальцево в угольном Донецком бассейне, дальше начиналась 'ничья земля' – верст на двадцать. Накануне моего приезда станция подверглась нападению белых или, как тогда говорили, 'кадет', бродило много вооруженных типов, и казалось, будто все они смотрят на меня с подозрением.
Так что, когда попутчики предложили мне вместе с ними нанять подводу и ехать дальше на лошадях, я с радостью согласился, и вечером мы выехали с вокзала. Была новогодняя ночь, крутом тишина, все покрыто снегом, но на душе тревожно: что за попутчики и куда возница нас везет? А тут еще какие-то черные трупы валяются у дороги. На вопрос: 'Что это?' – он говорит: 'Да это кадеты, пускай их собаки растащат'. Бедные мальчики, чем они виноваты?
Наутро нас доставили на следующую станцию, откуда мы по шпалам прошли верст шестнадцать и, наконец, оказались в стане белых. На вокзале юнкера в погонах, какой-то передовой отряд. Будто гора свалилась с плеч, все казалось каким-то чистым и светлым, таким знакомым и радостным! Мои попутчики тоже оказались офицерами, стали вынимать из чемоданов кто погоны, кто 'Владимира', куда девалась мрачность и молчаливость, все говорят, и, кажется, готовы броситься на шею друг другу.
В этот же день, 1 января 1918 года, на хорошей лошади, уже поздно вечером я прибыл в Новочеркасск на Барочную улицу, где и поместился в общежитии. Здесь я встретил первого морского офицера Черного моря – лейтенанта Остолопова. На следующий день прибыли старший лейтенант Потолов и Елачич, а также два брата Ильвовы, Борис и Сергей.
Передав свой пакет генералу Алексееву через лейтенанта Поздеева, находившегося при штабе генерала, мы все отправились в Ростов, где на яхте 'Колхида' капитан 2-го ранга Потемкин формировал морскую роту. Кроме капитана Потемкина, насколько я помню, там были: Потолов, Елачич, Ильвовы Борис и Сергей, лейтенанты Басов и Адониди, мичман Мельников, мичман Василий Тихомиров, кадет М. К. Векслер молодой мичман с 'Петропавловска' – кажется, Петров – прибыл, когда мы были, уже в Батайске, где и был убит. Команда, главным образом, состояла из учеников местного мореходного училища, гимназистов и кадет. Приехали и мои попутчики Сунтон и Иванов, но, пробыв два дня, куда-то уехали, не понравилась им, видно, ситуация.
А ситуация действительно была безрадостная. Взятие Ростова, происшедшее, кажется, исключительно руками кадет и юнкеров, незадолго до нашего приезда, принесло Добровольческой армии мало прибыли. Говорят, в городе было несколько тысяч офицеров, но они в большинстве предпочитали ждать. Жители города также не шли навстречу. Кажется, один купец Парамонов и еще гимназистки, за неимением сестер милосердия ухаживавшие за ранеными в госпиталях, помогали армии.
С севера началось наступление красных, и Добрармия, в числе 3000 – 4000 человек, бессменно отбивалась от наступавших. Наконец дошла очередь и до нас. В конце января Морская рота – около 80 человек – была отправлена на станцию Батайск защищать Ростов с юга.
Прибыв в эшелоне-поезде на станцию, мы там застали Кавказский Дивизион Смерти полковника Ширяева – 120 человек и 2 орудия артиллерии. Это были все силы для защиты Южного фронта. Станция Батайск имела 5-6 железнодорожных путей, много мастерских и складов. Местное село все заселено железнодорожными рабочими и, конечно, нашими врагами. Два солдата полковника Ширяева, ходившие туда, были убиты жителями. Таким образом, мы со станции туда не могли войти, и все ночи несли дозоры вокруг наших эшелонов и станции.
В это время все наступления велись лишь по железнодорожным путям, так что, пока мы имели связь по телефону со следующей станцией, наше положение было довольно спокойным, но в ночь на 1 февраля эта связь прекратилась. Старший лейтенант Потолов был послан на паровозе на разведку и выяснил, что станция занята красными.
С рассветом началось наступление. Наша жиденькая цепь, находившаяся впереди станции, под натиском огромного количества красных – вероятно, несколько тысяч, под командой Сорокина – стала отходить на станцию, где были убиты Адониди и мичман Петров. Наши два орудия накануне были куда-то отозваны, и нам было приказано держаться до последнего. Два взвода под командой Потолова были выдвинуты вне станции, были отрезаны и пробивались сами в Ростов, здесь был убит Мельников. Я, мичман Тихомиров и еще несколько человек из дивизиона защищали наш левый фланг станции, стреляя по наступающим и прикрываясь вагонами, но в 9 часов утра я уже тащился на станцию с повисшей рукой – разрывная пуля раздробила мне левое плечо, а за мною сейчас же притащился и Тихомиров с простреленной в двух местах ногой. В дивизионе был врач, который и перевязал нас. Потеряв много крови, я не мог уже ходить, и пришлось улечься на носилки.
Вскоре все остатки нашего отряда – человек 50 – были заперты в здании вокзала. Красные обошли нас со всех сторон, и в течение дня их броневик с одной пушкой подходил вплотную и громил нас. Сыпались кирпичи и стекла, и пули бились в стены со всех сторон. Таких атак в течение дня было четыре. За это время был ранен в глаз Владимир Николаевич Потемкин. Наконец, наступила темнота и с ней какая-то зловещая тишина. Мы приготовились к худшему, и все раненые разобрали револьверы, чтобы хоть как-нибудь себя защитить.
Я был тяжело ранен и лежал внутри вокзала и обязан своей жизнью полковнику Ширяеву. С наступлением темноты было решено пробиваться. Нас, носилочных раненых, было человек 8-9, и мы были большой обузой для остальных. Зная бесчеловечную жестокость, издевательства и пытки, которым подвергались попавшие в плен к красным раненые добровольцы, кто-то предложил из милосердия нас добить. Услышав это, полковник Ширяев заявил, что либо все выйдем, либо все останемся.
Но все оставалось тихо. Было решено пробираться на Ольгинскую станицу, находящуюся в стороне от железной дороги. Первыми вышли два брата Ильвовы с пулеметами, затем вынесли нас, раненных, и, пройдя все пути и вагоны, пошли прямо через поля в сторону от железной дороги. Шли всю ночь и наутро подошли к армянскому хутору. Оттуда был послан верховой в Ольгинскую станицу, и через некоторое время к нам навстречу выехали казаки с розвальнями и, забрав всех, привезли к себе в станицу. Совершенно непонятно, почему красные за нами не следили и так легко нас выпустили.
На следующий день нас, раненных, привезли в Ростов. Меня и мичмана Тихомирова отправили в гимназию, где был устроен лазарет, а Вл. Ник. Потемкина – к какому-то глазному специалисту. В лазарете мы провели лишь одну ночь, и на следующий день было приказано всех раненых эвакуировать в Новочеркасск, так как Ростов будет сдан красным. После всего пережитого лазарет показался нам раем – чистое белье, светлая зала, молоденькие гимназистки, ухаживавшие за ранеными... И казалось, что мы уже являемся центром внимания, как единственные моряки, – правда, тут же был среди выздоравливающих гардемарин Иванов 13-й, раненный при взятии Ростова. Такое исключительное внимание к нам продолжалось и дальше. Одна из гимназисток поехала с нами до Новочеркасска. Нас всех выгрузили на станцию, и наша провожатая отправилась искать нам пристанища в переполненные госпитали. Почти всех уже развезли, и только мы остались. Наконец, уже под вечер, возвращается наша молодая благодетельница; забрала нас и отвезла в областную больницу Войска Донского. Без этой девушки мы бы, верно, так и остались на станции.
Не долго нам пришлось пробыть в больнице. 9 февраля кто-то из окна увидел, что едут верхом и на повозках, покидая город, казаки. Все, кто мог двигаться, повыскакивали и присоединились к уходившим, родные забрали своих по домам. Весь медицинский персонал разбежался, и остались одни сиделки-казачки и мы – тяжело раненные и бездомные. Сестричка наша Шура Л. выбилась совсем из сил, помогая и снаряжая тех, кто мог еще двигаться, и утешая остающихся. Шура не была сестрой милосердия, она была всего лишь гимназисткой местной гимназии и могла делать лишь то, что подсказывало ей ее любящее сердце.
К вечеру все стихло, как в палате, так и снаружи. Кто мог, сам ушел, кого взяли родственники, и только мы, два моряка – мичман Вася Тихомиров, еще совсем безусый мальчик, и я, – как две рыбы, выброшенные на берег, оказались в беспомощном положении. Весь медицинский персонал улетучился. Шура наша тоже ушла, и только рядом в комнате сиделки-казачки делились своими впечатлениями. Вася заметно волновался – у него нога была прострелена в двух местах, и он не мог ходить; мне же было как-то безразлично: разрывная пуля, разбившая мое левое плечо, оставила много осколков; эти осколки вызывали нагноение, подымалась температура, и чувство опасности притуплялось. Снаружи был тихий зимний вечер, мороза почти не было, но снегу было много. Небо сверкало звездами, и только изредка раздававшиеся в разных концах города одиночные выстрелы напоминали всем о том ужасе, который вот-вот свалится на нас.
Стемнело. Неожиданно подходит к нам сиделка, здоровенная казачка, хватает меня в охапку и, говоря: 'За вами пришли!' – несет меня вниз по лестнице на улицу. Вася прыгает за нами на одной ноге. У крыльца стоит ослик, запряженный в санки, а на санях – большой мусорный ящик, какой-то мальчик лет пятнадцати держит ослика за уздцы. Сиделка кладет меня в ящик, сверху залезает Вася, и мы двигаемся. Откуда-то из-за угла появляется наша Шура и говорит: 'Я решила взять вас к себе'.
Все это произошло так неожиданно и быстро, что ни у меня, ни у Васи не было тогда никаких тревожных мыслей, а когда Шура привезла нас к себе в дом, где мы нашли чистенькие, приготовленные для нас кровати, уютную обстановку, пианино, на котором Шура что-то нам сыграла, то мы почувствовали себя, наконец, дома, забыв обо всем на свете.
Потом мы узнали, что у Шуры были отец – больной, разбитый параличом, – и мать, запретившая ей привозить нас к ним в дом, да еще мальчик-сирота, живший у них и помогавший им по хозяйству.
Наутро действительность встала перед нами в полной своей безнадежности: рана моя насквозь промокла, некому и нечем было ее перевязать. Что могла сделать молоденькая Шура без опыта? Мать же ее отказалась чем-либо нам помочь; за два месяца, что я пробыл у них, я ее так и не видел.
Через два-три дня вбежала встревоженная Шура и предложила нам переселиться в подвал, куда мы с трудом и перебрались. Оказалось, чекисты ходят по домам и вытаскивают нашего брата. Однако, дойдя до нашего дома, они повернули обратно. Все это мы узнали позже, так как Шура сама нам ничего не рассказывала.
В то время в Новочеркасске находился Смольный институт, перевезенный из Петрограда из-за голода. В этом институте училась моя младшая сестра Оля. Шура рассказала моей сестре Оле о нас, и одна из классных дам, бывшая сестрой милосердия на фронте, согласилась нас навещать и делать перевязки. Не помню ее имени, но своими заботами о нас она стала для нас матерью, и мы поняли тогда, на какой риск пошли эти совершенно чужие для нас люди. Она вовремя заметила, что у меня начинается заражение крови. Все свое свободное время она бегала по городу в поисках доктора, но почти всегда получала отказ. Наконец один врач, доктор Д., согласился, пришел без всяких инструментов и просто пальцами вытащил из моей раны несколько осколков; после этого я начал поправляться.
Стали появляться к нам гимназистки из Ростова. Помню, были Женя, Таня и еще некоторые, имен которых я, к сожалению, не помню. Как они нас находили, я не знаю, но они привозили нам белье, медикаменты, деньги и даже вино. Вася скоро поправился, ему раздобыли документы ученика коммерческого училища, и вскоре он уехал к себе домой на Волгу. Я остался один, но не надолго, так как вскоре красные разогнали институт, и сестра моя переехала ко мне и заняла место Васи.
Я также уже стал сельским учителем Проскурняковым, страдающим от туберкулеза кости левого плеча. Оставаясь вдвоем с сестрой, мы все время гадали, куда бы нам уйти от Шуры и освободить ее от той тяжести, что она приняла на себя. Мы видели, как ей было тяжело, но ничего не могли придумать, так как я еще не мог двигаться. К апрелю месяцу в Новочеркасске начались, после месячного затишья, снова расстрелы и притеснения.
Неожиданно из Ростова приехала Таня Е. и предложила нам переехать к ней, на что мы с радостью согласились. За время моей болезни у меня выросла довольно внушительная борода, и я действительно стал похож на сельского учителя. Переезд в Ростов был без всяких приключений, пришлось только выйти из поезда за станцию до Ростова – в Нахичевани, так как в Ростове усиленно всех обыскивали.
Из Нахичевани прошли пешком до окраины Ростова, где сели на трамвай и вскоре очутились в большом трехэтажном доме, принадлежавшем отцу Тани. На следующий день пришла ее подруга Галя со своим отцом-доктором, который продолжал оказывать мне медицинскую помощь.
В начале мая Ростов был занят немцами, и мы были освобождены.
Так вот эти молоденькие девушки, еще совсем дети, но с большим русским сердцем, спасли меня и Васю и, конечно, еще других, оказавшихся в подобном положении'
По выздоровлении, совпавшем с изгнанием большевиков из города, Ваксмут снова поступил служить на флот, на этот раз в созданную усилиями контр-адмирала Кононова Донскую флотилию, где его сразу же направили командовать вооруженным пароходом "Кубанец".
В конце июля 1918 года два корабля недавно созданной Донской флотилии вышли в плавание, первоначальной целью которого было освобождение от красных Азова. Ради этого от пристани Ростова отошли два вооружённых речных парохода 'Новочеркасск' и 'Кубанец'. Последним командовал лейтенант Анатолий Ваксмут. На этом же корабле расположился командующий Донской флотилией инженер-механик Евгений Герасимов. 'Новочеркасском' командовал лейтенант Феодосьев. Все офицеры, по крайней мере, на 'Кубанце', были людьми с богатым боевым опытом, 'первопоходники', т.е. прошедшие с генералом Корниловым 1-й Кубанский (Ледяной) поход. Таковым был сам Ваксмут, тяжело раненый под Батайском, такими были и его подчинённые: мичманы Михайловский, Герасимов, Киреенко, Эльманович, артиллерист поручик Костецкий. Каждый корабль был вооружён двумя трёхдюймовыми сухопутными орудиями на колёсах и пулемётами. Для десантных операций на борт приняли сотню донских казаков – восемьдесят человек.
Азов оказался покинут красными войсками, да и за весь поход по Дону экспедиция не сделала ни одного выстрела. Повсюду уже хозяйничали казаки. Демонстрация силы Донской флотилии лишь повышала боевой дух белых. Где-то в устье Дона к флотилии присоединился катер 'Ворон', которым назначили командовать мичмана Эльмановича. Видя такую удачу, командующий Евгений Герасимов решил провести высадку в Ейске. Было известно, что красные войска там ещё есть. 'Идём на запад вдоль берега, – описывает этот переход Ваксмут, – с расчётом около полуночи подойти к Ейску. Я иду головным, и на буксире у меня катер 'Ворон'; сзади в кильватере идёт 'Новороссийск'. Наконец, стемнело, берега не видно, но, к счастью, звёздное ясное небо, и я иду, руководствуясь Полярной звездой. Но скоро берег поворачивает круто, на 90 градусов на юг и входит в мелководную бухту, употребляемую только рыбаками, на южном берегу которой и расположен Ейск. Необходимо было этот поворот сделать вовремя, потому что иначе вместо бухты мы могли попасть на песчаную косу, выходящую от Ейска далеко в море'.