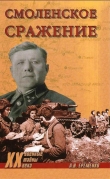Текст книги "Тяжёлый жезл маршала Ерёменко (СИ)"
Автор книги: Алексей Крылов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Как, принимаешь гостей? – сказал он, протягивая мне увесистую руку, тонким, теноровым, никак не шедшим к его крупной, грузной фигуре голосом.
Уже пожимая его руку, я все еще никак не мог сообразить, кто это. И, только скользнув глазами вниз, увидев ниже пижамной куртки генеральский лампас, вдруг сообразил, что это бывший командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко, о котором я слышал, что он в ожидании назначения находится сейчас в Москве и живет в том же доме, что и я.
– Пришел к тебе как спецу своего дела, хочу спросить совета, – сказал Еременко и покосился на приоткрытую дверь в столовую. – Кто у тебя там?
Я сказал кто.
– Ну тогда ничего, – сказал Еременко и прошел вместе со мною в комнату, продолжая держать портфель под мышкой и заметно прихрамывая – на нем были войлочные домашние туфли, – видимо, продолжала болеть раненая нога.
Он поздоровался с поднявшимся навстречу Горбатовым, и я пригласил Еременко к столу, выпить чаю.
Минут пятнадцать прошло в чаепитии и разговорах о фронтовых делах. Генералы говорили друг с другом, а я, подливая чай, не столько слушал их, сколько думал о загадочных для меня словах Еременко: в каком смысле и по какой части я для него спец и о чем он собирается со мной советоваться? Никаких здравых объяснений в голову не приходило.
Выпив два стакана чаю, Еременко неторопливо вытащил из кармана очешник, надел очки и, потянувшись за портфелем, положил его к себе на колени.
– Написал о Сталинграде поэму, – сказал он. – Хочу, чтобы послушал и посоветовал, как быть, кому отдавать печатать.
Я оторопел. Ждал чего угодно, но только не того, чтобы этот человек, командовавший Сталинградским фронтом, человек, которого я до этого видел там, в Сталинграде, у входа в подземелье командного пункта, вдруг через год с лишним придет ко мне домой читать поэму о Сталинграде, который обороняли его войска.
По своей натуре я склонен верить в чудеса, в те счастливые "а вдруг", которые очень редко, но все же происходят в жизни. "А вдруг это и в самом деле поэма?" – думал я, глядя, как Еременко вынимает из портфеля какую-то папку и не спеша, даже с некоторой торжественностью открывает ее.
Но когда он уже открыл ее и перевернул один за другим несколько листов, наверное, решая, с чего начать чтение, я краем глаза увидел, что это не черновая рукопись и не машинопись, а что-то каллиграфически выведенное черной тушью с красными буквицами. Должно быть, переписанная набело каким-нибудь писарем, великим артистом своего дела, поэма напоминала внешним видом старые рукописные книги. Меня всегда пугал вид слишком красиво перебеленных сочинений. Испугал и тогда. А Еременко выбрал страницу, с которой решил начать, и, поправив очки, стал читать.
Читал он медленно и выразительно, с тем внутренним чувством ритма, который обличал в нем человека, давно и, наверное, страстно приверженного к громкому чтению стихов.
Прочитав первую страницу, прежде чем перелистнуть ее и перейти к следующей, он сделал большую паузу и внимательно посмотрел на меня. Хотел увидеть, какое это произвело на меня впечатление.
Так повторялось еще несколько раз, иногда при перевертывании, а иногда и посреди страницы, после окончания строфы, которая ему самому особенно нравилась.
Я был в трудном положении и старался подольше ничего не выразить на своем лице, чтобы не помешать ему прочесть столько, сколько захочется. Меня сковывало уважение к этому человеку, и чем дальше, с чем большим внутренним удовлетворением он читал, тем больше меня тревожил проклятый вопрос: что же я ему скажу, когда он в конце концов спросит меня, как мне это понравилось?
В том, что я слушал, не было тех явных погрешностей в ритме и в рифмах, которые отличают совсем уж неумелые стихи и размер, и рифмы, и строфика были тщательно соблюдены. Однако вся поэма была вполне очевидным и вполне сознательным подражанием пушкинской "Полтаве", а верней, тому ее месту где речь идет о Полтавском бое. Подражание было старательным и торжественным, никакого даже самого малейшего намека на что-то свое собственное, ни малейшей крупицы хоть чего-нибудь, выходящего за пределы подражания, в том, что я слушал, не было. Это и предстояло в конце концов сказать сидевшему передо мною и читавшему мне свои стихи человеку, сумевшему остановить немцев в Сталинграде, но неспособному написать в стихах о том, что он сделал в жизни.
Редко когда-либо раньше необходимость рубить правду-матку была для меня так тягостна, как в тот вечер.
– Ну как? Что скажешь? – спросил Еременко, дочитав главу, в которой рассказывалось о пожаре Сталинграда и о первых боях за него. Вложив между страницами футляр для очков, он, кажется, хотел читать дальше, но перед этим желал убедиться в том впечатлении, которое произвело уже прочитанное.
Я было начал издалека, стал обходительно объяснять разницу между поэзией собственной и стихами, написанными в подражание хотя бы и самым прекрасным образцам. Но из моих подготовительных маневров ничего не вышло. Еременко остановил меня с солдатской прямотой:
– Ты мне всего этого не говори. Это мне уже говорили и до тебя, что у меня на Пушкина похоже. Ну и слава богу, если похоже. Ты мне свое мнение скажи: хорошо это, по-твоему, или плохо?
– Плохо, Андрей Иванович, – выдавил я из себя.
– И печатать этого, по-твоему, нельзя?
– По-моему, нельзя, тем более вам.
Еременко ничего не ответил. Молча вынул заложенный в рукопись очешник, снял очки, положил их в очешник, а очешник в карман, бережно сровнял высунувшиеся во время чтения из рукописи листы, застегнул папку, положил ее в портфель, застегнул портфель, положил рядом с собой на пустой стул, где он лежал до чтения, и наконец после долгого молчания сказал:
– Еще стакан чаю налей.
Судя по его мрачному лицу, он, наверное, сразу бы встал и ушел, но остался все-таки выпить этот стакан, потому что здесь присутствовало третье лицо – Горбатов; не захотел при нем сразу же уйти, показав меру своего огорчения и обиды.
Пил чай и переживал услышанное. А я сидел и переживал сказанное.
Допив чай, он встал, попрощался с Горбатовым, хмуро сунул мне руку и, прихрамывая, пошел из комнаты, не обращая больше на меня внимания, словно бы я и не провожал его до дверей."
Вот такие насквозь лживые "поэты" присвоили себе исключительное право писать и публиковать "своё особенное" в нашей многострадальной стране, являясь, по сути, мелочными конъюнктурщиками ловко вписываясь в ситуацию. Ерёменко совершенно правильно не стал обращать внимания на этого ждименяйщика, пооколачивавшегося пару-тройку дней около фронтовых штабов, а потом в летней синекуре левкассилевского переделкинского дома настрочившего "фронтовые стихи" про жёлтые дожди и метущие снега. Правда же состояла в том, что пассия ждименяйщика ждать лежащего в гамаке с карандашом наперевес "воина" оригинально не стала, и шустро упорхнула от Кирилла – Константина к К.К. Роккосовскому – весовой коэффициент был угадан профессиональной содержанкой с исключительной точностью.
Андрей Иванович писал свою поэму собственной кровью, неоднократно пролитой за любезное его сердцу Отечество. А сколько раз за войну был ранен оригинальный бумагомаратель, взявший аж 7 Сталинских премий, после чего со спокойной совестью обливавший вождя грязью из "глаз человека своего поколения"?.. У них так вообще принято, изданы даже целые книги – руководства как поступать в повседневной жизни. Вспомним давние слова Спасителя – по плодам их узнаете их!
После войны непревзойдённый поэтический титан Бунин, раскусив подлую суть назойливо посещавшего писателя "сына княжны Оболенской", швырнул в лицо этому новоявленному "поэту" свой разорванный советский паспорт. Великий Бунин не пожелал иметь ничего общего с мелким гуттаперчевым человечком, который нагло корчил из себя воина – победителя, раздуваясь до размеров дирижабля.
Из откровений Симонова понятно, что этого картавого писюна больше всего не устраивал факт поднятия темы о Великом Переломе Великой Войны русским человеком, державшим в своих руках живое трепетное сердце сражающегося Сталинграда, который знал уникальные подробности сражения, очень живо и образно их передал почти пушкинским поэтическим слогом. Понятно, что конкурировать с такой сильной полновесно – исторической вещью его оригинально выдуманные вирши про сына артиллериста, или про дороги смоленщины явно не могли. А так проникновенно – правдиво написать о Сталинграде сам "поэт", понятное дело был не в состоянии, хотя тема была весьма перспективной.
Но по настоящему испугало Симонова как идеолога белых и пушистых узко ограниченных кругов то, что поэма находилась не в легко теряемой рукописи, или машинописи, а была любовно переписана и художественно оформлена солдатами – Сталинградцами, что само по себе делало её реликвией, ценнейшим свидетельством – подлинником главной битвы Великой Войны. Прожжённый прагматик Симонов тонко уловил, что поэма, даже не напечатанная его усилиями тогда, несомненно уйдёт в будущее помимо стараний всех его гнусных подельников, и там станет сильнейшим литературно – художественным памятником подвигу русского народа. Ерёменко это прекрасно понял. Осталось прочитать, осознать и оценить мощь и кровавую правду Сталинградской поэмы и нам.
Громыхала победным огнём и рёвом танковых моторов Курская битва. А Андрей Иванович после лечения в госпиталях наводил порядок на Калининском Фронте, стоявшем в глубокой обороне у неприступных по мнению немцев, Смоленских Ворот. Эти ворота Сталинской волей должны были с треском распахнуться в Европу, открывая Красной Армии прямую дорогу в логово фашистского зверя. Вождь перед Тегеранской конференцией поехал именно туда – в район Смоленских Ворот. Несомненно стратегическое предвидение Сталиным ключевого момента предстоящей схватки. Но была и ещё одна, чисто личная мотивировка, проложившая заключительный маршрут поезда Верховного Главнокомандующего подо Ржев, на станцию Мелихово.
В ночь на 2 августа он вызвал к себе в кабинет заместителя наркома НКВД комиссара госбезопасности 2-го ранга Ивана Серова и коротко приказал к утру подготовить поездку в штаб Западного Фронта. Причем обеспечить такую степень секретности, чтобы об этом не знал даже начальник личной охраны – комиссар госбезопасности 3 ранга Николай Власик. Маршрут был сообщён Серову по частям. Сначала – Юхнов, что в 210 км на юго-запад от Москвы по Варшавскому шоссе. Далее – Гжатск (ныне Гагарин), в 130 км на север от Юхнова, в 180 км на юго-запад от столицы. Оттуда – через Вязьму и Сычевку, без остановок в них – в Ржев (230 км на северо-запад от Москвы).
Личная мотивировка поездки заключалась в том, что Сталин не был сыном сапожника, как трактует пожелтевший официоз. Отцом Иосифа был великий русский путешественник, географ и генерал-майор русской разведки Николай Пржевальский. Его имение – Слобода, расположенное недалеко ото Ржева уже год было на линии фронта. Полностью освободить дорогое для Сталина памятное место было поручено войскам Калининского Фронта.
3 августа вся Слобода была освобождена войсками 43 Армии. Руководил боем сам Командующий Фронтом – Андрей Иванович Ерёменко. Сталин встретился с ним 5 августа не в штабе Калининского Фронта, а в скромном деревенском домике в предместье Ржева, что не оставляет сомнений в чисто личной мотивировке этой поездки для Верховного.
Вспоминая ту встречу в деревне Хорошево, Ерёменко позже восторженно писал о Сталине (журнал "Огонек" ╧ 8, 1952 год): "Я, конечно, присутствовал на именинах в день рождения салютов, которые до сих пор гремят в нашей стране по празд╛никам, но моя роль в этом деле была скромная, творцом салю╛тов был лично товарищ Сталин.
Действительно, как и распорядился Верховный Главноко╛мандующий в 24 часа 5 августа 1943 года в городе Москва, сто╛лице нашей Родины был дан первый салют доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород. Войска стали явственней чув╛ствовать одобрение и благодарность народа. Салюты воинов звали на новые подвиги.
С этого времени каждый значительный успех советских войск Москва отмечала салютами побед.
После 5 августа 1943 года почти два года гремели над страной московские салюты, отмечая славный победоносный путь героических советских армий, и каждый из таких салютов приближал знаменательный день нашей окончательной победы!
Наша встреча с товарищем Сталиным продолжалась около трех часов, но время пролетало очень быстро и незаметно и, казалось, что мы беседовали всего несколько минут. На протя╛жении всей беседы, в словах, в выражениях и жестах товарища Сталина чувствовалась твердая уверенность и решительная настойчивость. Временами, это уже к концу беседы, когда товарищ Сталин несколько отвлекался от обсуждаемых вопросов, он много шутил.
Затем зашла речь обо мне.
– Сколько Вам лет? – спросил Иосиф Виссарионович. Я ответил.
– Да, Вы еще совсем молоды, – весело сказал он.
В своих указаниях товарищ Сталин хорошо ориенти╛ровал об обстановке, о перспективах и предстоящих ближай╛ших задачах. Его оценки были необычайно кратки, ясны и глу╛боки, о многом, может быть, еще не время писать и говорить.
Встреча с товарищем Сталиным для меня была весьма полезной, она дала очень много для расширения кругозора командующего фронтом.
После разговоров о кадрах и об оперативном искусстве, товарищ Сталин внимательно посмотрел на карту, которую полтора часа тому назад я прикрепил к стене и сказал мне:
– Ну, докладывайте, как Вы спланировали Смоленскую операцию, – а потом, улыбнувшись себе в усы, с ехидцею добавил:
– Вы Смоленск сдавали, Вам его и брать.
Я ответил:
– Постараюсь выполнить Ваш приказ, товарищ Сталин.
После этого я подошел ближе к карте, начал излагать план Смоленской операции. Вначале я коротко охарактеризовал операционное направление – Смоленские ворота, а затем дал подробную характеристику позиций противника, их укреплений и дал оценку силам врага, вывел соотношение сил, для чего также подробно охарактеризовал состав наших сил и средств.
После этого, я коротко изложил общий замысел и план операции, который вытекал из поставленной мне задачи.
Смоленская операция проводилась нашим фронтом во взаимодействии с правым флангом Западного фронта, тоже нацеленного на Смоленск. Действия двух фронтов должны были слиться в единый удар.
Я докладывал товарищу Сталину, что основная ведущая идея наступательных операций войск Калининского Фронта состоит в том, чтобы взломать всю оборону противостоявшего нам противника на всю глубину на всем фронте, взломать по частям, последовательно создавая наше превосходство в силах и средствах на избранных направлениях.
Центральное место в моем докладе Верховному Главнокомандующему все же занимала Духовщинско-Смоленская операция. Это и понятно, потому что выполнением Духовщинско-Смоленская операции войска фронта открывали так называемые Смоленские ворота, раскалывали левое крыло фронта ЦГА и получали возможность выхода на широкий оперативный простор, на поля Белоруссии и Прибалтики, откуда открывались пути в Восточную Пруссию. Смоленские ворота должны были стать для нас воротами в Западную Европу.
Докладывая план наших действий, я подробно остановился на каждом этапе операции. Вся операция планировалась в три этапа (подготовительного этапа я не считаю).
Первый этап – артиллерийская подготовка, атака и прорыв оборонительной полосы противника.
Второй этап – развитие прорыва и захват города Духовщины (открыть Смоленские ворота).
Третий этап – выход на рубеж Смоленска, захват Смоленска и поворот левого крыла войск Калининского фронта на запад – на Витебск.
Вот в таком разрезе я докладывал товарищу Сталину план Смоленской операции. При анализе каждого этапа, я детализи╛ровал группировку войск и характеризовал частные задачи на каждом этапе.
Товарищ Сталин внимательно выслушал мой доклад и в ходе изложения доклада задал мне ряд вопросов.
Касаясь вопроса организации прорыва сильной обороны про╛тивника, товарищ Сталин задал мне вопрос.
– Сколько у нас орудий на километр фронта? – спросил он меня.
– Сто шестьдесят, – товарищ Сталин.
– Мало, – сказал он. – Мало, надо не менее 200 орудий на километр фронта. Артиллерия должна сопровождать пехоту огнем от рубежа к рубежу, она должна прокладывать путь пехоте двойным валом, а для этого требуется до двухсот орудий на один километр. Особенно,– продолжал товарищ Сталин, – не должна отставать от пехоты артиллерия сопровождения, она должна шагать вместе с пехотою нога в ногу. Нужно за счет второстепенного направления усилить артиллерийскую плотность.
При обсуждении третьего этапа операций товарищ Сталин обратил мое внимание на то, что я имел недостаточно сил для развития успеха и тут же подошел к столу, на котором стоял телефонный аппарат, поднял трубку и произнес:
– Дайте 2-12, – и сейчас же получил ответ.
Слышимость была замечательной. Я стоял в стороне, но хорошо слышал, как товарищ Штеменко ответил:
– Я слушаю, товарищ Сталин.
– Товарищ Штеменко! прикажите, чтобы 3-й кавкорпус к 10 августа и одну общевойсковую армию к 20 августа перебро╛сили в распоряжение товарища Еременко в район города Белый. Поняли?
– Так точно, понял, товарищ Сталин,– ответил т.Штеменко.
Иосиф Виссарионович положил трубку и продолжал разби╛рать вопросы авиационного обеспечения. Он также нашел, что у меня маловато бомбардировщиков и тут т приказал деть мне несколько вылетов авиационного полка туполевских самолетов-бомбардировщиков Ту-2, которые до этого времени еще нигде не применялись.
В конце моего доклада я попросил у товарища Сталина дополнительно один боекомплект тяжелых снарядов, Товарищ Сталин тут же по телефону отдал приказание тов. Яковлеву отгрузить мне снаряды в первую очередь.
Во время доклада Сталин слегка нервно, но все же размеренно шагал по освещенной августовским солнцем комнате, периодически останавливаясь и замирая, что-то озабоченно вспоминая.
– А кто, товарищ Еременко, отличился в бою у Слободы?
– Слободу полностью заняли позавчера войска 43-ей армии генерала Голубева, 940-го стрелковый полк 262-й стрелковой дивизии.
К концу третьего часа нашей беседы, чувствовалось, что все вопросы, связанные с операцией, разобраны.
Вскоре вошел генерал для поручений и доложил, что машины поданы.
Мы все вышли из домика. Машины стояли не во дворе, а на улице против калитки.
Иосифу Виссарионовичу была подана машина ГАЗ-61, наш советский вездеход.
Я сел в свой "Виллис", и уже из машины еще раз взглянул на небольшой скромный домик, который с этого дня стал историческим, так как здесь побывал наш Верховный Главнокомандующий, здесь он принял важнейшие решения, сыгравшие значительную роль в судьбах Великой Отечественной войны. Машины тронулись, впереди машина товарища Сталина, затем моя, а за мной машины охраны. Простой небольшой домик с мезонином остался позади.
Мы ехали вдоль улицы села Хорошево, расположенного бук╛вой "Т" на возвышенности, нисходящей к Волге, которая выглядит здесь в верховьях очень небольшой речушкой.
Слева от нас возвышенность круто обрывалась к реке, а на ее противоположном берегу виднелся совершенно разбитый и сожженный немцами лесозавод, справа впереди редко разбро╛санные домики второй улицы деревни. Я не знал тогда еще, что позднее, после войны, сюда приедут из Москвы лучшие предста╛вители академии архитектуры и будут составлять замечательные проекты нового советского села, с большими площадями, велико╛лепными общественными зданиями, стадионом, асфальтированными дорогами. А именно так и было уже через год после окончания войны. И пройдет несколько лет, как этого села нельзя будет узнать. Тогда оно действительно по-настоящему будет оправды╛вать свое поэтическое наименование.
Станция Мелихово, где находился поезд Верховного Главно╛командующего, расположена от села Хорошево в полтора – двух километрах и через несколько минут мы уже были на станции, вернее на месте, где когда – то была станция, а теперь было пустое место и небольшая землянка с высоким накатом, заменившая станционное здание.
Проселочная дорога пересекла железнодорожные пути, и мы повернули вправо к станции. Справа тянулись три железнодорожных линии, на одной из них стоял поезд товарища Сталина, другая была только что расчищена для сквозного движения поездов, по сторонам от рельс лежали многочисленные следы недавних разрушений и горячего дыхания воины. На третьем пути ле╛жал сваленным ударами бомб пассажирский состав и много то╛варных вагонов.
Товарищ Сталин пригласил к себе в вагон, который стоял тут же неподалеку. Вагон товарища Сталина был обычный пассажирский с несколькими купе и небольшим салоном, просто, но со вкусом обставленный он пожалуй, выглядел несколько строго.
Иосиф Виссарионович пригласил меня к столу. Обед прошел в оживленной беседе. Товарищ Сталин, как всегда, держал себя очень просто, настроение у него как и во время приема, было приподнятое и бодрое.
Менее отвлечённый здесь содержанием своего доклада и большой важностью вопроса, который обсуждался в домике в Хорошево, я всматривался в лицо, во всю фигуру Верховного Главнокомандующего, вслушивался в его речь, его замечания и шутки и в сознании невольно возникали параллели с впечатлениями от других встреч, от многих других разговоров по телефону и передо мной стоял уже сложившийся во времени образ Сталина, так правдиво обрисованный Анри Барбюссом. Его скупые, но яркие слова и оценки, кажется, схватили самое главное в образе нашего Верховного Главнокомандующего.
Сталин производил на меня глубокое впечатление. В его образе отчетливо выделялись его сила, его несравненно здравый смысл, развитое чувство реальности, широта его познаний, изумительная внутренняя собранность, страсть к ясности, неумолимая последовательность, быстрота, твердость и сила решений, умение молниеносно оценить обстановку, умение ждать, рассчитывать во времени, не поддаваться искушению, хранить грозное терпение.
Все это в нем покоряло и пленило меня, как и каждого человека, кто с ним встречался.
После обеда Иосиф Виссарионович тепло распрощался со мной и подарил мне на прощание две бутылки вина Цинандали.
Эта встреча со Сталиным осталась в моей памяти, как самое яркое, незабываемое, неизгладимое впечатление на всю жизнь."
Осенью 1943 года неприступные Смоленские Ворота, жалобно скрипя, широко распахнулись на запад под мощным ударом бронированных и артиллерийских кулаков Красной Армии. Намотав на танковые траки кишки уже бегущей группы армий "Центр", советские войска победно встречали 1944 год, год ДЕСЯТИ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ.
Андрею Ивановичу Ерёменко сначала довелось участвовать в третьем ударе. Ударе по Крыму. Он был назначен командующим Отдельной Приморской Армией, вместо проваливавшего дело И. Петрова, в июле 1942 года позорно сбежавшего из осаждённого Севастополя, бросив порядка 100 тысяч своих солдат. Буденный, согласовав решение по Севастополю со Ставкой, издал тогда директиву для Севастополя, в которой генерал-майор Петров был назначен командующим СОР. Директивой предписывалось:
"Октябрьскому и Кулакову срочно отбыть в Новороссийск для организации вывоза раненых, войск, ценностей, генерал-майору Петрову немедленно разработать план последовательного отвода к месту погрузки раненых и частей, выделенных для переброски в первую очередь. Остаткам войск вести упорную оборону, от которой зависит успех вывоза".
Но, Петров, не будь дурак, тут же поручил умереть за Родину генералу Новикову и отбыл на подводную лодку вопреки приказу Буденного возглавить оборону! Дальше – больше.
В начале ноября 1943 года часть десантных войск была высажена северо-восточнее Керчи, где захватила небольшой плацдарм. 318-я стрелковая дивизия полковника Гладкова и два батальона морской пехоты захватили плацдарм в районе поселка Эльтиген, южнее Керчи. Они прорвались к окраине Керчи, заняли гору Митридат и Угольную пристань. До позиции основных сил десанту оставалось километра три. Но соединиться с главными силами так и не удалось. Большая часть десанта бесцельно погибла. Начались поиски виновников трагедии. Петров обвинил в неудаче флот, а Владимирский, соответственно, Петрова. "Сугубо осторожные, замедленные действия фронта, – писал после войны Владимирский, – привели к неиспользованию благоприятной обстановки, когда Керчь, по сути дела, была уже в наших руках. Это заставило меня дать резкую телеграмму в Ставку о своем принципиальном расхождении с генералом И. Е. Петровым в вопросе о совместных действиях".
Вышедшие 9 января десантные корабли попали в шторм и не успели вовремя прибыть к месту высадки, однако запланированная артподготовка была проведена в назначенный срок, что указало немцам, уже заметившим советские корабли, место высадки, и они подтянули туда резервы. Высадка проходила так, что хуже не придумаешь – при первом авиационном налете разом погибли командир отряда высадки и его главный штурман. Вступивший в командование начальник штаба был убит при следующем налете. Часть десантников погибла еще на кораблях, часть высадить не смогли вообще, а те, кого все же высадили, через день едва смогли прорваться к своим...
Не лучше получилось 22 января при десанте в Керченском порту. План десанта был составлен плохо, каждый батальон решал свою отдельную задачу на приличном для уличных боев расстоянии друг от друга (до 1 километра). Это сразу привело к потере связи между частями, а потом и к потере управления боем со стороны командования. Немцы в этой ситуации поступили грамотно – отрезали десант от побережья, так что командир флотилии просто отказался высаживать второй эшелон: к берегу было не подойти. Операция закончилась также, как и с Тархуном: изрядно поредевшие советские батальоны были вынуждены прорываться к своим из окружения.
Нахальный Петров вот как рассказывал о том трагичном керченском деле писателю Карпову:
"Прибыл в Москву, ждал вызова к Сталину. Когда я уезжал из Крыма, все, да и я, предполагали, что меня отзывают для нового высокого назначения.(КАКОВ УРОДЕЦ, А? -Авт.) Фронт ликвидировался, я командую армией, но все же я уже был командующий фронтом. Но на душе у меня было неспокойно, обычно при таких назначениях спрашивают мнение, согласие. А тут приехал Еременко, а меня, как говорится, в двадцать четыре часа и без объяснений – в Москву. Дождался я приема, а передо мной были какие-то или конструкторы, или строители. Они вышли из кабинета Сталина как из парилки. Видно, был крупный разговор. Захожу и сразу вижу – Сталин очень раздражен. Он стоял посередине кабинета, и по тому, как зыркнул на меня, я понял: быть беде. "Докладывайте!" – бросил Сталин, не здороваясь. Я не понял, что он имеет в виду, спросил: "О чем, товарищ Сталин?" – "О том, как утопили людей и корабли в проливе". Я все же не понимал, что конкретно он хочет знать. Молчал. А его, видно, распирало, и прорвалось: "Всю свою армию переправили в Крым, зачем еще десанты? Кому нужны эти новые потери? Надо с плацдарма наступать, а вы новые десанты посылаете. Кому они нужны? Вот и угробили людей и корабли, а успехи мизерные". Только тут я понял, о чем идет речь. Хотел объяснить, что эти десанты проводились представителем Ставки, но тут же понял: это будет выглядеть, как попытка оправдаться. Но я не чувствую себя виновным – зачем оправдываться? И я молчал. Мне казалось, что запал в Сталине кипел еще от предыдущего разговора. Но как бы там ни было, а говорил он мне очень обидные вещи. И я наконец не выдержал и ответил: "Товарищ Сталин, я не виновен в том, за что вы меня ругаете". Он вскинул на меня глаза в упор: "А кто?" Я молчал, жалея, что возразил ему и пытаюсь оправдываться. "Кто?" – еще раз резко спросил он. "Пусть разберется и доложит Генеральный штаб", – ответил я. Тут он тихо, но грозно сказал: "Вы не виляйте, товарищ Петров, у меня нет времени на долгие разбирательства, говорите прямо – кто?" Я подумал: почему я должен брать все на себя? Тем более со мной не посчитались, поступили элементарно неуважительно, сами все затеяли, а когда не получилось, как говорится, спрятались в кусты. И я решился. И конечно, напрасно, только уронил себя в глазах Сталина. До сих пор жалею.
Я сказал, что эту операцию организовывал лично представитель Ставки. Сталин некоторое время смотрел на меня так пронизывающе – думал, прожжет глазами. Потом очень тихо сказал, помахивая пальцем перед своим лицом из стороны в сторону: "Мы вам не позволим прятаться за широкую спину товарища Ворошилова. Вы там были командующий, и за все будете нести ответственность вы. Идите..."
Ну и затем приказ о снятии с должности, снижении в звании на одну ступень."
Петров был освобождён от должности командующего Приморской армией, зачислен в резерв Ставки ВГК и снижен в звании до генерал-полковника, но так и остался ни то, ни сё. Мы встретимся с ним на этих страницах ещё один раз.
Вот как описывает Андрей Иванович своё назначение:
"3 февраля 1944 г. я был вызван в Ставку Верховного Главнокомандования. Здесь, кроме И.В. Сталина, были В.М. Молотов, А.С. Щербаков, А.А. Андреев и другие. Сталин объяснил мое освобождение от должности командующего 1-м Прибалтийским фронтом состоянием моего здоровья.
– Есть мнение, – сказал И.В. Сталин, – направить вас в качестве командующего в Отдельную Приморскую армию, действующую в Крыму и на его подступах на правах фронта. В эту армию входят две воздушные армии, и наряду с общевойсковыми соединениями ей подчинены в оперативном отношении также Черноморский флот и Азовская военная флотилия и ВВС Черноморского флота.
Я понимал, что, подробно говоря о составе армии, Верховный Главнокомандующий заботился о том, чтобы не ущемить, что называется, мое самолюбие, поскольку я назначался командовать армией после того, как командовал фронтами.
– Армии предстоят наступательные бои, а дела там идут пока не блестяще. Дважды планировались на ее участке наступательные операции, но попытки осуществить их оказались неуспешными.
И.В. Сталин, как обычно, осведомился о моем согласии с назначением. Я ответил утвердительно.
Прощаясь, Сталин вроде в шутку, но все же вспомнил про статью в журнале "Славяне", заметив с улыбкой:
– А вы, товарищ Еременко, все же любите печататься.
– Товарищ Сталин, вас неверно информировали. Статью о Сталинградской битве у меня вырвали буквально силой, причем действовали от имени ЦК. Мне сказали, что без вашей санкции печатать не будут, так что я здесь ни при чем, – ответил я.
– Товарищ Щербаков, слышите, – воскликнул Сталин, – а вы мне докладывали совсем по-другому. Так нельзя поступать с нашими командующими.