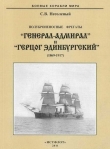Текст книги "Мои воспоминания"
Автор книги: Алексей Крылов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Школьные годы
Мой отец воспитывался в Первом кадетском корпусе в Петербурге. Принят он был в корпус в 1842 г. и выпущен в конце лета 1850 г. прапорщиком в артиллерию.[6]6
О школьных годах Н. А. Крылова – в его очерке «Кадеты 40-х годов. Личные воспоминания» («Исторический вестник», 1901, № 9, с. 943–967).
[Закрыть]
Батарея, в которую он был назначен, стояла в Алешках. Отсюда недалеко до устьев Днепра с их нескончаемыми плавнями.
Батарейным командиром был старый кавказский воин, георгиевский кавалер, полковник Прокопович. Службой он офицеров весною и летом не утруждал, а заботился больше о безгрешных доходах от своей батареи. Снимал у Фальц-Фейна громадный участок степи, на котором табуном паслись батарейные лошади, и, начиная с середины июня, заготовляли сено для корма зимою лошадей, овес же заготовлялся только по книгам по справочным ценам – это и составляло «безгрешный доход» батарейного. По старинному обычаю молодые офицеры своего хозяйства не вели, а столовались у батарейного.
Осенью предстояли смотры, и офицерам с начала августа стоило большого труда уговорить батарейного, что пора начинать ученье, так как в табуне на воле лошади совсем дичали.
Отец в молодости был страстный охотник; завел себе лодку и со своим присланным из Висяги егерем Евсеем Алексеевым проводил время целыми неделями в степи, разыскивая стрепетов и в плавнях стреляя уток и болотную дичь. Здесь он заполучил крымскую лихорадку.
В 1852 г. его батарею потребовали в Николаев, посадили на суда Черноморского флота и отправили в крейсерство вдоль Кавказского побережья. Флот часто высаживал десант, в который входила и полевая артиллерия, чтобы обстреливать непокорных горцев.
Здесь в болотах Кавказского побережья отец вдобавок к крымской заполучил еще и кавказскую лихорадку.
В 1852 г. отец вышел в отставку и поселился в Висяге, усердно занявшись хозяйством, чтобы спасти ее от «молотка», что ему и удалось, так как хлеб был в цене, а висяженский чернозем дал редкостный урожай в 1852 и в 1853 гг.
С началом Крымской войны отец был вновь призван на военную службу и определен во вторую легкую батарею 13-й артиллерийской бригады, на вакансию, оставшуюся свободной после Л. Н. Толстого, переведенного в другую бригаду.
Л. Н. Толстой хотел уже тогда извести в батарее матерную ругань и увещевал солдат: «Ну к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, «елки тебе палки», «эх, ты, едондер пуп», «эх, ты, ерфиндер» и т. п.
Солдаты поняли это по-своему:
– Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матерщинник был, слова просто не скажет, так загибает, что и не выговоришь.[7]7
Другие подробности о Л. Н. Толстом по воспоминаниям Н. А. Крылова – в его «Очерках из далекого прошлого» («Вестник Европы», 1900, № 5, с. 145–188).
[Закрыть]
Батарея отца стояла в то время в Вязьме. По мобилизации отец был послан со своим взводом в Юзовку за ядрами и в Калугу за порохом, а затем его батарея была походным порядком отправлена на южный берег Финляндии и расположена взводами по берегам и островам между Выборгом и Биорке.
Взвод отца был расположен в Биорке, и до заключения мира в 1856 г. ему только один раз пришлось перестреливаться с английской канонеркой и с десантом, который она неудачно пыталась высадить.
По заключении мира всю 13-ю бригаду отправили в Москву готовить фейерверк для предстоящей в 1857 г. коронации Александра II, причем пороху и всякого фейерверочного снадобья отпускали в неограниченном количестве.
Фейерверк должен был изображать извержение Везувия, и, кроме того, собранный со всей армии хор в 3000 музыкантов должен был исполнить гимн «Боже, царя храни», а вместо турецкого барабана должны были служить залпы артиллерии, производимые гальванически композитором генералом Львовым, причем было отпущено по 300 выстрелов на орудие, чтобы Львов мог напрактиковаться в игре на столь своеобразном турецком барабане.
Отец иногда рассказывал о приготовлении к фейерверку, самом фейерверке и о полном порядке при угощении народа на Ходынском поле благодаря умелому использованию многочисленных воинских частей, расставленных шпалерами, чтобы направлять движение народа и избежать давки, которая произошла в 1896 г. при коронации Николая II, когда погибло до 2000 человек.
В 1857 г. отец окончательно вышел в отставку и поступил на службу управляющим имениями Ермоловых и Родионовых в Казанской и Вятской губерниях, изредка наезжая в Висягу для проверки бурмистра, ею управляющего.[8]8
Об этом – у Н. А. Крылова в его очерке «Воспоминания мирового посредника первого призыва» («Русская старина», 1892, № 4 и 6).
[Закрыть]
В бывшей Вятской губернии и поныне существует уездный город Шадринск. Отец как-то объяснил мне, когда я был уже взрослым, происхождение этого названия.
У Родионовых было в Вятской губернии 10 000 десятин векового вязового леса. Вязы были в два и в три обхвата, но никакого сплава не было, поэтому в лесу велось шадриковое хозяйство, теперь совершенно забытое.
Это хозяйство состояло в том, что вековой вяз рубился, от него обрубали ветки и тонкие сучья, складывали в большой костер и сжигали, получалась маленькая кучка золы; эта зола и называлась шадрик и продавалась в то время в Нижнем на ярмарке по два рубля за пуд; ствол же оставлялся гнить в лесу.
После этого не удивительно, что от вековых вязовых лесов Вятской губернии и воспоминаний не осталось. В каком ином государстве, кроме помещичье-крепостной России, могло существовать подобное хозяйство?
В марте 1861 г. отец был свидетелем так называемого «Безднинского бунта», о котором он в 1901 г., т. е. через 40 лет, поместил статью в «Историческом вестнике», к которой и отсылаю читателя.[9]9
Имеется в виду очерк Н. А. Крылова «Накануне великих реформ» («Исторический вестник», 1903, № 9, с. 786–821).
[Закрыть]
До 1872 г. отец не мог избавиться от крымско-кавказской лихорадки, которая и мучила его недели по три каждую весну и каждую осень, причем кавказские приемы хины, – порошком по водочной рюмке верхом в раз (около 60 гран) – мало помогали.
В конце января или в феврале приехали мы в Теплый. День был морозный; отец поверх полушубка надел тулуп романовской овчины с шерстью длиною вершка в три; в прихожей сеченовского дома, к которому мы сперва подъехали, встречает отца Кастен: «Дай я тебя прослушаю, – и прикладывает ухо к тулупу на груди (прослушивание и простукивание тогда только что входило в медицинскую практику), – ты вот с лихорадкой шутил, вот теперь у тебя чахотка, через год или два умрешь (отец прожил после того 40 лет). Будешь в Нижнем на ярмарке, съезди в Москву, посоветуйся с доктором NN (фамилию доктора я забыл), он тебя отправит за границу. Имей также в виду, что Велио (бывший симбирский губернатор) назначен товарищем министра внутренних дел, он тебе «кабак – не церковь» припомнит и отправит лечиться в места не столь отдаленные».
Московский доктор посоветовал отцу переменить климат и переехать на житье на юг Франции. Отец избрал Марсель.
В сентябре 1872 г. отец ликвидировал хозяйство, продал усадьбу висяженскому богатому кулаку Захару Григорьевичу Овчинникову, половину же земли (около 300 десятин) распродал висяженским крестьянам по две и по три десятины в одни руки с рассрочкой платежа на пять лет (Василий Иванович Соколов, управляющий Петра Михайловича Филатова, говорил, что отец не то что отдал землю даром, а еще от себя приплатил), уплатил остаток долга в Опекунский совет, расплатился со всеми долгами по Висяге и со всей семьей, т. е. отец, мать и я (Александра Викторовна переехала еще раньше), отправился в Марсель.
Примерно через неделю по приезде меня отдали полупансионером в частный пансион: «Pensionnat Roussel et Champsaur, cours Jullien, 14».
По-французски я умел читать и списывать с книги, да знал с полсотни самых простых слов, выговаривая их на свой лад. Мне было тогда 9 лет.
Не только французята, мои сверстники, но и сами учителя о Симбирске и не слыхивали и решили, что я из Сибири, показывали на меня пальцами и говорили: «Voilá un sauvage de la Sibérie», т. е. «вот дикарь из Сибири».
В пансионе Русселя было три класса: приготовительный, младший и старший. Меня по возрасту поместили в младший, в котором всем предметам обучал monsieur Jules Roy, савоец родом, лет под 60, коренастый, проворный и ловкий, который бегал, прыгал, играл в мяч не только лучше всех нас, малышей, но и лучше старших, где были юноши по 16 и 17 лет.
Первоначальная профессия его была – проводник на Монблан; когда ему минуло 55 лет, он переменил эту профессию на учительскую и, надо отдать ему справедливость, учил нас всем предметам превосходно.
В классе нас было более 50 человек. Меня он сперва несколько выделил, задавал легкие упражнения по французскому языку, других предметов не требовал, так что к рождеству я понаторел во французском языке, и с января 1873 г. он подчинил меня в классе общему ранжиру. К этому времени родители сделали меня полным пансионером, так что я приходил домой по четвергам после обеда до вечера и по субботам до утра понедельника, остальное время оставался в пансионе.
День пансионера распределялся так:

Как видно, пансионер был занят кругло 11 часов в день, имея свободного времени, считая обед и ужин, 4 часа.
Приходящие были заняты с 8 часов 00 минут утра до 5 часов 00 минут вечера с перерывом в 2 часа на обед. Полупансионеры – от 8 часов утра до 8 часов вечера с перерывом на обед и на вечерний кофе.
Необходимо еще заметить, что утром задавались работы на вечерние классы того же дня, вечером – на следующий день.
Главное внимание обращалось на французский язык, французскую грамматику, которая изучалась по Noël et Chapsal, причем для усвоения правил (около 800) была книжка Exercises (упражнений), в которой отдельные предложения были напечатаны с ошибками. Эти ошибки надо было исправить, указав номер правила, на основании которого исправление сделано.
Подробно изучалась география Франции, требовалось знать все ее 96 департаментов и 96 главных их городов, – зубрежка была порядочная. Но для меня хуже всего было изучение стихотворной трагедии Расина «Atalie», причем Руа задавал отдельные сцены и в классе заставлял их отвечать наизусть, требуя, например: «Tu seras Joas et toi Atalie»[10]10
Ты будешь Жоас, а ты Аталия (Гофолия) (франц.).
[Закрыть] и надо было изображать диалог Жоаса с Гофолией, как в русском переводе именуется Atalie. Это упражнение вселило в меня навсегда отвращение к французским комедиям и трагедиям.
Хорошо преподавал Руа арифметику и упражнял в численных вычислениях, заставляя их делать быстро и верно, красиво и разборчиво писать цифры. Арифметика в его классе, т. е. для мальчиков 9–10 лет, проходилась в объеме требований третьего класса бывших гимназий, т. е. четырех действий над целыми и дробными числами, обыкновенно весьма большими (восьмизначными); кроме того, проходилось так называемое тройное правило, простое и сложное (приведением к единице). Наконец, давались без доказательства правила вычисления площадей и объемов, в том числе круга и круглых тел.
Училище имело характер полукоммерческого, по требованию родителей желающих обучали бухгалтерии. Такие ученики, даже девяти– и десятилетние, должны были вести бухгалтерские книги: мемориал, кассовую и книгу личных счетов мифических Durand, Dupont, Chevalier и т. п., писать фигурными шрифтами – рондо и готическим.

Я бухгалтерии не учился, но слушал задачи вроде следующих: Durand продал Dupont 20 штук круглых сосновых бревен, таких-то размеров, по такой-то цене стер (куб. метр) и купил у него столько-то бочек вина по такой-то цене за бочку. Разнести эту сделку по книгам. Затем в конце каждого месяца сводился баланс, причем один ученик был условно Дюраном, другой Дюпоном и каждый вел свою кассовую книгу и счет своих воображаемых клиентов. Общая география других стран, кроме Франции, почти не изучалась.
Приблизительно через два месяца по приезде в Марсель отец нанял в предместье Марселя, именуемом Timone (полчаса ходьбы от центра), домик – две комнаты и кухня внизу и три комнаты наверху. При домике был фруктовый сад: пять грушевых деревьев, зимних «бере» и «дюшес», два дерева ранних груш, два дерева персиков, два дерева инжира, с десяток кустов винограда, примерно 70 кв. метров овощной огород и около 100 кв. метров поле под люцерну. В саду, близ дома, был бассейн емкостью 12 куб. метров с проведенной в него водой, весь сад был дренирован, и из этого бассейна можно было производить поливку любого места. Водой бассейн заполнялся примерно в течение 10 часов из городского водопровода. Мы вскоре завели козу и кроликов, корма для них хватало, фрукты и большая часть овощей были свои.
За все плата в год составляла 500 франков, т. е. по тогдашнему курсу около 170 рублей, т. е. меньше 15 рублей в месяц, – такова была тогда дешевизна простой жизни на юге Франции.
В сентябре 1873 г. я перенес корь. Француз-доктор посоветовал для окончательного излечения уехать недели на две в Алжир и провести там начало октября. Поэтому мы и поехали с отцом в Алжир; переезд продолжался немногим более суток.
В г. Алжире мы переночевали в гостинице и с утра пошли на прогулку в горы, расположенные к югу от Алжира. Отошли верст 10 или 12, позавтракали за франк или полтора в каком-то придорожном трактирчике и пошли обратно. Солнце светило нам теперь в спину; я вскоре заметил, что жжет шею, подложил под шляпу носовой платок и спустил его так, чтобы шея была прикрыта. Отец мой этой предосторожности не принял, и к вечеру у него вся шея под затылком была покрыта волдырями, так что ему пришлось ее чем-то смазать и наложить повязку; тем не менее на следующий день мы сделали прогулку верст на 10 к западу, а на третий день на столько же к востоку.
Затем мы поехали по железной дороге в Оран. На какой-то станции, на полпути между Алжиром и Орлеанвиллем, видели мы, как какой-то знатный араб выезжал на охоту. Сам он был на великолепном арабском чистокровном скакуне, кругом него человек двадцать охотников, доезжачих, псарей на кровных же арабских лошадях; псари держали борзых, гончих не было, видимо, охота стоила владельцу больших денег.
Часам к шести вечера поезд подошел к станции Орлеанвилль, где он стоял один час, чтобы пассажиры могли отобедать. Хотя мы ехали в третьем классе (других классов отец не признавал), мы пошли обедать в зал 1 и 2-го классов, где был накрыт громадный стол. Дали нам закуску, суп, рыбу, мясо, торт, фрукты, кофе, по пол-литра вина и, к удивлению отца, взяли всего за двоих пять франков.
Из Орана, не возвращаясь в Алжир, мы прямо проехали в Марсель.
В Алжир я попал вновь ровно через 30 лет, будучи в плавании для некоторых испытаний крейсера «Аскольд».
Во время якорной стоянки на военном корабле свободны и располагают своим временем кок, поп и доктор. Я пригласил доктора Чернышева, и мы пошли по берегу моря на запад.
Теперь здесь пролегала прекрасно шоссированная дорога, все горы были поделены на участки, застроены красивыми виллами, а прежде был полный простор – лес из рожковых деревьев с пасущимися свиньями, поедавшими рожки, составлявшие лакомство наших деревенских мальчишек.
Верстах в пяти от города на горе, отвесно возвышавшейся над морем, стоял великолепный, видимо только что законченный постройкой храм. Мы зашли посмотреть его и были удивлены крупной надписью под центральным куполом: «Sainte Vierge, priez Dieu pour les chrétiens et les musulmans d'Afrique», т. е. «Пресвятая дева, молите бога за христиан и мусульман Африки».
Создателем храма был кардинал Lavigerie, прослуживший более 30 лет алжирским архиепископом. У самой кромки утеса над морем была его могила с памятником, надпись на котором гласила: «Кардинал Лавижери испросил у его святейшества папы Римского на вечные времена индульгенцию на три месяца всякому, кто на сем месте прочтет три раза молитву господню и молитву богородице за упокоение душ моряков, погибших на море».
– Доктор, «Аскольд» идет отсюда в Неаполь, это один из самых развратных городов в мире; посоветуйте мичманам запастись трехмесячной индульгенцией.
На следующий день я пригласил на прогулку мичмана Свирского. Мы пошли к востоку от города в селение Мустафа, где прежде был роскошный, превосходно содержимый ботанический сад с араукарией (род пихты) редкостных размеров и красоты и загоном, где паслись страусы.
Сад был сильно запущен, ни гигантской араукарии, ни страусов не было, сохранилась лишь тенистая аллея бамбуков высотою метров по 15 и толщиною у комля около 20 см.
Близ ботанического сада был соблазнительный песчаный пляж, и хотя купальный сезон уже кончился, мы с мичманом Свирским отлично выкупались.
Прошло еще 22 года. Я был в заграничной командировке, и мне поручили быть главнонаблюдающим за постройкою громадных (16 000 тонн водоизмещения и 14 000 куб. метров грузоподъемности) танкеров «Нефтесиндикат» и «Советская нефть», перепроектированных по моим указаниям. Постройка корпусов производилась на заводе «Chantiec Navals Francais» близ г. Caën в департаменте Calvados в Нормандии.
Председателем правления общества был строитель этих заводов М. Dhôme, бывший воспитанник политехнической школы и затем школы морских инженеров. Он часто вспоминал, как ему приходилось изучать и отвечать на экзаменах мою теорию качки корабля на волнении: «C'était raide» (это было трудно). Мы с ним сошлись и довольно часто беседовали не только о постройке танкеров.
Как-то он мне говорит:
– Я еду в Польшу торговаться о заказе четырех эскадренных миноносцев; морской министр там теперь Свирский; может быть, вы его знаете и хотите передать ему привет.
– Свирский – мой ученик по морскому училищу и, более того, мой соплаватель на «Аскольде». Вы можете его заинтересовать, спросив, где он был, что он делал в 1902 г. 10 сентября (по старому стилю) в 3 часа дня, а если он забыл, то вы ему напомните.
Затем Dhôme мне рассказывал, что когда в маленьком перерыве деловых переговоров он задал этот вопрос Свирскому, то Свирский был удивлен и сказал, что в сентябре 1902 г. он ушел в плавание на крейсере «Аскольд».
– «Аскольд» в это время стоял в алжирской гавани, а вы купались на пляже в Мустафе.
– Помню, помню – с Крыловым! – и начал про меня расспрашивать.
– Переговоры приняли как бы дружеский характер и окончились удачно, – добавил Dhôme. – Вы мне этим воспоминанием оказали большую услугу. Всякому приятно вспомнить молодость, и хорошее настроение при переговорах способствует их успеху.
Вернусь к Руа и его системе наказаний и поощрений. Уже сказано, что нас в классе было более 50 мальчиков, рассаженных по партам; сам Руа сидел на кафедре, возвышавшейся примерно на полтора метра над партами; кафедра стояла в углу классной комнаты диагонально против входа в класс. Сверху Руа мог видеть, что делает каждый из учеников, а его зоркий глаз горца-проводника замечал каждую мелочь. В числе учебных пособий был толковый французский словарь Bernard форматом примерно 20 × 18 см, в 600 страниц.
Чуть он замечал, что ученик не слушает и занят чем-нибудь, к уроку не относящимся, с поразительной меткостью летел в голову словарь и раздавалась команда:
– Ты мне перепишешь 25 строк со страницы 100-й словаря.
Это было наименьшее наказание, оно по мере вины повышалось до 50, 100, 200 строк и как высшая ступень:
– Ты мне перепишешь всю букву С из словаря, – т. е. почти 50 страниц.
Переписывать надо было чисто и четко, в свободное время. Это приучало писать быстро и разборчиво; рекордной цифрой было 100 печатных строк в час.
Школьный двор был в уровень с верхушкой крыш пятиэтажных домов нижней улицы, параллельной Cours Jullien. Дом против двора был сломан, и двор с северной стороны граничил с отвесным обрывом высотою около 25 метров и был с этой стороны огражден каменной стеной, высотою около 80 см, а над нею железной решеткой примерно в 1,5 метра.
За дерзость, упорное неповиновение или крупную шалость Руа иногда приходил в ярость, хватал ученика за шиворот и, держа его на весу, выбегал во двор, вскакивал на стенку и, держа ученика над обрывом за решеткой, орал страшным голосом:
– Я в каторгу пойду, но я брошу мерзавца в пропасть! Ученик при этом визжал, как поросенок, которого колют, и, получив еще в назидание пару добрых оплеух, был рад возвратиться в класс, а не слететь в пропасть.
За хорошие ответы выдавались именные боны на пять и десять зачетов (exemptions), которыми можно было откупаться от писания строк, считая каждый зачет за пять строк.
В Марселе отец познакомился с нашим консулом Рейснером, вскоре сошлись и семьями.
В 1873 г. было объявлено в России о введении всеобщей воинской повинности с 1874 г. На юге России, по большей части в Мелитопольском уезде, проживали менониты[11]11
Сектанты, отделившиеся от официальной церкви.
[Закрыть] (около 30 000 семейств). Их религия запрещала им служить в войсках, и они еще при Екатерине на основании ее манифеста о свободе от военной службы переселились в Россию, а тут указ Александра II о введении всеобщей воинской повинности. Тогда менониты решили переселиться в Аргентину, а так как Марсель поддерживал постоянные пароходные рейсы с Аргентиной, то они и прислали ходоков в Марсель на разведку. Рейснер ласково их принял в консульстве и обещал всяческое содействие.
Переселение 30 000 семейств было громадное дело. Рейснер обратился к моему отцу, вместе они привлекли французского коммерсанта Корбе и основали сообща франко-русскую контору под фирмой:

Отец на несколько недель съездил в Россию, чтобы переговорить с менонитскими старостами и вообще оформить это дело с русскими властями, затем он должен был ехать в Аргентину, осмотреть отводимые земли, а когда начнется переселение, то совсем туда переехать и поселиться там.
Но вскоре вся затея рухнула, вмешался Бисмарк. Он сделал представление Александру II, что ему не пристало отменять права, навеки дарованные его бабкой, и было решено, что вместо службы в войсках, менониты будут служить в лесной страже, а в воинских частях не в строю, а санитарами. Переселение не состоялось, но франко-русская контора «Крылов, Корбе и K°» просуществовала еще года три, просто как экспортное и импортное торговое дело.
Весною 1874 г. для ведения этого дела мы переселились сперва в Таганрог, затем в середине августа в Севастополь.
За лето Александра Викторовна подготовила меня к экзамену на русском языке, так как я не знал русских терминов и русских требований, в особенности грамматических, и не знал «Тараса Бульбу», которого надо было знать почти наизусть и уметь рассказывать своими словами любой эпизод. Экзамен я сдал очень хорошо и был принят во второй класс Севастопольского «уездного училища с прогимназическими классами».
Севастопольское уездное училище с прогимназическими классами отличалось от прочих тем, что желающие обучались латинскому и немецкому языкам. Латинскому языку я начал учиться еще в Марселе и там уже прошел склонения и спряжения правильных глаголов, так что в Севастополе латынь меня не затрудняла. Начаткам немецкого языка меня подучила моя тетка Александра Викторовна.
В Севастопольском училище учителем немецкого языка был немец-колонист, приходивший на урок в свернутом в несколько раз одеяле, служившем ему вместо пледа. Так как он уверял, что у него болят зубы, для лечения зубов у него из кармана всегда торчал полуштоф водки, к которому он частенько прикладывался, – хлебнет, прополощет рот и, само собой разумеется, не выплюнет, а проглотит. Больших познаний мы от него не приобрели.
Русскому языку учил сам директор П. Мокиевский, получивший с нового 1875 г. повышение и переехавший в Одессу. Вместо него директором был назначен учитель географии и арифметики Зелинский, русскому же языку нас стал обучать учитель латинского языка Понаиотов. Мокиевский был отличный учитель, и я у него быстро научился русской грамоте. Зелинский и Понаиотов были учителя неважные, задавали по учебнику «от сих до сих», но не требовали зубрежки наизусть и даже поощряли ответ «своими словами».
Протоиерей, настоятель собора, учил нас закону божию по катехизису Филарета, старого издания, в котором к тексту: «властем придержащим повинуйтесь и покоряйтесь» при перечислении властей, которым надлежит покоряться, значилось: «крепостные своим помещикам и господам». Крепостное право было отменено в 1861 г., но в севастопольской лавке более нового издания катехизиса не было, и мы смущали попа вопросом, как это «вера» была изменена царским указом. Обыкновенно следовал ответ: «Стань до конца урока в угол на колени, учи как напечатано, а кто еще будет спрашивать, тому уши надеру».
Кроме закона божия, отец диакон того же собора обучал имевших голос церковному пению, для чего приходил в класс со скрипкой, к которой у него был самодельный кизилевого дерева смычок, толщиною более полудюйма, служивший при обучении «учебным пособием», частенько ходившим по плечам и спинам певчих.
Выбор в певчие производился по пробе голосов, диакон тянул смычком ноту и, обращаясь к каждому по очереди, требовал: «подтягивай»; дошла очередь и до меня – я такое затянул, что диакон заорал: «Да ты хуже козла, пошел вон», и к обучению церковному пению я был признан непригодным.
Во втором классе было около 20 человек, большею частью малышей 11–12 лет, но было и несколько «великовозрастных», 16–18 лет. Конечно, они командовали нами, малышами, а подчас и издевались.
После французской муштры мне здесь учиться можно было шутя; вскоре я стал считаться первым учеником и снискал благорасположение великовозрастных тем, что приходил в училище минут за 20 до начала уроков и рассказывал заданное предпочитавшим учиться «со слов», а не по книжке. Это были первые опыты моей, впоследствии столь долгой преподавательской деятельности.
Севастополь в то время был наполовину в развалинах, и для мальчишеских игр приволье было полное.
Железная дорога на Харьков еще не была закончена, три раза в неделю приходила почта и газеты из Одессы на пароходах Русского общества пароходства и торговли, а все местные новости мы в училище узнавали раньше всех. Я как сейчас помню занесенный кем-то слух, которому верила большая часть жителей, что в Симферополе родился антихрист – его родила еврейка от ручного ястреба.
В Севастополе было еще много стариков, отставных адмиралов, участников крымской войны, со многими из них отец познакомился в местном клубе и общественной библиотеке. Иногда эти старики заходили к нам, и было интересно слышать их рассказы о знаменитой одиннадцатимесячной осаде. Летом 1875 г. отец для продолжения экспортного и импортного дела переехал сперва в Либаву, а через две недели в Ригу.
В Риге, в августе 1875 г., хотя я по-немецки не знал почти ни слова, я был отдан полным пансионером в частное трехклассное немецкое училище для того, чтобы я скорее научился немецкому языку.
Отец часто выражал мнение, что иностранному языку надо обучать в детском возрасте, подобно тому как щенка учат плавать: «Берут за шиворот и кидают в пруд; выплывет – научится плавать, потонет – никогда не научится».
Этот метод был ко мне применен в Марселе, и я через полтора года владел французским книжным и разговорным языком лучше русского, писал безошибочно, все 800 правил грамматики Noёl et Chapsal знал наизусть и при упражнениях выставлял их номера, не заглядывая в книгу.
Отец часто говаривал: «Из всего, что в детстве учишь, все потом забудешь, кроме того, с чем будешь дело иметь, и кроме языков, которым только в детстве и можно научиться на всю жизнь. Взрослым можешь выучиться читать и писать, а язык, хоть он и без костей, не переломаешь и говорить все будешь с нижегородским выговором, а в жизни знание иностранных языков есть первое дело».
Справедливость этих слов я ценил в течение всей своей жизни.
Немецкому языку нас учил сам хозяин, вюртембергский уроженец, герр Густав Юнкер, и хотя линейка (квадратик) и камышевая палка, которой пыль из платья выколачивают, служили «учебными пособиями», но учил нас толково, понятно, ясно и по-своему. Камышевую палку он применял или за упорную лень, или за дерзость преподавателю по его жалобе, или за крупную шалость; вызывал перед классом к доске и приговаривал: «Jch werde dir das Fell ausklopfen, т. е. «Я тебе шкуру-то выколочу», – и выколачивал.
К рождеству я уже довольно свободно говорил по-немецки, был переведен в старший класс и вскоре стал первым учеником (primus).
В январе 1877 г. я поступил в «квинту» немецкой классической гимназии в Риге, что соответствовало третьему классу русских классических гимназий.
В классе нас было 63 человека. Главными предметами были латынь (грамматика Кюнера) и чтение Корнелия Непота. Греческий начинался с азбуки; немецкий – грамматика и зубрежка стихов: я выезжал, вызубрив «Kraniche des Ibicus» и «Ring des Polykrates»,[12]12
«Ивиковы журавли», «Поликратов перстень» (нем.).
[Закрыть] отвечая по очереди то одно, то другое недель через пять, так как чаще не доходила очередь. Русский язык преподавался по истории Иловайского (по аналогии с Корнелием Непотом) и по какой-то грамматике на немецком языке как язык иностранный. Затем шли общие предметы: арифметика, начатки алгебры и геометрия.
Латыни нас обучал превосходный преподаватель герр Котковиц; устно он спрашивал весьма редко, а каждый день задавал на дом строк 15 из Корнелия Непота и строк десять перевести с немецкого на латинский язык (этот перевод назывался exercicium); кроме того, бывали extemporale, т. е. письменные переводы с немецкого на латинский во время урока в классе.
Заметил он перед пасхой, что по принятой ставке баллов за ошибки экзерциции у меня были всегда на 3, а экстемпорале – на 4½, а по временам и на 5; вызвал меня к доске, продиктовал немецкую фразу, я тотчас же ее перевел без ошибки; вторую потруднее – тоже; третью, еще труднее – тоже без ошибки; тогда сообразил Котковиц в чем штука:
– Я вижу, ты – лентяй, экстемпорале, на которое у тебя времени 45 минут, ты пишешь внимательно и вдумчиво, поэтому без ошибок, а экзерциции ты пишешь дома с маху в десять минут, только чтобы отделаться. Для таких лентяев у меня двойная такса, буду тебе за каждую ошибку сбавлять по целому баллу, а не по полбаллу.
Для вокабул из Корнелия Непота у меня был заключен с одним немчиком «меновой торг»: я ему отмечал нужные мне вокабулы в Корнелии Непоте, а он мне в Иловайском; эти вокабулы я писал в несколько минут без словаря, а немчик был «второгодник», у него были готовые вокабулы из Корнелия. Хотя герр Котковиц в своей таксе был вполне прав, но я усмотрел в ней утеснительство.
В апреле 1877 г. началась турецкая война. Подвиг лейтенантов Дубасова и Шестакова заставил всех мальчиков мечтать о морской службе. Попалась мне на глаза программа приемных экзаменов в приготовительные классы Морского училища. Я заявил отцу: «Ты сам любишь море, не хочу зубрить никому не нужные латынь и греческий, отдай меня в Морское училище». Отец согласился. Осенью я поступил в приготовительный пансион лейтенанта Д. В. Перского и в сентябре 1878 г. был принят в младший приготовительный класс Морского училища, выдержав экзамен с небывало высокими баллами со времени основания этих классов.