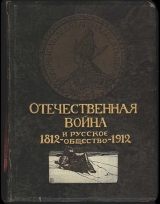
Текст книги "Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Соавторы: Дмитрий Жаринов,Владимир Пичета,Валентин Бочкарев,Вадим Бутенко,Николай Василенко,Вячеслав Волгин,Иосиф Кулишер,Николай Михневич,Константин Военский,Валериан Федоров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Франция перед столкновением с Россией

Бонапарт вручает ветвь мира государям Европы[2]2
1. Бонапарт. 2. Король Англии. 3. Папа. 4. Король и королева Португалии. 5. Турецкий султан. 6. Король Испании. 7. Император Германии. 8. Король Пруссии. 9. Неаполитанский король. 10. Император России.
[Закрыть].
I. Революция и Европа
А. К. Дживелегова
 самого начала революции было ясно, что она не может остаться чисто французским явлением. Те изменения в социальном и политическом строе, которые она несла с собою, задевали слишком много могущественных интересов во Франции и еще больше возбуждали могущественных надежд вне ее. Революция была угрозой династиям и тесно связанным с династиями владеющим классам, дворянству и духовенству. Революция была яркою зарею для классов бесправных и угнетенных и прежде всего для буржуазии, которая почти всюду играла большую социальную роль и сознавала свое значение, но была абсолютно лишена всякого политического влияния. Те, кому революция угрожала, естественно должны были попытаться вырвать у нее ее жало. Те, которым она возвещала зарю новой, более счастливой жизни, также естественно должны были дарить ей свое сочувствие, более или менее активное.
самого начала революции было ясно, что она не может остаться чисто французским явлением. Те изменения в социальном и политическом строе, которые она несла с собою, задевали слишком много могущественных интересов во Франции и еще больше возбуждали могущественных надежд вне ее. Революция была угрозой династиям и тесно связанным с династиями владеющим классам, дворянству и духовенству. Революция была яркою зарею для классов бесправных и угнетенных и прежде всего для буржуазии, которая почти всюду играла большую социальную роль и сознавала свое значение, но была абсолютно лишена всякого политического влияния. Те, кому революция угрожала, естественно должны были попытаться вырвать у нее ее жало. Те, которым она возвещала зарю новой, более счастливой жизни, также естественно должны были дарить ей свое сочувствие, более или менее активное.
Так образовалось то сплетение, которое роковым образом двинуло к французским границам силы европейского старого порядка, которое подняло всю Францию на защиту свободы и равенства, которое в тылу у европейской реакции вложило остро отточенный кинжал в руки обездоленных.

Маркиз Лафайэт
Несомненно, к концу XVIII в. в Европе имелась налицо почва, которая делала необходимым вовлечение других европейских стран во внутренний французский катаклизм. В XVII в. две революции подряд, разразившиеся в Англии, не вызвали никакого сколько-нибудь серьезного отзвука на континенте. Это понятно: во-первых, английская революция не имела того ярко выраженного социального характера, какой с самого начала получила французская. Следовательно, зараза, если и была, должна была носить чисто политический характер. Во-вторых, в XVII в. Англия так далеко опередила континент на пути политического развития, что суждения об английских революциях в европейском обществе не должны были очень отличаться от того, которое ходило на Руси и считало революцию «великим злым делом». Политические интересы европейского третьего сословия, отражающие его социальный рост, не просачивались еще очень заметным образом в его идеологию: эта идеология, благодаря усилиям церкви и школы, отражала интересы династий и союзных с династиями общественных групп. Политические и общественные учения противоположного характера оставались явлением по преимуществу литературным.
Совсем иную картину представляла Европа в конце XVIII века. Общественное развитие привело к тому, что третье сословие уже повсюду сознавало необходимость пробиться к власти. Во Франции оно оказалось в силах достигнуть этого. В других странах события во Франции комментировались таким образом, что правящим классам и династиям приходилось крепко задумываться. Наиболее передовая часть третьего сословия рассуждала, что стоит произвести некоторые усилия, и то, что достигнуто во Франции, будет достигнуто и в другой стране. Поэтому ореол революции сразу сделался так велик. Поэтому ее приветствовали Шиллер и Кант, Гердер и Клопшток, Шеридан и Мэкинтош, Алфиери и Фокс, – словом, люди, выражающие классовую точку зрения различных групп третьего сословия.
Это повсеместное почти сочувствие революции в среде влиятельных общественных групп делало задачу правительств, восставших на защиту идеи легитимизма и абсолютизма, очень нелегкой. Правительственная власть в тех странах, которые в первую очередь пошли против омоложенной революцией Франции, – в Пруссии и Австрии, – была достаточно сильна, чтобы двинуть армии вопреки общественному мнению. Но мысль о том, что за спиной у этих армий остаются люди, сочувствующие принципам 1789 года и считающие поход за Рейн и в Бельгию в угоду хныкающим французским эмигрантам нелепой авантюрой, не давала возможности проявлять большую настойчивость. И пока Франция вела войну оборонительную, пока она защищала свои политические идеалы, дорогие буржуазии всей Европы, иначе быть не могло. Потом все переменяется, когда революция перейдет в наступление и станет на путь завоеваний.
Общность политических интересов у французского третьего сословия с третьим сословием других европейских стран придавала принципам 1789 года огромную силу пропаганды. Революционный энтузиазм французского третьего сословия сообщал им необычайную силу сопротивления. Две главных группы третьего сословия – буржуазия и крестьянство – были кровно заинтересованы в том, чтобы власть, вырванная у династии и союзных с нею землевладельческих феодальных групп, не вернулась к ним вновь. Буржуазии это было важно потому, что абсолютизм стеснял ей свободу в делах торговых и промышленных и делал очень ненадежным помещение денег в государственные фонды. Для крестьянства реставрация абсолютизма означала возвращение земель прежним владельцам. С военной точки зрения особенно важно было настроение крестьянства, ибо крестьяне не только давали превосходных солдат в армию, но при первом вторжении пруссаков во Францию составляли партизанские отряды, добровольно истреблявшие, особенно во время отступления, эмигрантские батальоны, примкнувшие к армии герцога Брауншвейгского. В эмигрантах крестьяне видели уже личных врагов и были к ним беспощадны. Они рассуждали, что каждый убитый эмигрант сокращает количество возможных кандидатов на земли, приобретенные ими из фонда национальных имуществ.

Марсельеза (Пильса)
Поэтому нет ничего удивительного, что впервые теория вооруженной пропаганды была выставлена той группой, которая представляла радикальную часть буржуазии – жирондистами. Эта теория не могла появиться при Учредительном собрании, потому что оно слишком занято борьбою с врагами внутри и не имело времени думать о внешних осложнениях. Правда, Мирабо в своих размышлениях о том, как укрепить новый порядок, думал и о внешних делах; система внешней политики занимала очень видное место в его планах организации конституционной монархии. Для великого трибуна упрочение нового порядка зависело прежде всего от того, сумеет ли королевская власть проникнуться идеями революции, сумеет ли король стать королем революции. Он предвидел многие затруднения на этом пути и считал их преодолимыми все, не исключая и гражданской войны. Но одно затруднение он считал губительным: войну с иностранцами. Трудно сказать, из каких интересов исходил Мирабо, предостерегая короля от апеллирования к иностранцам против революции: королевской власти или французского народа. Но он посылал самым настойчивым образом свои предупреждения. Гражданская война, в которой король во главе части французов сражается с другой частью, не казалась ему противоестественной. Но нашествие иностранцев, в обозе у которых едет король Франции, представлялось ему чудовищным по существу и крайне опасным практически. Поэтому венцом его взглядов на вопрос внешней политики был мир, мир во что бы то ни стало, как условие прочности революции. Все двадцать пять лет истории революции показали, сколько гениального предвидения и политической прозорливости было в этих простых, как элементарный силлогизм, заключениях.

Бриссо (портрет Бонневаля)
Вообще же говоря, деятели Учредительного собрания не глядели так далеко. Война казалась большинству из них опасной не потому, что она могла принести гибель революции, а потому, что у них были серьезные опасения на счет армии: она представлялась им ненадежной с точки зрения революции. Эти опасения первое время были не чужды и Законодательному собранию, но когда ребром поставился вопрос об опасности со стороны правительств Европы, страх перед армией стал проходить. Тем более, что наиболее реакционная часть офицерства к этому времени успела эмигрировать. Вопросы внешней политики мало помалу стали в порядок дня. Вот тут-то и была выдвинута впервые теория жирондистов, провозглашенная впервые Бриссо, Икаром и Кондорсе. Они были убеждены, что система вооруженной пропаганды явится спасением в той опасности, которая грозила Франции от Европы. Они ни на минуту не сомневались, что стоит только революционным войскам перейти границу, неся впереди знамя с начертанными на нем принципами 1789 года, и народы внезапно, не задумываясь ни над чем, восстанут против своих правительств. Восстание расстроит планы коалиции и таким образом спасет Францию. В этой теории было много наивного идеализма, и ее стратегическое значение было, конечно, очень невелико. Робеспьер чувствовал это, когда во время прений о внешней политике в якобинском клубе в начале 1792 года горячо восставал против жирондистских идей. Он доказывал, что «люди не любят вооруженных миссионеров», что вооруженная пропаганда может привести к результатам весьма плачевным, особенно при жалком положении французских вооруженных сил. Эта точка зрения одержала верх. Победа над жирондистами в этом вопросе была облегчена для Робеспьера еще и тем, что многие считали неблагоразумным втягивать страну во внешние осложнения, не сокрушив окончательно королевскую власть.
Так, соображения внешней опасности тесно переплетались с мотивами внутренних тревог и не выпускали революционную политику из круга жутких колебаний. И были все основания для тревог, ибо Европа не дремала.

Верньо (Bonneville, колл. В. М. Соболевского)
В начале революции единственным поводом для недовольства против Франции у Австрии и Пруссии была судьба имперских клиньев во французской территории, подпавших под действие декретов 4 августа. Но поводы эти были незначительны. Крупных интересов они не затрагивали, и потому к большим осложнениям не приводили. Из-за того, что в каком-нибудь Мемпельгарде у князя были отняты феодальные права, трудно было ожидать объявления войны. Варенские события, в которых старая Европа не могла не видеть тяжкого оскорбления королевской власти, как таковой, сделали положение более серьезным. Настроения и приготовления в Германии приняли вследствие этого настолько вызывающий характер, что партия мира во Франции потеряла почву. В марте 1792 года образовалось так называемое жирондистское министерство, руководимое г-жой Ролан и насквозь пропитанное иллюзиями Бриссо; уже 20 апреля оно заставило Людовика объявить войну «королю Венгрии и Богемии». Такой титул был выбран из осторожности, чтобы не вовлечь в войну имперских князей и особенно Пруссии. Но осторожность не привела ни к чему. Попытки министра иностранных дел Дюмурье предупредить войну с Пруссией оказались безуспешны. В силу заключенного ранее Пильницкого соглашения (27 авг. 1791) Пруссия примкнула к Австрии. Первые неудачи на полях сражения опрокинули жирондистское министерство. Законодательное собрание 11 июля объявило отечество в опасности. Декрет всколыхнул всю страну сверху донизу. В одном порыве слились все классы третьего сословия и все, что осталось от первых двух. Общая опасность сплотила всех и положила начало тому национальному чувству, которое должно было делать чудеса в течение почти двадцати пяти лет. На эту почву упал наглый эмигрантский манифест, неосторожно подписанный герцогом Брауншвейгским (25 июля). Его результатом было прежде всего 10 августа. Рубикон был перейден. Интригам двора положен конец. Королевская власть не существовала более. Ответом на 10 августа было вступление во Францию прусских войск, а ответом на нашествие – сентябрьский погром в тюрьмах Парижа: революция защищала, как умела, свой тыл, прежде чем встретить врага лицом к лицу. А когда закаленные в боях солдаты Фридриха Великого 20 сентября столкнулись под Вальми с «неорганизованным сбродом», произошло чудо. «Сброд» блистательно устоял под адским огнем прусских пушек. Сброда больше не было под французскими знаменами. Была армия, одушевленная любовью к родине и верой в победу, готовая защищать приобретения революции против всего света. Майор Массенбах сказал, глотая горечь поражения и предвидя впереди худшее: «Мы не только проиграли сражение; 20 сентября изменило ход истории. Эта самый важный день столетия». А вечером у бивуака великий Гете, мнения которого спрашивали офицеры, произнес знаменитую фразу: «Сегодня в этом месте начинается новая эпоха в истории и вы можете говорить: я был при этом». Несколько дней спустя герцог Брауншвейгский вынужден был начать отступление.

Г-жа Ролан (портрет Heinsius)
Когда известие о Вальми пришло в Париж, Законодательное собрание уже окончило свое существование. Конвент собрался 20 сентября и взял в свои руки управление судьбами Франции. Ему суждено было потрясать мир.
После 10 августа руководители французской внешней политики всеми силами старались показать Европе, что ничего особенного, собственно говоря, не произошло, что низложение короля не должно менять отношений между Францией и державами, которые еще не воевали с ней. Конвент очень недолго стоял на этой точке зрения. Его политика была смелее и последовательнее. Громы канонады под Вальми вдохнули в него уверенность. 23 октября пруссаки очистили французскую территорию, а двумя днями раньше Кюстин занял Майнц. События, сопровождавшие оккупацию левого берега Рейна, были такого свойства, что Конвент мог с верою смотреть в лицо грядущему. Казалось, оправдывались все самые безбрежные надежды жирондистов на то, что вооруженная пропаганда будет для Франции сплошным триумфом. Девиз «guerre aux chateaux, paix aux chaumieres» принимался левобережной буржуазией с криками восторга. Ликования вызывал приказ Кюстина: «француз, сражающийся за свободу одной рукой, протягивает вам символ мира, a другой погружает свое оружие в грудь ваших притеснителей. Солдаты, защищающие рабство, одни падут под нашими ударами»… Пропаганда Форстера еще больше, чем французское оружие, открывала путь революционным войскам. Две группы третьего сословия, французская и немецкая, находившиеся в одинаковых экономических условиях, страдающие от одних и тех же условий, протягивали друг другу руки. Немцы смотрели на французов не как на завоевателей, а как на освободителей. То же было в Савойе, где французское по крови население, порабощенное Пьемонтом, устраивало овации генералу Монтескью. «Поход моей армии был сплошным триумфом», доносил генерал. «Нам казалось, – писали комиссары Конвента, – что, перейдя границу, мы не покидали родины».

Барпав (из колл. В. М. Соболевского)
Конвент был опьянен этими первыми успехами. Даже Дантон, гениальнейший из политиков Конвента, дал увлечь себя идее вооруженной пропаганды, хотя он уже тогда предчувствовал, что реальные интересы государства станут в противоречие с революционным идеализмом. Большинство же Конвента целиком было насыщено этим идеализмом. Так, идея вооруженной пропаганды постепенно раскрылась в представление о необходимости завоевательной политики. Победа при Жемаппе, одержанная в ноябре, еще больше укрепила Конвент в его воинственных планах. Тем более, что действительная власть в собрании постепенно переходила к крайней левой, к Горе. Политики Горы отлично понимали, что для сохранения и усиления своего влияния они должны были показать Франции и Парижу, что республика укреплена бесповоротно только благодаря им. Для этого им было необходимо добиться казни короля. А казнь короля делала надолго невозможным мир с Европой. Чтобы добиться мира после казни короля, Европу нужно было вынудить к этому силою оружия. Это, в свою очередь, приводило к необходимости продолжать войну. Но внутренняя логика завоевательной политики требовала, чтобы завоеваниям был поставлен какой-нибудь реально достижимый предел. Ибо генералы рвались вперед. Монтескью говорил о занятии Пьемонта, Келлерман требовал похода в Рим. Конвент должен был решить, в какой мере можно благословить генералов на дальнейшую вооруженную пропаганду. И принцип был найден. В сочинениях Руссо, главным образом в Traite de la paix perpetuelle, отыскали учение о естественных границах. Его положил в основу своего доклада, читанного 27 ноября, бывший епископ Грегуар. «Франция, – говорилось там, – есть самодовлеющее целое, ибо природа отовсюду поставила ей границы, позволяющие не думать об увеличении». С этой точки зрения и обсуждался вопрос о присоединении Савойи. Область находилась по сю сторону Альпийского барьера, и Конвент решил внять голосу местного населения, просившего принять его в число французских граждан. И уже после того, как голова Людовика XVI скатилась с эшафота, после того, как начали оправдываться все мрачные предвидения противников казни, совсем накануне разрыва с Англией, идею естественных границ взялся защищать Дантон. Это было 31 янв. 1793 г. С обычным своим мастерством он дал ей такие формулы, что она сразу завоевала аудиторию и сделалась знаменем всей внешней политики республики на много лет. Правда, она очень быстро стала показывать всю свою пагубную сущность, и гений Дантона помог ему тогда разглядеть сделанную им тяжкую ошибку. Но было уже поздно.

Текст и музыка того времени

Кондорсе (Рис. Rocqueville)
Идеалистические порывы и гордые национальные лозунги должны были исказиться, и первое искажающее прикосновение было делом Камбона. Этот практик, бывший купец, еще 15 декабря 1792 г. представил Конвенту доклад. Указав на то, что у республики не хватить средств, чтобы вести филантропическую вооруженную пропаганду, он требовал, чтобы завоеванные земли были присоединены к Франции, чтобы имущество привилегированных было конфисковано в пользу республики. Это был естественный вывод, только логичный; это была дань голосу реальной политики, о котором Конвент до той поры склонен был забывать. И он сейчас же понял, что Камбон подает ему яблоко с древа познания. И когда Дантон произнес в Конвенте свою речь о естественных границах, участь Бельгии и левого берега Рейна была решена. Это означало войну с Англией, Голландией и Испанией. Конвент был готов на нее заранее. После речи Дантона война была объявлена двум первым, 7 марта – последней.
Но события пошли так, что, но крайней мере, наиболее дальновидные должны были освободиться от идеалистического тумана, окутывавшего их взоры. Экспедиция в Голландию кончилась плачевно. Бельгия восстала и ее пришлось очистить. Дюмурье изменил. Кюстин отступил из Майнца. В Вандее началось контрреволюционное движение. Ведение внешней политики оказывалось очень мало похожим на тот ряд триумфов, который рисовался жирондистам и вождям первых завоевательных походов: Кюстину, Монтескье. Чтобы справиться с выросшими вдруг затруднениями, требовалось не только мужество, но и самая напряженная работа. Тогда-то Конвент прибег к чрезвычайным мерам. 6 апреля создан был первый Комитет Общественного Блага, и душою его стал Дантон. Его государственный гений отчетливо различал главные задачи момента: победа над врагами во внешних делах, а внутри восстановление прочного порядка, обеспеченного конституцией. Но он уже понимал, наученный событиями в Бельгии и эпизодом с Дюмурье, что естественные границы – цель, поставленная неправильно. Завоевательная политика поведет к диктатуре армии, т. е. счастливого генерала. Дюмурье не удался поход на Париж; он легко может удасться другому. Война погубит республику. С другой стороны, народы, которых раньше республика только освобождала от ига тирании по рецепту Инара и Кондорсе, которых теперь она хочет порабощать и эксплуатировать по рецепту Камбона, восстанут против этой странной освободительной механики. Гений свободы, гений национальной независимости, осенявшие своими крыльями республиканские легионы под Вальми и Жемаппом, грозили отлететь в вражеский стан.

Шарлотта Кордэ (из колл. Соболевского)
Но реальная задача все-таки, была налицо: обеспечение безопасности и независимости Франции. Нужно было найти средства для ее разрешения. Война, – война завоевательная, с перспективою естественных границ, – казалось, грозила крушением и безопасности и независимости. Следовательно, нужно было искать мира. И искать не только на поле сражения, а и путем дипломатических переговоров. Таковы были выводы Дантона. Война при этом, конечно, не отрицалась. Но цель ей ставилась уже вполне реалистическая. Не идеалистическая революционная война, а просто война в интересах государственных, как в былые времена.
И если бы не неудачи, преследовавшие Францию с апреля по сентябрь 1793 г. на полях сражения у границ и в Вандее, – политика Дантона, единственно правильная, единственно обещавшая быстрое успокоение, быть может, и могла бы восторжествовать. Но поражения и анархия погубили Дантона. Все, что было обусловлено полной дезорганизацией, все, в чем действительность отплачивала за утопические увлечения, – все было поставлено в вину Дантону. Удар пришел слева. Наносил его вождь крайнего левого якобинства, Робеспьер, человек, которому был чужд благородный патриотизм Дантона, которому анархия была выгодна, ибо она помогала устраивать ему его партийные дела, которому война была нужна, чтобы на ней строить диктатуру, который был даже не фанатиком, а вульгарным честолюбцем, который готов был всю Францию принести в жертву своему трезвенному тщеславию. Исключение Дантона из Комитета и вступление в него Робеспьера (27 июня 1793 г.) было поворотным моментом. Новый Комитет Общественного Блага, весь составленный из друзей Робеспьера, поддерживал войну, чтобы оправдать свою диктатуру, организовал террор, чтобы под видом искоренения врагов республики разделаться со своими противниками. У Робеспьера не было никаких ясных идей относительно способов ведения внешней политики. Он знал только одно: что нужно продолжать войну, что война пьедестал для его диктатуры. Дантон помог ему отделаться от жирондистов, мешавших ему; теперь ему легче было избавиться и от него самого, последнего крупного противника. Поэтому все сношения с иностранными державами, начатые Дантоном, были круто оборваны. Войну решено было продолжать a outrance. И судьбе было угодно, чтобы плоды усилий Дантона, результаты организаторского гения Карно пошли на пользу той политики террора, которую проводил Робеспьер. В октябре счастье повернулось, наконец, снова лицом к французам: Журдан, Пишегрю, Гош очистили границу, Клебер и Марсо нанесли первый решительный удар вандейцам. Бонанарт взял Тулон. Все это было делом организации и боевого таланта этой блестящей плеяды генералов, подобной которой не видел свет. Террор не играл никакой роли в победах. Это всего лучше будет видно несколько позднее, когда Гош справедливостью и гуманностью достигнет в Вандее того, что оказалось не под силу «адским колоннам» Тюро, и Карье с его отвратительными ноаядами. В конце 1793 года победил внешнего и внутреннего врага гений молодой Франции, окрыленной патриотизмом, а не террор, который был гниющей болячкой на теле республики. Ибо в то время, как победу давало геройство, бескорыстие, благородство, в терроре торжествовали мелочная мстительность, зависть, бесстыдный карьеризм. Но в глазах общества террор оправдывался внешними и внутренними неудачами. Ведь казалось, что австрийские и прусские войска уже совсем готовы вновь наводнить Францию, что вандейцы, поддерживаемые неистощимой казной Англии и притоком людей из кадров эмиграции, вот-вот двинутся на Париж. И вставал трагический вопрос, – вопрос, который представлялся грозным не только с точки зрения политиканствующих якобинцев, а с точки зрения любого буржуа, любого крестьянина: что станется с социальным строем, созданным революцией. Его нужно было спасать какой угодно ценой. Этот мотив был понятен всем, ибо он касался интересов. Для всех священно было то оружие, которое поднималось на защиту новых экономических отношений. Якобинцы сумели сделать так, что этим оружием представлялась теперь гильотина. И люди благословляли гильотину. А когда дела пошли лучше на границах и в Вандее, якобинцам ничего не стоило создать между террором и благоприятным поворотом причинную связь. Поэтому Робеспьер никогда не пользовался таким сокрушающим, могуществом, как в последние месяцы 1793 и в первые 1794 года, когда опасность нового вторжения во Францию была устранена и миновал критический момент в Вандее. Дантон погиб 5 апреля.

Арест Робеспьера (27 июля 1797 г.)

Вооруженная республика
Но те же внешние дела, которые вознесли Робеспьера, готовили ему и кровавый конец. 18 мая Сугам и Макдональд побили австрийцев под Туркуаном, 26 июня Журдан разбил главные имперские силы при Флерюсе в решительном бою. Бельгия была завоевана вновь: Пишегрю прогнал англичан и 23 июля занял Антверпен. Пруссаки, подвинувшиеся к Триру, 10 августа вынуждены были отступить под Майнц. Прусский король, Испания, Голландия начали склоняться к миру.
Франция была спасена и с нею новый социальный порядок. Ничто не угрожало больше буржуазии и крестьянам, купившим земли из фонда национальных имуществ. И гильотина сразу стала не нужна. «Победы, как фурии, набросились на Робеспьера». Только теперь, благодаря победам, люди отрезвели от кровавого хмеля, и то, что казалось им раньше операцией, спасающей отечество, предстало в настоящем виде. Они увидели человека с отуманенным взглядом, одержимого паническим, уже не совсем нормальным, страхом, который, чтобы оградить себя от опасности, посылает на эшафот лучших людей Франции, лучших рыцарей революции. Одна за другой валились головы жирондистов, Дантона, Домулена, Вестермана, Кюстина. Очередь ждала Гоша, Ахилла революции, который спасся только чудом.
«Кровь Дантона душит его!» крикнули Робеспьеру, когда он вздумал защищаться в роковой день 9 термидора (27 июля). И это была правда. Ненужность вакханалии судебных убийств сделалась ясна сама собою после Флерюса. Робеспьер пошел на эшафот. Террор кончился. Но кошмар этого бесконечного периода казней не прошел даром для Франции. Он был причиной, что после Робеспьера правление попало в руки людей, ненавидевших революцию. Он дал наследие якобинцев в руки оппортунистов и карьеристов, которые даже не пытаются драпироваться в тогу фанатизма, которые цинично ищут средств самим удержаться у власти. В их среде не долго сумеют сохранить свое влияние даже такие люди, как Робер Ленде и Карно, «организатор победы» Мерлен (из Дуэ), Камбасерес, Сиэс, решившийся, наконец, вновь показать миру и человечеству свою драгоценную персону, и выдвигающийся понемногу из-за них Баррас, забывший свое якобинство, – вот их вожди.

Дюмурье
Дела внешние в их планах и расчетах должны были играть огромную роль. С падением Робеспьера дух республиканства в обществе не ослабел ни на йоту. То же чувство опасения за новый социальный строй, которое было главным моментом, сообщавшим революции ее устойчивость, говорило, что королевская власть – это реставрация старого, наплыв эмигрантов и отобрание национальных имуществ в пользу прежних владельцев. До другого способа ликвидации республики – с помощью удачливого генерала – додумались не сразу. Поэтому нация цепко держится за идею республики. Но она в то же время хочет мира, мира во что бы то ни стало, мира хотя бы в старых границах, чтобы отдохнуть от тревог и отдаться спокойной созидательной работе. Она хочет, наконец, такой конституции, под сенью которой Франция могла бы успокоиться от пережитых тревог и потрясений. В Конвенте вся Равнина стоит на этой точке зрения. Однако для термидорианцев, захвативших власть, мир в старых границах вовсе не является сколько-нибудь удобным выходом. Они, товарищи Дантона, покинувшие его, когда он вел борьбу на жизнь и смерть с Робеспьером, теперь вспоминают, что их вождь когда-то выдвинул лозунг естественных границ, и слышать не хотят о мире иначе, как в этих условиях. Ибо война требует энергичных людей во главе правительства, а они думают, что, кроме них, у Франции уже нет энергичных людей. И они продолжают войну, чтобы привести Францию к естественным границам. Тщетно трезвые и дальновидные люди предостерегают их против этой опасной игры, тщетно пробуют они уговаривать их ограничиться одной Бельгией по Маас, тщетно просят не трогать Голландию, чтобы не закрывать для Англии пути к искреннему миру, не трогать прусских владений на левом берегу, чтобы не давать Пруссии компенсаций на правом и не усиливать ее роли в Германии, тщетно умоляют не насиловать патриотизма присоединяемых, чтобы не национализировать войну и не делать ее бесконечной. Тщетно. Комитет стоял на своем. Мало того, его приверженцы клеймили монархистом всякого, кто решался высказываться за мир в старых границах или хотя бы с присоединением одной Бельгии. А в это время еще было не очень безопасно стать жертвою такого обвинения.
Комитету повезло. Пруссия, которую тяготила бесплодная и бесславная война на Рейне, не дававшая ей свободы действий на Висле, очень хотела заключить мир. В Базеле открылись переговоры с ее уполномоченными и 5 декабря после того, как в знаменательном заседании, решившем надолго судьбу Франции, Конвент высказался за естественные границы, Мерлен послал французскому уполномоченному инструкцию об условиях. Переговоры тянулись четыре месяца. Пруссия согласилась за известные компенсации уступить левый берег. 5 апреля 1795 г. Базельский мир был заключен. Комитет был вполне согласен с мнением одного из своих членов Дюбуа-Крансе, что настоящих врагов у Франции только два: Австрия и Англия, что с остальными державами нужно жить в мире. А так как ни Австрия, ни Англия естественных границ признавать не желали, то войну с ними оказывалось необходимо продолжать. Сиэс, когда он вступил в управление иностранными делами, попробовал несколько изменить отношение Франции к германским делам и высказался против радикального унижения Австрии. Но он не сумел сделать ничего для того, чтобы Конвент изменил свой взгляд на лозунг естественных границ. Этот лозунг, наоборот, укреплялся все больше и сделался таким же ярлыком неподдельного якобы республиканизма, как и вотум за смерть Людовика. От этого шансы на его признание Англией и Австрией, конечно, не сделались больше. Комитету удалось заключить мир с Голландией и Испанией и добиться нейтралитета северных немецких государств, но это мало помогало делу.
Чтобы заставить Австрию и особенно Англию согласиться на признание границами Франции Рейна, Альп и Пиренеев, особенно Рейна, нужно было принудить их силою оружия. Конвент, который завоевал левый берег, не мог соответствующими трактатами обеспечить Франции владение им. Он завещал эту задачу Директории, и Директория, а за нею Консульство и Империя напрягали все силы страны, чтобы добиться окончательного признания за Францией левого берега. Они шли к этой цели по всякому. Они окружали Францию цепью республик-дочерей (Батавская, Лигурийская, Цизальпийская, Гельветическая, Римская, Партенопейская). Они проникали в Египет и Сирию. Они устраивали Рейнский Союз. Но так как Англия ни разу не была побеждена, – ни один из мирных договоров не дал желанной прочной гарантии. Слишком нарушалось европейское равновесие осуществлением чаяний Конвента.







