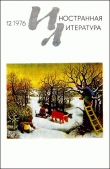Текст книги "Воображение и отображение"
Автор книги: Алексей Горшенин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
5
Не все как читателя греет меня в творчестве молодых сибирских фантастов. Но то, что не уходят они от сложных социальных, политических, морально-нравственных и даже философских проблем, безусловно, радует. Как радует и разнообразие подходов к их осмыслению и отображению. И вообще, как я заметил, серьезно работающие молодые авторы не только стремятся избежать наезженной колеи, но и небезуспешно испытывают себя в самых различных формах. Тот же, скажем, А. Бушков, уверенно чувствует себя в любом формальном облачении. А один из соавторов приключенческо-романтической повести "Пленники Черного Метеорита" И. Ткаченко, "отколовшись" от своего компаньона, обращается к философской притче. Впрочем, ее элементы проступают и в той совместной их с А. Бачило работе. Вспомним образ Черного Метеорита – странствующего отшельника Вселенной. Совершенно очевидно, что несет он в себе некое философское начало. И вот новая повесть И. Ткаченко – "Путники". Путники, Странники, Пилигримы... Одержимые страстью вечного движения (движение – абсолютно, всякий покой – относителен), без которого нет развития и продолжения жизни, они становятся-то подданными Дорог, вечного Пути, потому что лучше и острее других понимают это. Один из таких Путников, старик по имени Данда, приходит к вождю некогда могущественного, но сильно ослабленного междуусобицами племени Гунайху и предлагает увести его людей в края, где прекрасные условия для жизни и нет врагов – на землю обетованную. Так начинается одна из четырех взаимосвязанных глав-новелл, стилизованной под историческую легенду. Данда выполнил свое обещание, но Гуйнах не поверил, что сделал он это бескорыстно, без камня за пазухой. Он видит умысел, заговор и убивает Путника, хотя вся-то корысть Данды была в том, чтобы люди отбросили груз прошлых обид и ошибок, вражды и начали жить с чистого листа, заложив для будущих поколений добрую и справедливую, подлинно нравственную основу. Но совсем другие виды на жизнь на новой земле у вождя племени. "– Я назову эту землю Гуйнахорн – земля Гуйнаха! – говорил захмелевший вождь. – Построю в долине меж холмов город и обнесу его крепкими стенами! Я выставлю сторожевые посты в горах, и никто не пройдет в нашу землю незамеченным! – Зачем посты и стены! – возразил Балиа, брат вождя. – Здесь нет никого, кроме нас, все враги остались за морем... – Нет врагов? – рявкнул Гуйнах. – Враги всегда есть! ...Здесь наш дом и у этого дома должны быть крепкие стены". Две совершенно противоположные позиции. Одна – желание видеть свободу для всех. Другая – везде и всюду видеть врага, создавать его образ даже там, где его и быть не может. Позиции эти размежевали братьев. Но самое печальное – преследующий вождя тотальный образ врага не позволил ему и его народу жить по-новому. Земля была новая, первозданная, но существовать на ней Гуйнах собирался старыми способами. И заложил он здесь не только крепостные стены и сторожевые посты, но и нечто гораздо большее – основу будущей государственности, идеологии, будущий образ врага, на замкнутость и самоизоляцию, на всеобщую подозрительность и нетерпимость к инакомыслию. В следующей, главе повести как раз и рассказывается о том, каким же стало общество, основы которого заложил Гуйнах. А превратилось оно в серую, раболепно-послушную, но и агрессивную в верноподданическом запале по отношению к инакомыслящим массу. Читая повесть "Путники", можно искать и находить параллели с конкретными историческими реалиями, но, полагаю, для автора само по себе то или иное сходство было все же второстепенной задачей. Важнее донести до читателя актуальную для любой эпохи, любого народа мысль о губительности жесткого (тем более заведомо тенденциозного, искажающего объективную реальность) идеологического излучения. В душе героя второй главы-новеллы Джурсена, например, оно рождает моральную и нравственную раздвоенность. Ощущая глубоко в себе тягу в свободе, внутреннюю готовность вырваться за кордон Запретных гор, Джурсен тем не менее и в силу своего общественного, идеологического воспитания, и по сути будущей профессии – отыскивать и карать "отступников" способствует искоренению духа свободолюбия. Но уже здесь, во второй главе повести автор показывает, что в недрах послушно-лояльной массы начинает тлеть и разгораться уголек свободы. А в третьей новелле мы становимся свидетелями того, как прорывается, наконец, искусственно созданная государственная сфера. Знаменателен финал повести. Лейтенант брошенной в панике властями заставы, охраняющий один из выходов из страны, решается взорвать отгораживающую от внешнего мира каменную стену. Подготавливая взрыв, он вдруг встречает неизвестно как здесь оказавшегося глухонемого мальчика. Лейтенант взорвал стену, но и сам был убит шальной пулей из толпы. А толпа стояла у взорванной стены, "но ни один не находил в себе силы сделать шаг вперед". Сделал его... глухонемой мальчик. И повел за собой людей... "Он был глух и не слышал лживых истин. Он был мал и не успел совершить ошибок. Он был бос, чтобы чувствовать землю под ногами. Одежда его была цвета неба над головой; волосы цвета песка в пустыне, совесть чиста и душа исполнена любви к людям, которых он пришел спасти. И люди сняли обувь, чтобы почувствовать землю под ногами, и пошли за ним, чтобы жить там, куда он их приведет, и ждать, когда отверзнутся уста его, и он скажет Истину. Лучшие из них стали его учениками и доносили до людей его волю и карали ослушавшихся. И будет так во веки веков". Я привел четвертую, заключительную главу повести целиком. По форме это цитата из некоего мифического "Откровения Пустынника". Такого же рода отрывки из "святых книг" предваряют и вторую главу. Для чего же понадобились автору эти, под "священное писание", стилизации религиозных текстов? Для пущей оригинальности? Вовсе нет. Мне кажется, что, давая, условно говоря, действительную канву событий и противопоставляя ей легендарно-религиозную, тенденциозно-идеологическую ее интерпретацию, И. Ткаченко показывает механизм рождения религиозных символов, легенд, толкований, с помощью которых в угоду власть имущим, их политическим и идеологическим догмам искажается подлинная история. "Откровение", заключающее повесть "Путники", вызывает и такой вопрос. Почему толпа увидела именно в глухонемом, случайно оказавшемся здесь мальчике божье знамение, нового пророка, и пошла за ним? С одной стороны недоразумение, стечение обстоятельств: ни о чем не подозревающий ребенок, ничтоже сумняшеся, бестрепетно перешагивает пролом в стене, своим поступком как бы расколдовывая, выводя, из оцепенения толпу, не решающуюся преступить рухнувшее табу. А с другой – та же самая толпа, мечтающая вырваться за пределы старого мира, к осмысленному, целенаправленному движению в запредельном пространстве попросту не готова. Любой толщины и крепости стену сломать легче, нежели самостоятельно и осознанно уйти от идеологических и психологических стереотипов. Массовое сознание, наверное, потому и массовое, что заранее готово отдать себя во власть кумира. Вот почему с такой охотой и надеждой толпа, задавленная рабской привычкой быть послушно ведомой, ждет своего лидера, мессию. И готова увидеть его в ком угодно, лишь бы созвучен он оказался в нужный момент ее настроениям, ее нехитрым представлениям о благе и мечтам, лишь бы взял на себя смелость начать желанное движение из опостылевшего замкнутого кольца.
Но и это, новое движение, не ставшее свободным и самостоятельным, не обретшее качественно иной концепции бытия, так и остается по существу движением по кругу, по более, может быть, широкому и просторному, но кругу, о чем как раз и свидетельствуют последние строки "Откровения". Ведь и нового своего поводыря толпа, перешагнувшая пролом в стене, быстренько канонизировала, возвела в ранг святых, снабдив его подобающим житием, вложив в его уста необходимые догмы и "истины". И вот уже наиболее ретивые "доносили до людей его волю и (обратим особое внимание на эти слова – А. Г.) карали ослушников". Итак, все возвращается на круги своя, хотя, вероятно, Гуйнах, убивая Данду, и не подозревал, что пресекал смертью этой свободное развитие своего народа и обрекал его на замкнутую эволюцию с неизбежным духовным вырождением в итоге. Но ведь и народ, – невольно думаешь, читая повесть И. Ткаченко, – не должен жить с одной лишь волей божьей, иначе "воля" эта обернется для него ярмом. С помощью И. Ткаченко "Путники" во многом перекликается прозаический цикл красноярского фантаста Евгения Сыча – "Знаки", "Соло", "Трио", который так же характерен притчевой емкостью и многозначительностью, философской наполненностью. Действие его произведений тоже отнесено в некое условное историческое прошлое. Герой рассказа "Знаки" Анаута изобрел письменность, что сулит народу и государству неисчислимые выгоды, предопределяет качественно новый, гораздо более высокий уровень развития. Однако правители страны думают по-иному: они усмотрели в открытии алфавита ересь, угрозу подрыва государственных устоев, и суд инквизиции приговорил ученого к сожжению на костре. "В своей гордыне решил ты, что сын Бога (Верховный правитель – А. Г) был глупее тебя, раз не дал этих знаков-букв, столь способных, по твоему разумению, облагодетельствовать человечество. Ты кощунствуешь, твои измышления кощунственны в самой основе",– внушают инквизиторы Амауте, полагая, что уже само то, что ценная идея исходит не от "отца народа", всевидящего, всепонимающего, а от простого смертного, – преступно. Да и сама идея, поскольку она не выдвинута "отцом народов", ложна, антиобщественна и не имеет права на жизнь. Впрочем, намеренный отказ от прогрессивной идеи не есть в данном случае следствие тупости и беспросветного невежества Верховного правителя и его окружения. Скорее это тонко рассчитанный политический ход, что подтверждается в рассказе "Знаки" беседой по этому поводу "двух солнц" страны инков – племянника и дяди – Инки, Верховного правителя, "отца народов", и Верховного жреца, главного идеолога государства. Оказывается, сам Инка ничего крамольного в письменности не видит. Исключительно опасной считает ее Верховный жрец, потому что он и правящая верхушка с письменностью, когда "любой человек в состоянии овладеть значением букв", теряет монополию на информацию – важнейший инструмент воздействия на массы. Выясняется, что Амаута – не первый, кто придумал алфавит. Еще несколько веков до него письменность уже зарождалась, но была запрещена основателем царской династии инков. И Верховный жрец, напоминая об этом правителю, уверен, что такой запрет необходим, "иначе мы выпустим знание из стен правительственного дворца, и тогда его не сдержат никакие границы". А это ведет к тому, что "если сегодня народ слышит правду только от наших глашатаев, воспринимает ее на слух и принимает к сведению даже не очень размышляя о ней, – все равно мысли скоро забываются и особого значения не имеют, – то узнав письменность, они смогут фиксировать информацию, обмениваться ею... Устная история, хранителем которой сейчас являются наши жрецы, отсеивает все лишнее, отделяет зерна от плевел и уже в таком виде передает следующему поколению. Мы бережем чистоту истории и ее соответствие авторитету династии. Прямо – должны быть уверены, что народ пользуется только этим, чистым знанием, а никаким иным. Лояльность обеспечивается всеобщей и полной ликвидацией всякого самопроизвольного знания, всякой незапрограммированной мысли". Как это все знакомо нам по собственной, а не мифической, не фантастической истории нашей страны! Впрочем, монополия на знания и информацию, их жестокое дозирование и регулирование в соответствии с правящим курсом, всегда были характерным признаком любого тоталитарного режима, теми крепкими политическими вожжами, с помощью которых можно было управлять историческим процессом, подправляя, сглаживая, рафинируя его. И важнейший этот признак Е. Сычу удалось почувствовать и передать в своем рассказе. Но все это, так сказать, высший трагедийный слой в рассказе "Знаки". Автор же дает нам художественный срез трех уровней трагедии личности, не совпавшей с общественно-политической системой. В трагедии этой задействованы, помимо властной верхушки, народ, масса, а также некий средний слой, олицетворяемый в "Знаках" фигурой лейтенанта, приставленного охранять место сожжения Амауты. Если народ в рассказе можно уподобить той легендарной старушке, которая не по злобе, а по дремучему невежеству подбросила полешек в костер Галлилея, то готовый на все ради карьеры лейтенант представляет собой не менее мрачную и грозную в своем черносотенном мракобесии силу, нежели жрецы. Лейтенант прекрасно осознает, что для его сословия, в отличие от народа, письменность вовсе не благо, так как овладев знаниями, ему составили бы жесткую конкуренцию те, кто пришел бы в армию по призванию, а не получал, как он, чины и звания по наследству. Так что для него Амаута – враг даже более конкретный, более личный, нежели для высших кругов. И не случайно лейтенант решается на отчаянный шаг – становится десятым в команде поджигателей (по закону костер должны одновременно со всех сторон запалить сразу десять добровольцев. Даже если не хватает одного, казнь отменяется). Смущают в рассказе Е. Сыча опять-таки некоторые языковые издержки. Перенеся действие в глубь веков, автор иной раз заставляет изъясняться своих героев совершенно современным штилем. Так, "два солнца" беседуют, словно это нынешние члены Политбюро ЦК КПСС, а средневековый ученый Амаута говорит, например, лейтенанту: "Зря, что ли, тебя двадцать лет калорийно кормили и квалифицированно учили". Подобного рода осовременивание языка вызывает определенное недоверие. Правда, есть у автора довольно веское смягчающее обстоятельство – он не настаивает на какой-то конкретной исторической эпохе: "... я даже не знаю, что это за время, где его начало и конец. Возможно, что оно даже и не существовало вовсе, либо – но это только предположение! – что оно бесконечно". Данное признание есть не только попытка оправдания исторической неконкретности рассказа, но и подтверждение тою главного художественно-философского вывода, который без труда просматривается в произведении, торможение общественного прогресса в угоду политическим или религиозно-идеологическим мотивам – увы, не исключение и может при определенном стечении обстоятельств возникнуть в любое время, в любую историческую фазу. В повести "Соло": Е. Сыч предлагает несколько иной вариант существования личности – когда перестают действовать привычные, четко регламентирующие жизнь общественные законы, когда человек попадает как бы за пределы общепринятой морали и остается один на один с собой и особыми обстоятельствами существования. И тогда может оказаться, что прямая дорога к цели (свободе ли, к успеху) далеко не самая короткая, если идет она через нравственное падение, если в пути теряется в человеке человеческое. Высокопоставленный чиновник империи инков (а историко-фантастические декорации здесь, в принципе, те же, что и в предыдущей повести Е. Сыча) по имени Рока за участие в политическом заговоре подвергается жестокому наказанию – сбрасывается в каменный колодец-пропасть, по дну которого течет горный поток. Рока, благодарение судьбе, удачно минует при падении камни, попадает в поток, выплывает на голый островок. Он питается моллюсками из потока, но. в сущности, обречен. Есть, правда, выход в виде конца свисающего с вершины скалы каната, но он высоко, чтобы допрыгнуть до него, нужны немалые силы, а это немыслимо при скудном питании. Но вот, спасшись подобно Роке, появляется на островке плебей Чампи. Разные они совершенно люди. Один – умный, образованный, можно сказать, интеллигентный. Другой – "крохотной вороньей душой, полной ненависти", лишенный каких бы то ни было моральных принципов. Чампи мог "нарушить закон уже потому, что его на миг возвысило бы в собственных глазах, дало ощущение превосходства над остальными. Рока этого не понимал. У него самого никогда таких побуждений не было, и если существовали законы, которые его не устраивали, то он лично предпочел бы не нарушать их, а добиваться изменения в самих законах". Но судьба свела их вместе, более того, поставила в жесточайшие условия выживания. И что же? При внешней несовместимости не так-то и далеко оказались они друг от друга. Добропорядочный Рока сначала закрывает глаза на то, что Чампи убивает еще одного, спасшегося от казни, несчастного, а потом – о, ужас! – соглашается и съесть его на пару с Чампи. И не от страха перед последним. Просто внутренне он уже готов к этому. Е. Сыч верно подмечает, что "в подавляющем большинстве случаев выполнение приказа означает, что исполнитель – пусть непроизвольно, пусть неосознанно, инстинктивно, подкоркой, нет, даже не подкоркой, а самыми тайными ее уголками – был согласен с приказом". Отсутствие прочного нравственного стержня и душевная аморфность приводят к тому, что оказавшись за пределами "лабиринта порядка", направлявшего его в нужную сторону, да еще в ситуации выбора между жизнью и смертью, неволей и свободой. Рока на наших глазах становится перевертышем. Хотя... может быть, просто самим собой настоящим, лишенным всяких вуалирующих наслоений. Не в пример, если вспомнить "Знаки" несгибаемому, неподвластному инквизиторскому огню Амауте, оказавшемуся в не менее трагическим положении. Приняв из инстинкта самосохранения мораль Чампи. Рока постепенно входит во вкус убийства и каннибальства (кстати, в конце концов убивает и своего напарника), и вот наступает день, когда окрепнув, набравшись сил на людоедском промысле, он смог допрыгнуть до каната и выбраться по нему из пропасти. Как желанная награда, венец помыслов, на вершине его ожидают ему теперь принадлежащие носилки Верховного жреца и свита. Вершина власти и успеха у его ног. Но прочна ли власть? Рока долго не размышляет, как сие испытать. Он приказывает одному из слуг убить другого. Приказ незамедлительно исполнен, и Рока чувствует громадное облегчение, а нам совершенно очевидным становится, каким будет дальнейший путь новоиспеченного жреца, что будет проповедовать он своей пастве. Убийство, каннибальство стало .его способом существования, его моралью и нравственностью. Вспоминается известный рассказ О. Генри "Дороги, которые мы выбираем". В сущности, и в нем о том же: предательство, кровь друзей и близких, насилие ради достижения цели, попрание человеческого в человеке – вот зачастую какой ценой становятся "сильными мира сего". Уже своими средствами Е. Сыч продолжил и развил эту, наверное, всегда актуальную тему. И небезуспешно.
Из всего цикла Е. Сыча повесть "Трио", пожалуй, наиболее аллегорична и мифологична. К тому же и особо затейлива по своему стилистическому и композиционному рисунку. Сюжет повести скачет, дробится на отдельные мифологизированные истории-эпизоды либо иллюстрации к высказываниям и сентенциям персонажей. А порой и автор собственной персоной вклинивается в художественную плоть, переключая ее на себя, свои личные ассоциации (например, начало главы "Бред"), еще более усложняя восприятие и без того непростого в силу аллегорическо-философского подтекста произведения. Из всех трех повестей цикла "Трио" еще и самая у Е. Сыча экспериментаторская. Но экспериментаторство здесь не самоцельно, не просто способ самовыражения. Автор пытается отыскать все новые формы и средства, чтобы привлечь читательское внимание к важной для него мысли о вневременности и всеобщности краеугольных проблем человеческого бытия: добра и зла, любви и счастья, пастырях и паствы. Проблемы эти в повести "Трио" возникают не из искр каких-то конфликтов (в традиционном понимании конфликтов здесь вообще нет), не на крутых сюжетных поворотах, а, как Ева из ребра Адама, из существа самих персонажей, которые представляют собой некие аллегорические фигуры, несущие в себе как философский, социальный, так и нравственный смысл. Главные действующие лица повести "Трио" – непобедимый когда-то воин, а теперь бессмертный отшельник У, его сын Я – возмутитель спокойствия, старый знакомый. У – Пастырь, скитающийся по дорогам и проповедующий добро и мир. При первом знакомстве с ним. наверное, могут возникнуть некоторые прямолинейные ассоциации. Ну, скажем, если У занимается самобичеванием, осоложась в процессе побоев, то, значит, он символизирует битый-перебитый, но только крепнущий от этого русский народ, или непротивление злу. Пастырь может быть воспринят как Христос. Но я бы не спешил с такого рода параллелями. Е. Сыч не так прост. Его персонажи многозначительны, а его собственное отношение к ним как носителям определенных идей, символов, линий поведения тоже достаточно сложно, о чем говорит– хотя бы та ирония, которая сопровождает описание их жизни, их деяния, ирония, заставляющая сомневаться в избранном ими способе существования, а заодно и в эффективности моральных заповедей, если преподносятся они в чистом виде без учета реалий раздираемой противоречиями обыденной жизни. "– О, люди! – сказал на это Пастырь. – Учу их, учу – и все без толку. Хоть бы отзвук какой был! Многие лета прихожу я к ним и занимаюсь как с детьми малыми, и они каждый раз сопротивляются, ругают, казнят. Но, в конце концов, вижу – уверовали. Тогда я оставляю их и отправляюсь в другие края, нести истину, и там та же картина. Опять предстоят мне долгие труды, пока убеждаюсь, что и эти уверовали. Но грустно мое возвращение, потому что заранее знаю я: все, чему учил, уже забыто, все извращено. Одни и те же заповеди повторяю я, но каждый раз из учения выхватывают какие-то мелочи, и видно, что в них тоже запутались..." Как видим, если это и Христос, то отнюдь не библейский. Да и не стремится автор к сходству. Речь, несмотря на иронические покрывала, о трудном пути добра, о драме непонимания, подмене и смешении добра и зла. Отшельничество У тоже трагикомично. Парадокс в том, что, удалившись от людей, У без их участия в его жизни не в состоянии просуществовать (от местных крестьян получает он пищу, на большую дорогу спускается он, чтобы получить очередную порцию живительных для него побоев). Колоритен и, кстати, очень современен, очень узнаваем сын У – Я. Он из тех, кто умеет накалить обстановку. И опять, как видим, возникает разговор о власти – разговор, который не обошли в своих произведениях ни А. Шалин, ни А. Бушков, ни А. Бачило с И. Ткаченко, ни, наконец, сам Е. Сыч, заведя его в рассказе "Знаки", и, уже на новом уровне осмысления, продолжая в повести "Трио". Если в предыдущих вещах цикла Е. Сыч касается отдельных граней проблемы, то здесь возникает нечто вроде общей концепции государственной власти (не демократической, разумеется), а также образ-метафора, образ-символ сцементированного этой властью государства и его исторического пути. "Властвовать, значит, притеснять. Не убивать подряд, не награждать огульно, а притеснять, чтобы тесно было человеку со всех сторон, кроме одной. И чтобы двигаться человек мог только в одном направлении заданном", – вот смысл такой власти. То есть опять-таки строго направленное твердой рукой очередного вожака-лидера, политического пастыря движение. Отсюда и возникающий в последней главе повести образ. У и Пастырь ведут Я на гору, чтобы с высоты ее вершины показать неразумному экстремисту человечество. Их взору предстает нескончаемая, неостановимо куда-то идущая людская колонна. Присмотревшись, они видят, что авангард колонны догоняет арьергард, наступает задним на пятки, не узнавая, топчет. зазевавшихся. Все идут плотными сомкнутыми рядами, боясь ступить с колеи в сторону, поскольку вне строя, вне колеи человеку "существу общественному" – нельзя. Впереди колонны – лидер. Он движется... спиной вперед. Но это, оказывается, не странная прихоть, а суровая необходимость. "Оглядываться лидеру никак нельзя: к тем, кто пробился в первую шеренгу колонны, поворачиваться спиной не рекомендуется, они ведь и выделились именно благодаря умению бить в спину". Есть опасность и самому споткнуться упасть, быть растоптанным, но уж тут все зависит от ловкости лидера. "Находились такие лидеры, которые умели угадывать путь, и всю жизнь так и шли во главе колонны, и умирали на боевом посту спиной вперед. Но для этого необходимо, чтобы колонна двигалась медленно... И потому злейший враг любого лидера тот, кто движется быстрее остальных (как, например, Амаута из рассказа "Знаки" – А. Г). Таких шустрых стремятся немедленно устранить... Первые ряды хорошо усвоили, что если слишком быстро идти вперед, под откос вслед за лидером полетят прежде всего – они, им не удержаться под напором движущейся массы. Они тормозят, хотя и их, конечно, влечет вперед открывающийся из-за спины лидера простор... Так и идет колонна. Вперед – для всех. Назад – для лидера. По кругу – если сверху". Аллегория, полагаю, вполне ясна. С одной стороны, народ, которого несбыточными посулами счастливой жизни, как осла морковкой, лидеры увлекают за собой, а с другой – сами эти лидеры, которые вовсе не прогрессом, не благом народным озабочены, а собственным благополучием, тем, чтобы подольше удержаться у власти. Все это вместе "сверху" исторически – и образует бесконечную круговую замкнутость... Ту самую замкнутость, которую в повести "Путники" по-своему выразил И. Ткаченко. Нельзя не упомянуть еще об одной важной в идейно-художественном плане повести "Трио" аллегории, связанной с проходящей через все повествование легендой-мифом о Драконе. Собственно, и не об этом даже, а о нескольких Драконах, каждый из которых соответствует той или иной эпохи, его взрастившей, и с каждым из которых человек в разное время по-разному боролся. Одного побеждал герой-рыцарь, другого по совету мудрого правителя задабривали жертвоприношениями в лице ослушавшихся граждан, третьего "усмиряют формулой". Но все это временно. Уничтожить же навсегда никто никогда Дракона не мог. Он просто притаивается. впадает в летаргическую спячку до лучших времен, чтобы при наступлении благоприятных условий возродиться, восстать из пепла, ибо Дракон этот олицетворяет Зло мира, которое на какое-то время можно нейтрализовать, усмирить, найти компромисс, но с которым всегда надо быть бдительным и не жалеть сил, чтобы в очередной раз Дракон Зла, Дракон Жестокости и Насилия не вырвался на свободу, не наделал бы бед. С той целью, думаю, и поведал автор эту легенду. И, надо сказать, очень своевременное предупреждение всем нам, живущим в мире современного многоликого зла! "...Но воссияло все, что могло воссиять. И колонна сошла с круга и двинулась по спирали, поднимаясь с каждым витком все выше. Все ближе к вершине, где много простора и света. Где холодно и нечем дышать". Так, вроде бы оптимистически заканчивается повесть "Трио". Но советую обратить внимание на эту, портящую все благолепие, оговорку – "Где холодно и нечем дышать". Она, на мой взгляд, не случайна. Теоретически-абстрактные идеалы счастливого будущего, конечно, светлы и чисты, но и отстраненно-холодны в надмирно-недостижимой своей перспективе. Да и так ли они нужны не некоей идущей "правильным" курсом массе, а конкретному живому человеку, жаждущему хлеба, тепла и добра? Потому, верно, и спешит напомнить автор о ледяном холоде и разреженной атмосфере оторванных от живой человеческой жизни разного, рода религиозных и идеологических догматов... Впрочем, я высказываю свою точку зрения, а все, может быть, вовсе не так. И в том не будет ничего удивительного, поскольку проза Е. Сыча сама провоцирует на неоднозначное ее прочтение, вызывает на дискуссию. Она заставляет напряженно размышлять над нею, увлекает не столько коллизиями, фабулой, сколько сюжетом мысли и тем, главным образом, интересна, тем и отличима.
6
... Мои заметки разрастаются, как снежный ком, а я еще не успел поговорить о популярной у молодых фантастической сказке и некоторых других разновидностях фантастики освоенных ими, о нередко возникающей в их произведениях теме экологии; не вспомнил таких, например, интересных авторов, как В. Клименко, Л. Кудрявцев, В. Карпов, чей голос тоже уже хорошо различим в общем хоре. Жаль, конечно. Материала, пищи для разговора больше, чем достаточно. Но, с другой стороны, я и не претендую на какой-то законченный всеобъемлющий обзор, в котором выделены все акценты и выставлены все оценки. Пока это лишь первые, возможно, беглые впечатления, предварительные наблюдения. Не всегда, вероятно, и точные, в чем-то, видимо, спорные. Да ведь и окончательные выводы делать рано. Молодая, в том числе и сибирская, фантастика еще на влете, еще, расправляя крылья, набирает высоту. И серьезный разговор о ней, я думаю, только начинается.
1 См. сб. "Миров двух между". М.: Молодая гвардия, 1988, с. 274.