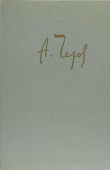Текст книги "Комик"
Автор книги: Алексей Писемский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
IV
ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Дня через два Дилетаев разослал ко всем роли; но, кроме того, он заехал к каждому из действующих лиц и сделал им, сообразуясь с характером, наставления и убеждения.
Осип Касьяныч, получив роль, пришел в совершенный азарт; он бросил ее на пол и начал топтать ногами, произведя при этом случае такой шум, что проживавшая с ним сестра подумала, бог знает что случилось, и в большом испуге прибежала к нему.
– Батюшка, Осип Касьяныч! Что это такое с вами? – спросила она.
– Черт, дьявол, бес плешивый! – кричал судья, толкая пинками роль. Ишь как вздумал дурачить людей!
– Голубчик, братец, расскажите, что такое случилось?
– Вам еще что надобно от меня? Ступайте к себе. Ну что вам надобно? Лучше бы рожу умыли, – проговорил он, обращаясь к сестре, и, совершенно расстроенный, уехал к откупщику, где играл целый день в карты и сверх обыкновения проиграл пятьсот рублей, бледнея и теряясь каждый раз, когда его спрашивали, какую он будет играть роль. После такого рода неприятностей почтенный судья о театре, конечно, забыл и думать, а пустился в закавказский преферанс и выиграл тьму денег, ограничась в отношении своей роли только тем, что, когда при его глазах лакей, метя комнату, задел щеткой тетрадку и хотел было ее вымести вместе с прочею дрянью, он сказал: "Не тронь этого, пусть тут валяется", – но тем и кончилось.
Гораздо добросовестнее исполнял поручение Дилетаева Юлий Карлыч. Несмотря на то, что жене его сделалось в тот день еще хуже, что около него шумел и кричал целый пяток различного возраста детей, он тотчас же начал учить роль; но, к несчастию, память совсем отказывалась. Пробившись без всякого успеха часа три, Вейсбор решился ехать за советом к учителю истории в уездном училище, который, по общей молве, отличался необыкновенною памятью и который действительно дал ему несколько спасительных советов: он предложил заучивать вечером, но не поутру, потому что по утрам разум скоро воспринимает, но скоро и утрачивает; в местах, которые не запоминаются, советовал замечать некоторые, соседственные им, видимые признаки, так, например: пятнышко чернильное, черточку, а если ничего этакого не было, так можно и нарочно делать, то есть мазнуть по бумаге пальцем, капнуть салом и тому подобное, доказывая достоинство этого способа тем, что посредством его он выучил со всею хронологиею историю Карамзина. По его словам, метода самого Ланкастера[9]9
...метода самого Ланкастера. – Имеется в виду система взаимного обучения, введенная английским педагогом Дж. Ланкастером (1778-1838), по которой сильные ученики в качестве помощников преподавателя обучали более слабых.
[Закрыть] противу изобретенной им методы никуда не годится. Способ действительно, надо полагать, был хорош. Дня через два, после тщательного упражнения, Юлий Карлыч знал уже четыре явления очень порядочно.
Немалого Аполлосу Михайлычу стоило труда уговорить и Дарью Ивановну принять на себя роль тетки в "Женитьбе". Несмотря на то, что эта роль была очень маленькая, молодая дама решительно отказывалась, говоря по-прежнему, что она расхохочется на первом слове; но Аполлос Михайлыч уверял, что если она только выйдет на сцену и постоит, так и то будет прелестно.
Трагика тоже было трудно уломать взять роль Кочкарева. Алоллос Михайлыч употребил для этого лесть, говоря, что Никону Семенычу всякая роль по плечу и что он из грязи сделает брильянт. Тот, наконец, согласился и, пробегая роль, восклицал: "Этакая гадость, сальность! Что-то такое мужицкое, бурлацкое" – и снова начал отказываться, но Дилетаев снова польстил, и трагик окончательно согласился и очень скоро выучил роль, хотя и была она ему не по сердцу. Про "Братьев-разбойников" и говорить нечего, – он эту поэму почти всю сам пересоздал и все это время походил совершенно на сумасшедшего человека: никого не принимал, никуда не ездил, а все занимался по этому предмету и в конце недели уже прислал Фани роль Елены – любовницы, совсем отделанную и переписанную. Фанечка тоже действовала от души. Роль гризетки она уже знала превосходно наизусть. Роль невесты выучила в два дня и, наконец, хотя и не с большим желанием, принялась за роль Елены. Качучу она уже танцевала очень мило.
В племяннике своем Дилетаев встретил опять большое затруднение: Мишель никак не хотел играть и даже нагрубил ему в такой мере, что он принужден был выгнать его из дому и решился было написать записку к аптекарю и просить того, несмотря на картавый выговор и совершенное незнание русского языка, сыграть Анучкина; но, впрочем, молодой человек, сходив к Дарье Ивановне, опомнился: взял роль и начал ее изучать вместе с нею. Не знаю, действительно ли они учили свои роли, но только говорили беспрестанно и даже устроили какую-то странную между собой игру: "Перестаньте, Мишель, я уйду", говорила вдруг Дарья Ивановна и уходила в темный коридор, но Мишель следовал за ней и в коридор. "Ну, так я в мезонин", – говорила она. Мишель шел за ней и в мезонин. "Ну, будет... довольно... я хочу сидеть в гостиной", – говорила Дарья Ивановна и шла в гостиную. Мишель тоже следовал за нею.
Что касается до комика, то предчувствие Анны Сидоровны, что театр опять собьет его с панталыку, отчасти начало оправдываться. В тот же день он не пошел в контору, а ушел во вторую комнату, затворил дверь, заставил ее комодом и принялся что-то бормотать. Не осушая глаз, бедная женщина готовила в этот день кушанье; но есть ничего не могла. Браниться и говорить мужу тоже не хотела: она по опыту знала, что от этого не будет никакой пользы. Вечером она отправилась ко всенощной и со слезами молилась, чтобы отвратился ее Витя от этой, словно с ветра напущенной на него, блажи.
Когда она пришла домой, Рымов вышел уже из своей засады. Ему, видно, стало жаль жены, и он хотел было вразумить ее, но тщетно: она заткнула себе уши и не хотела ничего слушать. Комик рассердился и по-прежнему лег на диван. На этот раз Анна Сидоровна не звала уже его к себе, и, таким образом, должен с грустию я сказать, что после пятилетней спокойной жизни супруги снова провели всю ночь на одиноких ложах, как это и часто случалось, когда Виктор Павлыч был в труппе. На другой день Рымов, впрочем, пошел в контору. Анна Сидоровна решилась без него употребить последнее средство: она подсмотрела, куда муж спрятал свою тетрадку, нашла ее, изорвала на мелкие кусочки и сожгла. Пришед домой, комик сейчас же хватился своей роли, но не нашел и, вероятно, догадался о постигшей ее участи; но это для него ничего не значило: он тотчас же написал всю роль на память и, как бы в досаду, показал ее Анне Сидоровне; но та уже и отвечать ничего не могла, а только вздохнула и, чтобы отплатить неверному, ушла на целый вечер к одной соседке и там, насколько доставало у ней силы, играла равнодушно в свои козыри; но, возвратясь домой, опять впала в тоску и легла. Несмотря на все эти отчаянные поступки жены, Рымов, кажется, решился поставить на своем и не обращал никакого внимания на нее, что, конечно, еще более убивало Анну Сидоровну.
Семнадцатого февраля была назначена, по распоряжению Аполлоса Михайлыча, первая репетиция. Дилетаев, как человек строгий и опытный в театральном деле, настаивал, чтобы репетировали в костюмах, и весьма сожалел, что сцена, по многим местным неудобствам, не была еще окончательно готова. Перед началом репетиции Аполлос Михайлыч сидел в своем кабинете, погруженный в тихое раздумье: "Я и Фани будем отличны, – рассуждал он про себя, – Рагузов будет эффектен; Рымов одной своей физиономией насмешит всех; Матрена Матвевна будет тверда в своей роли; ну, а если прочие сыграют и посредственно, то все-таки спектакль сойдет хорошо. Главное, надобно, чтобы все позаботились о костюмах и твердо бы знали свои роли, а там уж музыкой и освещением можно будет пыль в глаза бросить".
Стулья в зале, в котором должна была происходить репетиция, еще с утра были расставлены в том порядке, как следует, то есть: часть их отделена для зрителей, а два кресла были поставлены на место, назначенное для сцены; выходить должны были из кабинета и из коридора. Действующие лица собрались в шесть часов. Аполлос Михайлыч, Матрена Матвевна и Фанечка пошли одеваться. Зрителями первой пиесы были: Рымов, Рагузов, Дарья Ивановна с Мишелем и Юлий Карлыч с судьей; последний был, заметно, в состоянии полного ожесточения и глядел совершенным медведем на всех и на все. Кроме этих зрителей, не было никого: несмотря на убедительные просьбы некоторых чиновников и помещиков посмотреть репетицию, Аполлос Михайлыч отказывал всем и каждому наотрез, имея в виду, что от этого потеряет много эффекту самый спектакль. Чрез час из коридора вышла Матрена Матвевна в напудренной прическе маркизы времен Людовика XIV и в бальном платье; вскоре за ней явился и виконт в бархатном кафтане, золотом камзоле, весь в кружевах, в парике, с маленькой шляпой, в белых коротеньких и узеньких брюках, в шелковых чулках и башмаках. В этом костюме Аполлосу Михайлычу никто бы не дал пятидесяти лет; но сверх того самые манеры его как будто бы изменились: он был жив, резв, вертляв и ловок – так, что своею особою невольно бросал весьма невыгодный оттенок на маркизу, которая, сравнительно с ним, далеко не выражала ловкой парижанки. Никон Семеныч, как знаток театра, заметил это с первого раза. Репетиция началась и продолжалась в полном порядке, и только Матрена Матвевна, несмотря на твердое и прилежное изучение роли, все еще сбивалась; в этом виноват был отчасти суфлер, в которые Аполлос Михайлыч выбрал своего управляющего, человека, хорошо читающего и очень аккуратного; но аккуратность-то эта именно и вредила тут. Матрена Матвевна, как мы уже знаем, говорила очень скоро и кой-что пропускала, а суфлер, никак не успевавший за нею следить, когда она останавливалась на конце фразы, не желая, по своей аккуратности, ничего пропускать, подсказывал ей проговоренный монолог, от чего и выходила путаница, которая до того рассердила Аполлоса Михайлыча, что он назвал суфлера дураком. Впрочем, явление с гризеткою выкупило все. Юлий Карлыч пришел в восторг, даже Рагузов похвалил; хлопали и Мишель с Дарьей Ивановной; но они, я полагаю, делали это с насмешкою. "Исправленный повеса", наконец, был прорепетирован. Матрена Матвевна просила Аполлоса Михайлыча еще поучить ее; он, конечно, обещался и тут же сделал замечание насчет туалета, говоря, что, хотя бальное платье ее прелестно, но несогласно с модою того времени, и обещался привезти ей рисунок, по которому она и должна будет сшить себе платье, вполне приличное маркизе.
За этой пиесой следовала "Женитьба"; но она вовсе не так была удачна, как первая. Сцены тетки с невестой и, наконец, со свахой были очень слабы. Дарья Ивановна, никак не хотевшая надеть настоящего костюма, только стояла на сцене, и когда суфлер обращался к ней, говоря: "Вам", она отвечала: "Скажи за меня, – я еще не выучила". Фани была лучше всех, хотя, конечно, походила более на барышню, нежели на купчиху; но по крайней мере она знала свою роль. Матрена Матвевна, успевшая уже переодеться, тоже знала свою роль, но и здесь у ней проявлялся прежний ее недостаток: она то говорила очень твердо, то останавливалась и, по неискусству суфлера, не могла уже скоро поправиться. Сцена женихов решительно никуда не годилась; судья и Мишель были без костюмов. Первый, вставая, объявил, что он еще и не учил своей роли, и потом стал, с трудом разбирая, читать ее по тетрадке таким тоном, каким обыкновенно читаются деловые бумаги. Мишель был несносен: он, подобно Дарье Ивановне, вздумал было заставлять суфлера читать за себя, но Аполлос Михайлыч вышел из терпения, крикнул на него и требовал, чтобы он непременно играл настоящим манером. Мишель, надувшись, начал читать, но без всякого одушевления. Юлий Карлыч, несмотря на все свое усердие, был тоже не совсем удовлетворителен, потому что он более старался, нежели играл. Аполлос Михайлыч качал головой, Рагузов тоже качал головой, но только с насмешкою. Рымов бледнел и краснел. Перед тем явлением, в котором Подколесин должен был выйти с Кочкаревым, комик подошел к Дилетаеву.
– Пиеса эта не может идти, Аполлос Михайлыч, – сказал он печальным голосом.
– Это отчего?
– Она очень сложна, вы лучше замените ее другою: мы только будем путать.
– Ах, мой почтенный, как вы мало это дело знаете! Отчего теперь путают? Оттого, что не знают своих ролей, а когда выучат, то пойдет прекрасно.
– Нет, вообще ее играют неверно.
– Согласен: но что же такое? Да и кроме того: чего же вы хотите от фарса; его только надобно твердо выучить, а там и будет смешно. Выходите, мой милый, играйте, смешите нас, а о прочем не беспокойтесь, это мое дело привести все в порядок. Конечно, она не может идти так, как идет моя комедия, но никто этого и не требует: достаточно, если мы будем смеяться. Выходите, почтеннейший Никон Семеныч, вам следует!
Никон Семеныч нехотя встал и пошел вместе с комиком на сцену; но, несмотря на то, что трагик был тверд в своей роли, что Рымов скроил пресмешную физиономию, первое действие кончилось очень слабо.
Комик не выдержал, махнул рукою, отошел и встал к окну. Рагузов смеялся. Мишель с Дарьей Ивановной тоже смеялись. Аполлос Михайлыч был в беспокойстве.
– Не конфузьтесь, господа, сделайте милость, не конфузьтесь: в таком деле по началу судить нельзя. Извольте начинать второе действие. Фанечка! Тебе, мой друг, – говорил он.
– Mon oncle, да что, я не знаю; у нас что-то нехорошо идет, – отвечала Фани.
– Ничего, моя милая, начинай.
– Что вам за охота, Аполлос Михайлыч, заставлять нас ломаться? заметил трагик.
– Не ломаться, Никон Семеныч! Поверьте, что не ломаться: выйдет недурно; для полноты спектакля эта пиеса необходима: что не удастся в ней, то наши с вами вывезут. Начинай же, Фани!
Фанечка начала. Явился потом Кочкарев, и сверх ожидания это явление сошло очень недурно; но при появлении прочих женихов опять пошла путаница, и они кое-как были прогнаны невестой. С уходом их пиеса пошла даже отлично. Рымов в сцене с невестой превзошел все ожидания. Все разразились смехом; даже Фанечка не удержалась и захохотала. Последующие явления его с Кочкаревым были хороши, а последний монолог, после которого он выскакивает в окно, неподражаем. Аполлос Михайлыч хлопал, как сумасшедший, и говорил, что все и всё отлично. Но я должен сказать, что не все было отлично: трагик редко попадал в настоящий тон; Фанечка тоже; Аполлос Михайлыч, впрочем, уверял, что это происходило оттого, что она была слишком молода для этой роли. Комик с нахмуренным и сердитым лицом сел на дальний стул и задумался.
– Вы извините меня, Аполлос Михайлыч, – сказал Юлий Карлыч, подходя к хозяину, – что я не так твердо знаю. Право, я совершенно не имею памяти.
– Ничего, Юлий Карлыч! Терпение все преодолевает; вы еще удовлетворительнее прочих.
Судья, подобно комику, уселся в углу и ни с кем не говорил ни слова. Трагик и Фанечка скрылись. По окончании "Женитьбы" следовала, как переименовал Рагузов, драматическая фантазия "Братья-разбойники". Через полчаса из кабинета хозяина вышел Никон Семеныч в известном уже нам костюме, то есть в красных широких шальварах, перетянутый шелковым, изумрудного цвета, кушаком, в каком-то легоньком казакине, в ухарской шапочке, с усами, набеленный и нарумяненный.
– Где же другие разбойники? – спросил он.
– Будут, будут, не беспокойтесь, – отвечал хозяин, – сегодня, конечно, не в костюмах, но это ничего.
– Отчего же в вашей пиесе все были костюмированы? – проговорил с досадою Рагузов.
– Как же вы, Никон Семеныч, сравниваете мою пиесу: там только три лица, а у вас их десять; кроме того, моя комедия уже три года, как готова; а ваша только еще вчера сочинялась.
– Извините: она постарше вашей; о себе-то вы все придумали, а о других только нет.
– Я думаю обо всех и обдумывал уже все; костюмы ваши несложны, они в два дня поспеют.
Явилась Фани в костюме любовницы разбойника, и можно сказать, что наряд ее был очень хорош. На голове ее была тоже какая-то шапочка, стан обхватывался коротеньким с корсажем платьицем, сшитым наподобие швейцарских.
– Этот костюм не верен, mademoiselle, – сказал трагик, осматривая ее.
– Мне дяденька его сочинил, – отвечала Фани.
– Как вы, Никон Семеныч, говорите – не верен, – воскликнул Дилетаев, сами назвали поэму драматической фантазией, а недовольны фантастическим костюмом. На вас самих костюм очень необыкновенный.
– У меня-то уж вовсе обыкновенный и самый национальный.
– Ну и прекрасно, будь по-вашему; я уже себе дал слово с вами не спорить: Фани будет играть в этом костюме. Это решено.
Трагик насмешливо улыбнулся.
– А где же разбойники? – повторил он.
– Сейчас... Юлий Карлыч, Мишель, Осип Касьяныч, пойдемте в разбойники, – произнес хозяин, приподымаясь. – Виктор Павлыч! Потрудитесь и вы; мы вас оденем старым подьячим, которые всегда присутствовали в разбойничьих шайках.
На этот призыв хозяина поднялся только один Юлий Карлыч.
– Сделайте милость, господа, – повторил настоятельно хозяин, – Мишель, ступай, кинь папиросу, точно не накуришься! Осип Касьяныч, пожалуйте! Полно вам там сидеть в углу. Виктор Павлыч, пойдемте, – прибавил хозяин, беря комика за руку.
Гости нехотя вышли на сцену.
– Только-то? – спросил Никон Семеныч.
– Покуда только, а на представление я приготовлю лакеев. Размещайте картину сообразно вашему плану.
Трагик начал: на авансцену он посадил самого хозяина в позе кровожадного эсаула. Судью, как он ни отнекивался, Никон Семеныч положил на землю плашмя и велел ему дремать; Мишель был тоже положен, но с лицом, обращенным к самому трагику. Комик посажен был на корточки; актерская натура его и тут не выдержала: он скорчил такую уморительную физиономию, что все разбойники и дамы захохотали. Фани посажена была около самого Никона Семеныча и должна была опираться на его плечо; она исполнила это с большим над собою усилием.
Твердо, с одушевлением и с большою драматическою аффектациею начал Никон Семеныч свою роль, обращаясь попеременно то к тому, то к другому разбойнику, которые слушали его; но он по преимуществу остался доволен самим хозяином и комиком. Первый, действительно, делал чрезвычайно зверскую физиономию, когда трагик рассказывал об убогом и о богатом жидах, которых он резал на дороге; второй же выражал другого рода чувства: робость, подлость и вместе с тем тоже кровожадность и был так смешон, что бывшие зрительницами Матрена Матвевна и Дарья Ивановна, несмотря на серьезное содержание пиесы, хохотали. Фани, в роли любовницы, была хороша, только очень мало обращалась к своему любовнику, впрочем, произносила стихи с чувством. Драматическая фантазия сошла очень удовлетворительно, так что Аполлос Михайлыч сказал:
– Я не ожидал, чтобы все это сошло так недурно. Вы очень хороши, Никон Семеныч, в драматической поэзии.
Затем следовала песня "Оседлаю коня" Дарьи Ивановны и качуча – Фани. Хозяин настоял, чтоб и они прорепетировали, и привел по этому случаю известную пословицу: Repetitio est mater studiorum[27]27
Повторение – мать учения (лат.).
[Закрыть]. Дарья Ивановна, аккомпанируя себе, пропела свой chef d'oeuvre и привела снова в восторг Никона Семеныча, который приблизился было к ней с похвалою, но в то же время подошел к молодой даме Мишель, и она, отвернувшись от трагика, заговорила с тем. Фанечка подсела к комику.
– Как вы хорошо играете, – сказала она, – лучше всех нас; вы поучите меня играть?
– Наша пиеса не пойдет, – отвечал тот.
– Отчего же?
– Она очень дурно выполняется.
– Но вы хорошо играете.
– Я один ничего не значу.
– Фанечка, тебе танцевать качучу; переоденься, моя милая, в другой костюм, – произнес Аполлос Михайлыч.
Фани убежала в свою комнату и когда явилась, то была уже одета совершенно по-балетному, даже в трико, которое нарочно купил для нее Аполлос Михайлыч в Москве. Дарья Ивановна села играть за фортепьяно. Впечатление, произведенное танцами Фани, было таково же, как и прежде. Трагик качал от удовольствия головою; Матрена Матвевна делала ей ручкой; комик смотрел на девушку гораздо внимательнее, чем в первый раз.
Актеры разошлись очень поздно, оставив хозяина в совершенном утомлении. Пришед в свой кабинет, Аполлос Михайлыч бросился в свои покойные кресла.
"Ох, творец небесный, как я устал! Вот пословица говорится: охота пуще неволи; ах, как все они мало искусство-то понимают: просто никто ничего не смыслит!" – произнес он сам с собою и, будучи уже более не в состоянии ничего ни думать, ни делать, разделся и бросился в постель.
V
ХЛОПОТЫ АНТРЕПРЕНЕРА
На другой день Дилетаев лежал еще в постели, когда подали ему письмо от Рымова, в котором тот отказывался играть и писал, что у него больна жена и что комедия, в которой он участвует, так дурно идет, что ее непременно следует исключить.
– Вот тебе на! – проговорил Аполлос Михайлыч, совершенно пораженный. На кого была надежда, тот и лопнул. Завидно вот, почему моя пиеса идет лучше всего. Какое это дьявольское артистическое самолюбие! С простыми людьми, право, легче составлять спектакли; те по крайней мере не умничают, а исполняют, что велят. Велика фигура – мещанин какой-то, и тот важничает!
Но и простые люди вышли не лучше комика: судья тоже прислал записку, в которой напрямик отказывался и уведомлял, что он завтра же отбудет в отпуск в губернию.
Дилетаев не выдержал и, разорвав обе записки на мелкие куски, бросил их на пол.
– Вот вам люди! – продолжал он, обращаясь к окну, из которого виднелась городская площадь, усыпанная, по случаю базара, народом. – Позови обедать, так пешком прибегут! Покровительство нужно, – на колени, подлец, встанет, в грязи в ноги поклонится! А затей что-нибудь поблагороднее, так и жена больна и в отпуск надобно ехать... Погодите, мои милые, дайте мне только дело это кончить: в калитку мою вы не заглянете...
Размыслив хорошенько, Аполлос Михайлыч о судье уже не жалел, потому что тот и по характеру был большой невежа, да и играть совершенно не умел; но комика Дилетаев поклялся не выпускать из рук, вследствие чего тотчас ж спросил себе одеваться, велел закладывать лошадь и проехал прямо к Рымову. Здесь он увидел довольно странную сцену: на стуле у окна сидел совсем растрепанный комик, с лицом мрачным и немытым; тут же на маленькой скамейке, приникнув головой к коленям мужа, сидела Анна Сидоровна, уставив на него свои маленькие глаза, исполненные нежности. Кроме того, она целовала его руку. Читатель, вероятно, догадывается" что подобное семейное счастье возникло вследствие отказа Рымова участвовать в спектакле.
– Виноват... – проговорил Аполлос Михайлыч, попятившись назад.
Комик вскочил и толкнул жену ногою. Та вскрикнула и убежала.
– Сделайте милость, не беспокойтесь. Я приехал на два слова: побраню вас и уеду, – проговорил гость, между тем как оконфуженный хозяин решительно не находился, как бы поправить свой туалет.
– Позвольте, – произнес он, хватаясь за пальто и натягивай на себя.
– Опять повторяю, не беспокойтесь, – проговорил гость, – артистам друг с другом нечего церемониться. Во-первых, супруга ваша не больна; во-вторых, комедия идет бесподобно; стало быть, все препятствия разбиты мною в прах, и, следовательно, вы не скроете и не закопаете вашего таланта, а блеснете им во всей красе.
– Нет-с, я не могу играть, Аполлос Михайлыч, – возразил комик.
– Вы можете, и вы будете играть.
– Помилуйте, сделайте милость, не беспокойтесь: мой муж не так здоров... зачем же ему себя изнурять, – произнесла, выходя, Анна Сидоровна в сильном волнении.
– Муж ваш, сударыня, здоров, вы тоже; все обстоит благополучно, поэтому они будут играть, а вы будете любоваться. Мне очень совестно, что вы не пожаловали на нашу первую репетицию. Я, в моих хлопотах, совершенно забыл послать за вами экипаж; но вперед этого уж не будет.
– Благодарю вас; я не охотница, – произнесла она отрывисто. – Вы, кажется, Виктор Павлыч, сами говорили, что больны, и, кажется, не молоденький ломаться. Что же это такое? Кто вас ни позовет, вы сейчас соглашаетесь, – прибавила она, обращаясь к мужу.
Комик стоял нахмурившись; Дилетаев вышел из терпенья и пожал плечами.
– Я имею, сударыня, дело не с вами, а с вашим мужем, – заметил он. – Не угодно ли вам, Виктор Павлыч, по крайней мере объяснить мне, почему вы не желаете участвовать в нашем спектакле. Общество у меня собрано приличное и вас никоим образом не может компрометировать. Если вы недовольны пиесой, то и это опять несправедливо. Вы сами ее очень хвалили. Я, с своей стороны, готов бы даже был уступить вам свою роль из моей комедии, которая действительно идет очень хорошо. Но сами согласитесь: я автор и писал ее нарочно для себя. Кроме того, Виктор Павлыч, я позволяю себе вам заметить, что у меня играют люди благородные, которые и не сродны к этому делу и заняты другими обязанностями; но они, желая доставить мне удовольствие, играют. Я должен прямо вам сказать, что в последствии времени мог бы быть полезен для вас.
– Нам, бедным людям, не след мешаться между благородными, – возразила Анна Сидоровна.
Но Аполлос Михайлыч не обратил никакого внимания на ее слова.
– Сделайте милость, господин Рымов, решите мое сомнение, – отнесся он к комику.
– Я отказываюсь потому, что эта пиеса не может идти, – отвечал тот.
– Отчего же не может?
– Оттого, что никто не играет.
– Вовсе нет-с, напротив: все играют, а ролей только еще не знают. Разве Фани не играет? Разве Никоя Семеныч не отчетливо хорош в Кочкареве?
– Они знают роли.
– И с этим я не согласен. Они выполняют роли, а прочие тоже выучат, это уж мое дело!
– Прочие даже и стоять на сцене не умеют.
– Вы очень строго судите, милый мой, – возразил Аполлос Михайлыч. – Не знаю, участвовали ли вы когда-нибудь в благородных спектаклях, но только я скажу, что это совсем другое дело, чем публичный театр. На нас будут смотреть, как на любителей, которые, для собственного удовольствия, разучили несколько сцен – и только. Вы сказали, что Осип Касьяныч, Юлий Карлыч и Мишель не умеют стоять на сцене. Это совершенно справедливо, и поверьте: я, имея это в виду, сегодня ночью придумал превосходный оборот. Мы выкинем из пиесы все сцены, где участвуют экзекутор, моряк, офицер этот и, наконец, сваха и тетка.
– Как же вы это выкинете? – спросил комик с некоторым удивлением.
– Так просто, как обыкновенно выкидывают.
– Тогда выйдет чушь, которой нельзя будет и понять, – возразил комик.
– Из фарса, господин Рымов, что ни делай, никогда чушь не выйдет, потому что он сам по себе чушь. Но эта пиеска переработается даже прекрасно, так что перещеголяет, я думаю, подлинник, потому что будет иметь единство.
– Нет-с, этого нельзя.
– Нет-с, можно! Извольте слушать; первое явление: вы со слугой. Слугу буду играть я сам. Угодно вам? Хотя это и не моя роль и не моего вкуса, но для театра я готов пожертвовать всем. Свахи нет. Является Кочкарев и с ним вся сцена. Потом зачеркивается все и начинается с того места, где невеста рассуждает о женихах. Приходит Кочкарев, советует ей брать Подколесина и приводит его, а тут опять может идти все сплошь. Таким образом пиеса прекрасно начнется и отлично кончится.
Комик все еще недоумевал, но было заметно, что остроумная выходка Аполлоса Михайлыча сильно его поколебала.
– Полноте, мой любезнейший Виктор Павлыч, нечего думать и рассуждать. Поедемте сейчас же ко мне и примемся за переделку комедии. Не хуже же, черт возьми, Рагузова мы справимся с этим делом: он прибавляет, а мы будем убавлять! Я мастер на эти дела. Если бы охота пришла, так бы этаких фарсов по десятку в ночь писал. Ну-с – по рукам!.. – прибавил Дилетаев.
– Я таким образом согласен-с, – проговорил комик.
Анна Сидоровна побледнела и задрожала. Она взглянула на мужа, но тот отвернулся.
– Итак!.. – произнес с восторгом Аполлос Михайлыч.
– Сейчас буду готов, – отвечал Рымов и ушел в соседнюю комнату.
Анна Сидоровна кинулась было за ним, но дверь была заперта.
– Как я рад, что уговорил вашего супруга! – отнесся к ней гость, но она ничего ему не ответила и тотчас же вышла из комнаты, прошла в кухню, села на лавку и горько заплакала.
Рымов уехал с Дилетаевым.
"Женитьба" в один день была переделана как нельзя удобнее для сцены. В дальнейшее затем время Аполлос Михайлыч работал неутомимо. Он пригласил городских жителей всех классов и разослал несколько пригласительных билетов к помещикам в усадьбы. Репетиции шли довольно уж твердо. Костюмы для разбойников были приготовлены. Матрена Матвевна менее и менее ошибалась в репликах. Рымов смешил всех до истерики; одним словом, все это было хорошо, и Дилетаева беспокоила одна только механическая часть. Представление должно было произойти на фабрике у купца Яблочкина, производящего полотно, который, по просьбе Дилетаева и по старинному с ним знакомству, дал для театра огромную залу в своем заведении; но все-таки он был купец и поэтому имел большие предрассудки, так, например: залу дал, – даже фабричное производство на всю масленицу остановил, но требовал, чтобы ни одного гвоздя ни в пол, ни в стены не было вколочено. Прошу при этаких условиях поместить всю театральную обстановку! Одна только гениальная изобретательность и необыкновенное знание дела Аполлоса Михайлыча могли все это обделать. В зале, предназначенной для публики, было поставлено несколько рядов кресел и сверх того взади возвышался амфитеатром раек для купцов и мещан. Сцена была возвышенная; подзоры, очень затейливо нарисованные под пунцовые бархатные драпри, повесились. Декорации, то есть голубая комната, а на другой стороне желтая, и лес, были привезены из усадьбы Дилетаева и поставлены. Наконец, опустился и передний занавес, – он был вновь изготовлен. Антрепренер показал и здесь неподражаемую свою изобретательность: у него были очень старинные, но прелестные французские обои, которые представляли маленьких летящих амурчиков, и еще, тоже старинной, но прекрасной работы, эстамп, изображающий Талию. Эта-то Талия и сотни три амурчиков были вырезаны из своих мест и наклеены на голубой коленкор. Талия, конечно, поместилась в середине, и к ней со всех сторон слетались амурчики; вид был прелестный, особенно при вечернем освещении. Аполлос Михайлыч водил всех своих актеров полюбоваться своим изобретением. Уборные для мужчин и дам были тоже приготовлены: кавалерам в холодном чулане, для согревания которого Дилетаев предполагал в день представления поставить три самовара; а для дам – в соседней сторожке, которую по этому случаю оклеили обоями, а находящуюся в ней русскую печь заставили ширмами.
Более всего Аполлос Михайлыч хлопотал с оркестром. При первом испытании оказалось, что Никон Семеныч вовсе не занимался музыкой и неизвестно для чего содержал всю эту сволочь. Капельмейстер, державший первую скрипку, был ленивейшее в мире животное: вместо того, чтобы упражнять оркестр и совершенствоваться самому в музыке, он или спал, или удил рыбу, или, наконец, играл с барской собакой на дворе; про прочую братию и говорить нечего: мальчишка-валторнист был такой шалун, что его следовало бы непременно раз по семи в день сечь: в валторну свою он насыпал песку, наливал щей и даже засовывал в широкое отверстие ее маленьких котят. Вторая скрипка только еще другой месяц начала учиться. На флейте играл старичишка глухой, вялый; он обыкновенно отставал от прочих по крайней мере на две или на три связки, которые и доигрывал после; другие и того были хуже: на виолончели бы играл порядочный музыкант, но был страшный пьяница, и у него чрезвычайно дрожали руки, в барабан колотил кто придется, вследствие чего Аполлос Михайлыч и принужден был барабан совсем выкинуть. Кадрили они играли еще сносно, конечно, флейта делала грубые ошибки, а валторнист отпускал какую-нибудь шалость; но по крайней мере сам капельмейстер и крепко запивающая виолончель делали свое дело, однако при всем том – не кадрили же играть на спектакле?