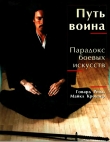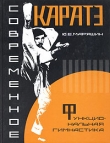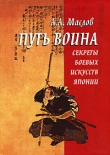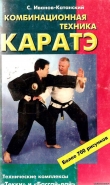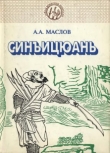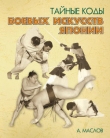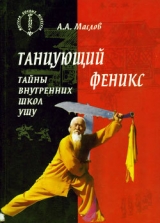
Текст книги "Танцующий феникс: тайны внутренних школ ушу"
Автор книги: Алексей Маслов
Жанр:
Спорт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Умение воспринять традицию во многом зависит от способностей самого ученика, и иногда у талантливого Учителя могли быть бездарные последователи. Впрочем, это случается редко – истинный мастер просто не имеет возможности тратить время на тех, кто не в состоянии передавать традицию дальше. Великий мастер тайцзицюань Ян Баньхоу годами искал себе учеников и при этом прогонял многих поклонников со своего двора.

Подношение ритуальной пищи наставнику боевых искусств
Сколько лет понадобится для принятия «истинной традиции»? Вот как отвечает на вопрос мастер тайцзицюань Ян Чэнфу: «Я изучаю это искусство уже в течение пятидесяти лет, но часто ощущаю потребность обратиться к учителю» [393].
Китайский учитель считает себя вечным учеником, его обучение никогда не прекращается. Но одновременно с этим от тех же китайских учителей можно услышать утверждения, на первый взгляд, противоречащие мысли Ян Чэнфу о бесконечном обучении: «Шаолиньцюань можно изучить за полгода». «Для овладения багуачжан достаточно и двух месяцев». Действительно, всякий стиль можно выучить за несколько месяцев, точнее – его технический арсенал. Но вот истинную передачу можно не получить и за всю жизнь. Мастер Дунь Иньцзе отводил на разучивание комплексов тайцзицюань около трех месяцев и свыше десяти лет – на постижение его внутреннего смысла. Наставник синъицюань Го Юньшэн считал, что базовую технику его стиля можно постичь меньше, чем за год, но для понимания сути синъицюань необходимо по крайней мере пятнадцать лет.
Китайская традиция неизменно подчеркивает чисто личностный характер передачи традиции, и в частности традиции ушу. Лишь непосредственное обучение у учителя может в какой-то мере гарантировать целостность и истинность учения.
В связи с тем, что «истинная традиция» передавалась неприлюдно, в акте духовного общения двух людей, она нередко именуется «тайной передачей» (мичуань). К мичуань в различных школах ушу относят вполне конкретные вещи, например, приемы, комплексы, принципы, медитативные упражнения, философские тексты. Канон шаолиньцюань, начиная от элементарных учебных таолу вплоть до сложнейших методов боя, также традиционно носит название «тайной шаолиньской передачи». При этом простейшие шаолиньские комплексы – «Большой красный кулак», «Малый красный кулак» и т. п., известны любому ученику с первых месяцев занятия шаолиньцюань, к тому же они еще в ХIX в. были опубликованы и ни от кого не скрывались.
Здесь нам приходится столкнуться с особым характером «тайны» в ушу. «Тайная передача» – это не то, о чем нельзя говорить прилюдно, а то, о чем вообще невозможно сказать. Понятие «тайны» связано с «сокрытостью» Дао, которое ни от кого специально не прячется, но постичь его дано не каждому. Во многом «тайность» обучения связана не столько с необходимостью что-то действительно прятать, сколько с восприятием обучения как приобщения к «чудесному». Не случайно во многих трактатах по ушу понятия «передача тайны», «передача истины» и «передача чудесности» фигурируют как синонимы.
Комплексы – таолу «тайной передачи» символизируют то, что на этапе изучения данного таолу последователь приобщается к каким-то потаенным аспектам ушу. Фактически, это некие знаки, говорящие, что ученик получил «допуск» или посвящение в число наиболее доверенных последователей школы.
То же самое относится и к тайным трактатам. Существуют «Канон тайной передачи тайцзицюань», «Канон тайной передачи шаолиньцюань», открыто опубликованные в разных вариантах. Но тайна заключена не в самом тексте, а в том, что стоит за ним, в том отклике сознания, который может вызвать мистический текст у ученика.
Конечно, существуют и действительно «тайные разделы» в различных стилях ушу, касающиеся, в частности, особенностей ударов по точкам, использования подручных средств для боя («тайное оружие»), управление психикой противника и т. д. В ушу Шаолиньского монастыря многие разделы, связанные с медицинской практикой и рецептурой бальзамов, также считаются тайными, равно как закрыты и методы боевой подготовки монахов, которые в полном объеме запрещено публиковать. Даже в «безобидном» стиле тайцзицюань существуют «тайные» надавливания на точки, приводящие к частичному обездвижению соперника, потере сознания или даже смерти.
В современном Китае понятие «истинная традиция» несколько изменило свой смысл. Оно служит своеобразным критерием, призванным отделить традиционный способ обучения от его современных модификаций – спортивных, гимнастических, клубных и т. д. Иногда речь идет о границах традиции. Например, шаолиньская школа, которую изучают непосредственно в Шаолиньсы или у монахов этого монастыря, именуется «чжэньцзундэ» – школа «истинного истока», или «истинного предка», в то время как тысячи школ шаолиньцюань, разбросанные по всему Китаю, таковыми не считаются. Понимание «истинной традиции» как исключительно духовной передачи постепенно исчезает.
Определенный урон передаче «истинной традиции» нанесли реформы ушу, начавшиеся в Китае еще в 50-е годы и продолжающиеся по сей день. В основном они сводятся к разрушению линии «истинной передачи» в клановых школах, тайных обществах и других, главным образом, деревенских объединениях, к переходу на клубно-секционный способ преподавания, более подконтрольный государству. И все же не стоит считать, что такой могучий канал трансляции учения ушу, как чжэньчуань, мог быть разрушен одними лишь государственными актами. Его размывание обусловлено и самой логикой исторического развития ушу: ростом количества учеников в школах, переходом преподавания на коммерческую основу, и как результат – не самое высокое его качество.
Примечательно, что традиционно считается более правильным отказаться от обучения вообще и, следовательно, от «передачи истины», нежели обучать недостойных. Трактат по искусству меча одной из старых школ ушу «Наставления по мечу Куньу» объяснял: «Иметь возможность передать и не передать – это значит потерять человека. Не уметь передавать, но передавать – это значит потерять искусство меча. Но если предполагать, что человек – не истинен, то лучше потерять и человека, и искусство меча» [306].
Человек, открытый абсолютной тайне
Мудрец, становясь позади всех, оказывается впереди всех.
Пренебрегает собой и поэтому сберегает себя.
«Дао дэ цзин»
Мастер – «лик безликого»
Духовным центром всей традиции китайского ушу является прежде всего личность мастера, наставника и учителя.
У нас, представителей западной культуры, нередко создается впечатление, что мастер ушу – человек, который может одним ударом свалить нескольких нападающих, способен кулаком крушить черепицу и сбивать в прыжке всадника с коня. Тем поразительнее покажется тот факт, что истинные мастера обычно избегали поединка, и более того – некоторые из них могли никогда не вступать в бой. Истинное мастерство определяется не количеством побежденных противников, ибо его исток – духовный, внебытийный. Этим «шифу» отличается от обычных кулачных бойцов – «гаошоу» («высокие руки»), которые показывали свое умение на ярмарках, бросали вызов другим бойцам, демонстрировали удивительную физическую силу, поднимая мельничные жернова. Их уважали, боялись, ими восхищались, но мастерство шифу другого свойства – ему поклоняются.
В метафизическом плане не важно чему и как конкретно обучал такой мастер. В конечном счете мастер всегда передает Дао, он сводит свою жизнь к многозвучию абсолютной творческой пустоты, он рассыпается в переливах жизни и при этом отсутствует в какой-то конкретике. Этот акт самоутраты в многоликости форм обозначался в традиции как «сань» – «рассеивание», «рассыпание». Величайший мастер тот, кто сумел уйти от личностности передачи, от собственного субстанционального «Я» в мир «утонченного» (мяо), «сокровенного» (сюань) и «бесформенного» (усин). Поэтому мастер, как данность, отсутствует (что, кстати, не исключает, а лишь подтверждает существование вполне реальной личности наставника), существует лишь его Мастерство.
Жизнеописания мастеров ушу стереотипны и явно собирательны. Мы без труда насчитаем не больше десятка возможных сюжетов, по сути дела – мифологем, из которых складывались биографии великих учителей ушу. Практически все они повторяют жития «истинных людей» – даосов, нередко им приписываются подвиги буддийских святых. Часто они совершали одни и те же поступки, например, могли передвигаться, не касаясь ногами земли, оставались неуязвимыми для ударов мечей и копий.
Образ учителя, традиционный для Китая, европейцу может показаться парадоксальным. Это – не прекрасно сложенный атлет, не мыслитель, говорящий четкими и меткими афоризмами, что предусматривается канонами греко-римской красоты и мудрости. Это и не силач, внушающий ужас и поклонение своими подвигами. Внешний облик легендарных мастеров – Бодхидхармы, Чжан Саньфэна зачастую просто безобразен. У одного огромные уши, нечесаные волосы до земли, другой – хром и отвратителен на вид, третий – груб и невыдержан.
Разумеется, не стоит считать, что каждый учитель ушу именно таков. Речь идет об образе, о метафоре, о собирательном персонаже легенд. И этот образ учителя – уродливого и насмешливого – несомненно, создание народной культуры, реакция на вычурность и подчеркнутое благородство чиновников—конфуцианцев, на их самовозвеличивание. Народная культура отреагировала на элитарную культуру созданием некого «антисоциального» образа учителя, поклоняясь ему не меньше, чем богам и духам. В деревенских школах ушу до сих пор рядом с изображениями духов очага устанавливается посвященный мастеру школы алтарь, на котором регулярно возжигаются благовония перед табличкой с именем мастера. Поклоняются даже не столько ему, сколько тому, что он воплощает, равно как культ предков в Китае есть символ служения всей «высокой древности» и миру духов.
Мастер-учитель в китайской традиции противоположен обыденному порядку вещей, он «не таков», он обратен привычности. Что и выражается в подчеркнутом юродстве легендарных мастеров. Они должны быть противоположны не только канону красоты, но и обучения. Предания рассказывают, как учит наставник ушу – не по писаным наставлениям и не объяснениями, но парадоксами (такую парадоксальность мы встречаем в чань-буддизме), даже странными выходками: то непоколебимым молчанием, то пронзительным криком. Он заставляет ученика то рубить дрова вместо изучения ударов, то часами наблюдать за падающими каплями воды. Поведение мастера ушу сближалось с природной естественностью, спонтанностью действия «вне мысли».
Такая типизация – отнюдь не насильственное обезличивание. Она лишь подтверждает то, что наставник действительно принадлежит традиции.
Вечный учительДля китайской традиции учитель-шифу выступает в двух ипостасях. Его явленная сущность – смертный человек с конкретным именем и обликом, обучающий тому, чему научил его учитель. В то же время, по преданию, одни учились у бессмертных небожителей-сяней (Дун Хайчуань), другие обрели свои знания во сне, когда им явилось божество (Чжан Саньфэн), третьи обучались у животных, наблюдая за их повадками (создатель стиля богомола Ван Лан). Так или иначе свою мудрость они черпали от «естественности Дао», а соответственно, и сами уходили корнями в Прежденебесное начало. Поэтому в своей второй ипостаси он – вечный Абсолютный Учитель, который ниоткуда не берется и никуда не уходит.
Благодаря единству этих двух ипостасей учитель может целостно передать то, что идет искони, от первоучителей. Таким образом, шифу становится ретранслятором истины древнего Учения.

Наставник ушу ценится не столько за боевое мастерство, сколько за умение передать традицию в целостном виде. Шаолиньский наставник Дэцянь ведет занятия в Военном училище Шаолиньского ушу в г. Дэнфэн, продолжая традицию связи армейского и монашеского ушу, заложенную еще в ХIII в.
Одной из характерных черт учителей ушу является их ненавязчивость, шифу никогда не проповедует среди непосвященных, не «зазывает» к себе в школу. «Дао дэ цзин» очень точно сравнивает осторожность мастера по отношению к жизни с «человеком, переходящим реку по льду зимой». Большинство современных учителей Китая ведут скромный образ жизни, их школы невелики – не больше десятка человек, хотя наставления могут получать от них сотни последователей. Для многих подчеркивание своей скромности, непритязательности уже превратилось в особый стиль жизни. Разумеется, современный мир меняет и сознание традиционных учителей: даже в отдаленных деревнях открываются коммерческие группы, выдаются «дипломы», хотя доход от такого преподавания невелик, средства в основном уходят на поддержание жилища мастера. Авторитет учителя по-прежнему велик. Чтобы просто пообщаться с некоторыми шифу, люди приезжают из других провинций, приводят детей, дабы те, как и в древности, могли бы «дотронуться до рукава халата мастера». Как видно, идеальный образ шифу в сознании современных китайцев сохраняется, хотя нравы и характеры современных наставников заметно трансформировались.
Сами наставники в разговорах нередко ассоциируют себя с «образчиками» древности, например, с благородным конфуцианским мужем (цзюньцзы), с махасатвами (буддийским учителями, кит. фаши). При этом учителей могут уважительно именовать «даши» – «великий учитель», что, вероятно, пришло из буддийского лексикона.
А что должен знать сам учитель? Кажется он должен обучаться многому и в общем-то быть универсален во всех областях жизни. Но вот Конфуций дает совсем иное направление нашим мыслям: «Благородный муж говорит: „Великий человек не обязан быть умелым в каком-то деле. Великий характер не должен быть искушен в какой-то службе. Великая честь не обязательно заставляет людей хранить свое слово. Великое уважение ко времени не делает человека пунктуальным“. Знать эти четыре вещи – это значит знать истинный смысл вещей в жизни» [174].
Оказывается, по сути дела мудрец не должен знать ничего – точнее, ничего конкретного, никакого дела. Это понять несложно – он не обязан вообще что-либо делать, проявлять активность, «обучать» в западном понимании этого слова. Он присутствует в этом мире и уже тем самым учит людей. Его Знание выше обыденного знания, эти два понятия просто несопоставимы. Тот, кому открыты глубины Космоса, может не знать, как делать, ибо ему известен секрет «великого делания», то есть он со-ритмичен с Дао, которое также «ничего не делает, но нет того, что оставалось бы несвершенным» [63].
Наставник ушу осуществить свою миссию способен потому, что является живым воплощением первооснователей школы. Она обеспечивает передачу того эзотерического знания, в которое посвящен шифу. По-китайски ученик называется «туди», что дословно означает «тот, кто идет следом», или «тот, кто вступает в след», что по смыслу близко западному понятию «последователь». Вдумаемся в изначальный смысл слова – речь идет о самообнаружении человека в следе великого Учителя. Ведь то, что воспринимает ученик – жесты, слова, мысли – все это следы того наставника, который когда-то существовал в реальном мире. В чем и заключена мистическая сущность школы: она не столько «учит ушу», сколько обеспечивает бессмертие Абсолютного Наставника.

Шаолиньский наставник Минцы, которому перевалило за 70 лет, считается одним из последних носителей тайн боя с металлическим костылем
Возвращение Абсолютного учителя в каждом последующем поколении учеников – стержень и нравственный идеал китайской традиции вообще. Возвращается не просто абстрактный Учитель, возвращается его Личность. Мастер тайцзицюань Ян Чэнфу говорил, что когда он начинал выполнять таолу, рядом появлялся даос Чжан Саньфэн, который обучал и поправлял его. Создатель стиля багуачжан Дун Хайчуань учился у даосских «небожителей», которые являлись лишь в момент тренировки, причем он ясно видел их облик, одежды, мог описать даже голос – «низкий и медленный, очень глубокий».
И еще одна история из анналов ушу. Однажды великий мастер синъицюань Го Юньшэшь собрал своих учеников и сообщил: «Сегодня я решил, что мой путь на земле завершен и я покину вас». Ученики были потрясены решением мастера умереть при полном здравии и принялись уговаривать Го Юньшэна не покидать их. Го, усмехнувшись, заметил: «Напрасно печалитесь. Пока вы занимаетесь этим искусством – я буду жив».
Наставник – не просто тот, кто лучше всех знает ушу. Он и есть манифестация самого ушу. Подавляющее большинство его последователей вряд ли понимали ту глубину, которую он открывал перед ними, но все оказывались под воздействием непреодолимо-притягательного обаяния его облика – по сути под влиянием его трансцендентного образа. Этот образ, растянутый во времени, и сохранял традицию школы в непрерывности, так что даже со смертью учителя она продолжала жить в учениках.
Врата учения
Изучать ушу легко – заниматься им трудно.
Заниматься ушу легко – сохранять его трудно.
Сохранять ушу легко – постичь его трудно.
Мастер стиля мэйхуачжуан Хань Цзяньчжун
Структура ушу: школы и стили
Школа и стиль являются тем стержнем, вокруг которого веками строилась вся система китайского ушу. Сегодня это – ключевые структуры и для боевых искусств других стран Восточной Азии, куда «школьно-стилевая» система пришла из Китая. Вместе с тем «школа» и «стиль» – явления исторические, возникновение которых характеризует определенный этап в развитии и осмыслении ушу.
Важнейшим каналом передачи внутренней традиции ушу была и остается школа. Самые ранние из них формировались в XIV–XVI вв. вокруг армейских инструкторов в профессиональных войсках и имели исключительно «технический» характер, т. е. в них преподавались лишь приемы и методы ведения поединков. Позже появились, в основном в деревнях, школы, которые осознавали себя носителями «истинной традиции», т. е. были духовными институтами. Параллельно существовали школы ушу для аристократии, танцевально-ритуальные, мистико-оккультные и т. д., причем нередко провести разграничительную линию между ними было чрезвычайно сложно.
Стиль же в Китае служит объединительным названием для целого ряда школ.
Школа обычно называется «мэнь» («врата») или «цзя» («семья»). Школы, выросшие из тайных религиозных сект, могут также именоваться «цзяо» («учение») или «дао» («путь»). Стиль именуется «пай», «люпай» («направление», «группа»), «цюань» («кулак») либо «чжан» («ладонь»), или «цюаньпай» («направление кулачного искусства»). Существует также понятие «ши» («форма»). Первый смысл этого термина – «прием», или «способ». С XVII в. термин «ши» начинает употребляться как обобщающее название для определенной формы того или иного стилевого направления, преподаваемого в конкретной школе. Сегодня этот термин используется для тайцзицюань, в частности, Янши тайцзицюань – «форма тайцзицюань [семьи] Ян», и т. п.
Существуют как формальные, так и чисто психологические отличия стиля от школы, наблюдаемые и по сей день. Хотя следует заметить, что в обиходе эти понятия могут смешиваться, а названия школы и стиля – совпадать, например: хуцюань – «школа Тигра» и «стиль Тигра», Чэньши тайцзицюнь – «форма (либо школа, стиль) тайцзицюань [семьи] Чэнь».
Стиль (цюань, цюаньпай, люпай) является понятием более широким, нежели школа. Стиль сам реализуется через сеть школ, нередко связанных исключительно мифологическим предком.
Стиль единится вокруг определенной мифологемы происхождения, например, ведет свой исток от какой-то полулегендарной личности и общего корпуса мифов и преданий, связанных с этой личностью. Так, тайцзицюань «начинается» от даоса Чжан Саньфэна (XIII в.), а шаолиньский стиль – от буддийского патриарха Бодхидхармы (V–VI вв.), хотя в реальности эти направления возникли гораздо позже. Персона основателя стиля всегда мифологична и символична как воплощение духовной мощи, идущей от века.
Единая мифологема происхождения может быть связана также с тотемным или священным животным. Например, существуют предания о том, как из наблюдения за дерущимися богомолами родился «стиль Богомола», а «стиль Обезьяны» – из подражания движениям этого животного. Здесь учителем выступает само животное, точнее, то природное начало, которое воплощается в нем. В реальности не существует ничего общего между шаолиньской «школой Богомола» и «школой Богомола» из провинции Хэбэй. И тем не менее их последователи считают себя принадлежащими к единому стилю и возводят его к бывшему монаху Шаолиня Ван Лану, что в свою очередь является лишь легендой.
Символом единства происхождения может стать и какое-либо священное место. В частности, добрая треть всех стилей в Китае приписывают свой исток Шаолиньскому монастырю.
Точно таким же символом единства происхождения стали известные своими даосскими обителями горы Уданшань в провинции Сычуань, откуда, по легендам, берут свой исток стили тайцзицюань, синъицюань, багуачжан, нэйцзяцюань, хотя сегодня доподлинно известно, что эти стили появились в разных провинциях и в разное время.
В отличие от стиля, центром притяжения школы является конкретный наставник. В этом смысле ученику все равно, как называется стиль, которому он обучается, для него актуальна лишь личность учителя, которого он воспринимает как воплощение многовековой традиции. По сути ученик учится не ушу, но «учится учителю». Скажем, сегодня в ответ на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» (каким стилем ушу), в традиционных школах ушу принято называть имя учителя («Я получаю наставления у учителя Дэцяня»). Зачастую вопрос формулируется более конкретно: «У кого вы учитесь?» На самом деле смысл таких вопросов заключается в выяснении того, чью духовную традицию несет в себе ученик, а не какой арсенал приемов он знает. Не случайно в биографиях известных мастеров ушу мы встречаем зачастую не название стиля, а фразу: «Он поклонился господину такому-то как своему наставнику».
Примечательно, что в современных клубах ушу спортивно-физкультурного направления чаще всего спрашивают не об учителе, а о стиле или о технике, которую изучает человек.
Формируясь вокруг мифологемы происхождения, легенды о едином предке и истоке, стиль повторяет в своей структуре классическое древо рода. В противоположность этому школа, во главе которой стоит не мифологический предок, а конкретная персона учителя, копирует классическую структуру клана (фратрии). Как в старом, так и в современном Китае школы строятся именно по такому кланово-семейному принципу. Встречаются и квазиклановые объединения, например, школы ушу, выросшие из тайных обществ, где все именуют друг друга «братьями», а учитель считается «отцом».
Все это приводит к формированию квазисемейной иерархии внутри школ: место каждого их члена определяется в терминах родства, ведутся генеалогические книги, куда заносятся лишь преемники «истинной традиции».
Другим базовым отличием стиля от школы является то, что школа строится на преподавании конкретной техники и учения, тогда как стиль может предусматривать лишь чисто мифологическое их единство. Например, стиль хуцюань построен на подражании повадкам тигра, но в каждой школе это реализуется по-своему.
Стиль же весьма аморфен – в нем, в частности, не существует единых методик тренировки или комплексов формальных упражнений. Например, под общим понятием шаолиньского стиля мы можем встретить сотни абсолютно разных между собой мелких школ с различным техническим арсеналом. Точно также в провинции Фуцзянь и Гуандун на юге Китая существует несколько несхожих школ «Кулака тигра» (хуцюань), которые все считают себя членами единой традиции «стиля тигра». Фактически, мы можем вести речь лишь о мистическом, психологическом единстве внутри стиля самых разных, непохожих друг на друга школ. Таким образом, стиль в отличие от школы – это чисто психологическое отнесение себя к той или иной ветви ушу.
Итак, классическую школу ушу отличают следующие характерные черты: ориентация на конкретную личность мастера («ученики – дети мастера в духе»), наличие развитой мифологии и легендарной истории, священных трактатов и генеалогических книг, четко выстроенная иерархия с харизматическим лидером (шифу) на вершине, единство технических и теоретических постулатов, единство комплексов формальных упражнений (таолу) и методов тренировки. Лишь при наличии всех этих признаков можно говорить о реальном существовании школы, а трансформация хотя бы одного из них способна привести к рождению новой школы.
Важной характеристикой школы является также ощущение монопольного обладания истиной – «истинной традицией». Характерно, что до сих пор, когда представитель одной школы говорит о последователе другой школы, в которой изучается тот же стиль, он обязательно подчеркнет, что тот не «получил традицию», не в полной мере «принял учение». Обсуждение последователя другой школы идет не по линии «хороший боец – плохой боец, а с точки зрения обладания – не обладания истинной традицией». Именно здесь сегодня пролегает линия раскола между многими школами стиля Чэнь тайцзицюань, синъицюань, багуачжан и десятка других стилей. В качестве доказательства «обладания традицией» приводится обычно родословная ученика ушу – у кого он учился и у кого принимал учение его учитель. Тщательные изыскания истоков того или иного стиля через исследования семейных хроник, уездных анналов и других исторических документов, которые ведутся в последнее время, во многом объясняются желанием установить, «кто был первым» в линии передачи традиции и, соответственно, кто на сегодняшний момент обладает ее полнотой.
Все это обнажает крайне важную черту китайского ушу: обучение боевым искусствам в школах традиционного типа осознается до сих пор как преемствование—передача «истины», что в свою очередь характерно для религиозной традиции во всем мире.