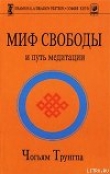Текст книги "Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы"
Автор книги: Алексей Маслов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Куда он ушел?
В увлекательном сборнике биографий «Продолжение жизнеописаний достойных монахов» («Сюй гаосэн чжуан», 645 г.), составленном монахом Даосюанем, мы впервые встречаем то, что можно считать началом новой традиции духовной практики, которая и привела, в конечном счете, к уникальным чаньским методикам. Даосюань проводит четкое различие между классическим методами созерцания-дхианы, которые в ту эпоху были представлены мастером Сэнчоу (480–560), и чаньской практикой «созерцания стены» (бигуань), начало которой было положено Бодхидхармой.
Даосюань не отдавал предпочтение ни одной из этих систем. Он лишь заметил, что они соотносятся между собой как два типа истины (эр ди) – абсолютная и относительная, и сравнил эти два типа медитации с двумя крыльями одной птицы и двумя колесами повозки. Но даже такого тонкого знатока буддийской мудрости, как Даосюаня, поразила сложность той традиции, которая была представлена Бодхидхармой. И он прямо признался, что его учение «труднопонимаемо».
В своем законченном виде жизнеописание Бодхидхармы появляется в известном буддийском сочинении «Хроники из Зала патриархов» («Цзу тан цзи», 952 г.). Таким образом, понадобилось почти 400 лет, чтобы образ малоизвестного монаха Бодхидхармы не только оброс мифологическими подробностями, но и приобрел вполне человеческие живые черты. Появляются диалоги Бодхидхармы, записи его бесед с учениками, описание его похождений – в общем, все то, что должен иметь реальный патриарх. У него появляется и учитель – в его качестве выступает известный индийский монах Праджнятара, который считался 27-м патриархом индийского буддизма. Как следствие, сам Бодхидхарма может уже в полной мере претендовать на роль 28-го буддийского патриарха. Здесь же повествуется, что Бодхидхарма проделал долгий путь из Индии в Китай, путешествовал три года, пока не достиг Китая в 527 г. во время правления императора династии Лян У-ди. Здесь же излагаются и две параллельные версии ухода Бодхидхармы: по одной он был отравлен и погребен на горе Сюнэршань, что к западу от Лояна, а по другой – на самом деле отправился на запад, к себе домой, где его и встретил один из официальных посланников правителя, монах Сунъюнь. После вскрытия могилы действительно оказалось, что она пуста.
Вообще, вокруг смерти Бодхидхармы – множество загадок. Прежде всего, когда это могло случиться? «Хроники из Зала патриархов» (952) утверждают, что Бодхидхарма умер, когда ему исполнилось 150 лет. Как гласит упомянутый трактат, Бодхидхарма покинул двор правителя Лян в 527 г., поселился в горах Суншань, неподалеку от Лояна, там же, где располагается и Шаолиньсы. После этого он «просидел в медитации лицом к стене в течение девяти лет, не говоря ни слова». Таким образом он мог умереть никак не раньше 536 г. Можно приблизительно установить и верхнюю границу: скорее всего он умер не позже 554 г., если исходить из его встречи с монахом-чиновником Сунъюнем, за три года до падения династии Вэй. Но все это действительно может иметь смысл только в том случае, если принять подобные рассказы за исторические свидетельства.
Существует множество версий и вокруг того, умер ли Бодхидхарма или «ушел на Запад», то есть вернулся в Индию. Самая правдоподобная утверждает, что он был отравлен недругами. С первых месяцев своего пребывания в Китае Бодхидхарма встретил сильное неприятие своей проповеди. Речь шла не столько о гонениях на буддизм – как раз само буддийское учение в ту пору получило поддержку и в северных, и в южных областях Китая, через которые проезжал Бодхидхарма, – а о серьезных противниках, которые выступили против самого патриарха как сильного конкурента. Его несколько раз пытались отравить, об этом неоднократно упоминают «Записи о передаче светильника». В разговорах с чиновниками и своими последователями Бодхидхарма говорит, что его «пытались отравить уже пять раз», и это становится одной из причин его отъезда из Северного Китая.

Cтела в монастыре Шаолиньсы с медитирующим Бодхидхармой. На ней – стихотворение известного ученого и поэта Хуан Тинцзяня, основателя крупнейшей поэтической школы Китая
Противостояние буддийских школ между собой в ту пору не было редкостью, многие наставники спорили за право быть принятыми при дворе, получать знаки императорской милости, принимать пожертвования, строить монастыри. Бодхидхарма, безусловно, представлял собой серьезного соперника. Он не стяжал, не стремился к власти. Не отрицая милостей правителя, он не стремился к накоплению, к тому же его статус заслонял собой многих других буддийских учителей. На него, как утверждают «Записи о передаче светильника», было совершено пять покушений, и, наконец, шестая попытка отравления оказалась удачной. Хотя Бодхидхарма знал об отравлении, он ничего не сделал, чтобы предотвратить его, поскольку «понимал, что миссия его уже выполнена, а Дхарма передана последователю».
Вот как рассказывают о его последних днях «Хроники из Зала патриархов» (952):
«В те времена двор правителя разрастался с каждым днем, и даже достойные монахи испытывали немалую ревность друг к другу, и уже не будучи способными обуздать свои амбиции, подсып?ли яд в пищу своим соперникам. Великий наставник, зная об этом, принял отравленную пищу, но яд не нанес ему вреда. Однако Бодхидхарма, понимая, что недруги не оставят попыток его отравить, обратился к Хуэйкэ со следующими словами:
“Я пришел сюда, чтобы проповедовать Дхарму. И мне удалось передать ее вам, а поэтому мне не имеет больше смысла оставаться здесь – я должен покинуть вас”. Сказав это, он собрал своих учеников и еще раз изложил им основы своего учения. Затем он принял отравленную пищу и вскоре умер...»
Известны и имена предполагаемых убийц: это китайский наставник дисциплинарных правил винаи Гуантун и известный индийский проповедник и переводчик Бодручи, который прибыл в Китай раньше Бодхидхармы и, естественно, видел в нем соперника. Якобы однажды их догматический спор оказался столь яростным, что эти двое бросились с кулаками на Бодхидхарму, а потом и замыслили убить его.

Патриарх Бодхидхарма в одиночестве возвращается в Индию. Изображение в коридоре стел монастыря Шаолиньсы, XII в.
По сути, перед нами несколько версий смерти Бодхидхармы, сведенных внутри одного трактата, – и отравление и мистический уход. Но есть и другие. Например, еще одно описание смерти наставника встречается в «Продолжении жизнеописания достойных монахов» (645), причем не в биографии Бодхидхармы, а в разделе, посвященном его ученику Хуэйкэ. Здесь говориться, что Бодхидхарма умер на берегу реки Ло (Лобиньхэ?). Эта местность была известна как место казней, что, в частности, позволило предположить, что Бодхидхарма мог быть казнен во время одного из многочисленных восстаний, которыми был отмечен конец правления династии Вэй [100, 117–121]. Этой же версии о том, что Бодхидхарма умер в 536 г. на берегу Лобиньхэ, придерживается и нынешний настоятель Шаолиньсы Ши Юнсинь [112, 1–2].
После смерти патриарха в монастыре Динлинсы (сегодня Кунсянсы) в его честь была возведена памятная пагода. Примечательно, что в ту пору она была поставлена не в Шаолиньсы, и это говорит о том, что предания о прямой связи наставника с этим монастырем появились уже значительно позже.
Традиционно считается, что тело патриарха было сожжено на горе Сюнэршань (Медвежьего уха), что неподалеку от Шаолиньсы. Но предания утверждают, что существовал и некий гроб, куда должны были положить тело Бодхидхармы, – именно его открыли после того, как один из монахов сообщил, что через три года после смерти Бодхидхармы он встретил патриарха в предгорьях Гималаев. Гроб оказался пустым, и там лежала лишь одна кожаная сандалия. С другой сандалией в руке Бодхидхарма разгуливал по горам, когда его встретил монах.
Эта история распространилась на уровне народных преданий, которые нашли свое отражение в «Хрониках уезда Дэнфэн» – того уезда, где располагается Шаолиньсы. Составление хроник было завершено в 1530 г., хотя большинство записей относятся к более раннему периоду. «Чаньский учитель Бодхидхарма во времена правителя царства Лян У-ди из Западных земель (то есть из Индии. – А. М.) переправился на лодке через море и достиг города Цзилиня (то есть Нанкина. – А. М.). В беседе с У-ди он не нашел согласия и поселился под пиками Укунфэн (Укуншань), что в горах Суншань. Просидел лицом к стене девять лет и передал Дхарму Хуэйкэ, после чего скончался. На рубеже правления Вэй и Сун (то есть VI–X вв.) посланник, направленный в Западные земли, по возвращении повстречал Бодхидхарму на Памире и увидел, что тот нес в руке лишь одну сандалию, а затем стремительно удалился. Вернувшись, чиновник доложил об этом случае, могилу вскрыли и обнаружили там лишь одну сандалию!» [8, 32].

Бодхидхарма с полулунной алебардой и соломенной сандалией в руках – один из символов учения Чань. Скульптура из «Зала шести патриархов» монастыря Шаолиньсы
Вообще, эта сандалия – в одних версиях соломенная, в других кожаная – стала одним из символов Бодхидхармы. На классических портретах он обычно изображается с одной сандалией в руке. Народные версии гласят, что именно на сандалии он переправился через моря из Индии. Догматическая трактовка говорит о другом: сандалия – символ того челна, который перевозит людей через океан грехов и страданий. И именно этот челн, это учение о спасении, и принес Бодхидхарма людям. Уйдя из жизни, он оставил учение своим последователям. Но учение является тайным, сокрытым от глаз любопытных – в этом символ сандалии, найденной в гробу Бодхидхармы.
Но в мистическом мире Бодхидхарма продолжает свой путь, он несет свет учения дальше. Поэтому тот, кто встретит его в своих медитациях или видениях, увидит сандалию в его руке.
Пещера в горах
Знаменитая пещера, где Бодхидхарма провел девять лет, до сих пор сохранилась недалеко от вершины горы Укунфэн (Пяти пиков) в той части гор Суншань, которые называются Шаошишань – Горы малого убежища. Пещера представляет собой грот глубиной семь и шириной три метра. Местом поклонения пещера стала достаточно поздно, не раньше XI в., что косвенно свидетельствует и о позднем характере легенды о «созерцании стены». В 1104 г. по приказу императора перед пещерой были сооружены небольшая арка и мощеная площадка, в 1604 г. арка была перестроена (она сохранилась и до наших дней), на ней начертаны три иероглифа «Убежище сокровенного молчания» (Мо сюань чу).
В частности, по одному из преданий, перед тем, как поселиться в пещере, индийский миссионер остановился в небольшой кумирне чуть выше монастыря Шаолиньсы, приблизительно в 1,3 км от него. Там, на стене храма он начертал надпись, которая сохранилась до сих пор. Сегодня это место названо «Обитель первого патриарха» (Чуцзуань) и на его территории, ныне огороженной стеной, располагается женский монастырь. По преданию, именно здесь останавливался Бодхидхарма, когда часто совершал переходы с гор Суншань в город Лоян и обратно. Все эти надписи относятся к периоду Северная Сун, к тому же сама постройка была сооружена в 1125 г. Точно также большинство надписей на стелах на территории Шаолиньсы относятся к Северной Сун, либо к эпохе Мин (1368–1644). Среди них – знаменитая надпись, сделанная известным каллиграфом Цай Цзиншу «Пагода сидящего лицом к стене».

«Пагода сидящего лицом к стене», надпись, сделанная известным каллиграфом Цай Цзиншу
Вообще, культ Бодхидхармы внутри Шаолиньского монастыря начинается не раньше начала XI в., то есть одновременно с созданием канонической версии «передачи светильника», изложенной в «Записках о передаче светильника, составленных в годы Цзиньдэ», а своего апогея он достигает к XVI в. В 1531 г. на территории Шаолиньсы сооружается ныне одно из самых почитаемых мест монастыря – «Зал стоящего в снегу» (Лисюэ тин), названного так в память о втором Патриархе Чань Хуэйкэ, который, по преданию, простоял несколько дней на коленях в снегу, умоляя Бодхидхарму передать ему суть учения. В зал было помещено знаменитое изображение Бодхидхармы, которое, по легенде, отпечаталось на стене пещеры, перед которой тот сидел в медитации. Камень был бережно вырезан из стены и размещен на подставке у левой стены зала. Если лучи света падают на него сбоку, то на камне действительно можно разглядеть изображение сидящего монаха с сурово насупленными бровями и курчавой бородой.
Не меньший интерес, чем сами легенды, представляет собой иконография Бодхидхармы. Все изображения, дошедшие до нас, можно условно разделить на две группы. На первой группе изображений перед нами предстает Бодхидхарма в виде традиционного для Китая буддийского монаха: лысым, без бороды, с характерным сиянием вокруг головы, в традиционных монашеских одеяниях, состоящих из ритуальной красной накидки (знак китайских монахов высшего посвящения) и рясы. На другой группе изображений Бодхидхарма предстает перед нами в виде традиционного индийского монаха: с черной курчавой бородой, обычно крайне сурового вида, в распахнутом халате. И та, и другая традиция иконографии появляются в XIV в. и, по сути, отражают двойственность представлений о Бодхидхарме: как о китайском патриархе Чань и как об индийском патриархе буддизма. Примечательно, что «китайский» Бодхидхарма обычно изображается мирно сидящим в медитации, в то время как «индийский» Бодхидхарма чаще всего яростен и неудержим в своей мудрости, он преодолевает море на соломенной сандалии или на стебле бамбука (символ преодоления «моря грехов и страданий») или стоит, грозно подняв монашеский посох.
С этим стеблем бамбука связано распространенное предание. По легенде, когда Бодхидхарма узнал, что правитель У-ди хочет видеть его, он, будучи в тот момент на юге Китая, решил отправиться на север. Для этого ему было необходмо пересечь бурную реку Янцзы, но нигде он не мог найти даже утлого челна, чтобы переправиться на другой берег. Внезапно он неподалеку увидел пожилую женщину, которая собирала бамбук, и Бодхидхарма попросил у нее лишь один стебель. Затем осторожно положил этот стебель на воду, вступил на него – и стебель перенес его на другой берег. Все были поражены, но лишь один Бодхидхарма знал, что женщина, которая дала ему этот стебель, на самом деле была Бодисаттвой Авалокитешварой, которая специально явилась в этот момент, чтобы помочь Бодхидхарме распространить учение. Смысл этого предания в чаньской трактовке таков: если человек действительно искренне захочет сделать великое и доброе дело и даже если у него не будет на это физических сил, к нему всегда на помощь явится бодисаттва.

Портик перед пещерой Бодхидхармы, сооружен в 1603 г.
Девятилетнее сидение Бодхидхармы в пещере (или перед пещерой) стало благодатной почвой для появления многих мифов и преданий, подчеркивающих абсолютный покой сердца (аньсинь) патриарха, что на уровне обыденного сознания и воспринималось как истинное Чань. Например, существует предание о том, что мелкие птицы даже свили гнездо на плече у Бодхидхармы, а он и не пошевелился, что символизирует не только его полную умиротворенность, но и абсолютную природную естественность. Примечательно, что эта история и сегодня широко распространена в районе гор Суншань и в монастыре Шаолиньсы.

Спустившись вниз после девятилетнего пребывания в пещере, Бодхидхарма поселился в небольшом храме, названном в честь него Чуцзуань – «Обитель первого патриарха». Вид из пещеры Бодхидхармы, на переднем плане – Чуцзуань, ныне – женский монастырь
Сколько времени провел Первопатриарх в горах Суншань? Как ни странно, даже по этому поводу в преданиях нет согласия. Классическая версия гласит, что девять лет он просидел в «созерцании стены», а затем еще несколько лет (обычно речь идет о четырех, пяти или шести годах) наставлял двух своих учеников – Даоюя и Хуэйкэ (по другой версии – лишь одного Хуэйкэ). В других преданиях говорится о десятилетнем сидении. А вот трактат «Записи о передаче драгоценности Дхармы» («Чуань фабаоцзи») говорит, что два ученика Даоюй и Хуэйкэ в течение шести лет следовали за Бодхидхармой, но ни словом не упоминается его знаменитое девятилетнее «созерцание стены». Одни предания говорят, что Бодхидхарма поселился в пещере, по другим – он жил то ли в Шаолиньсы, то ли неподалеку от него, третьи утверждают, что он больше времени проводил в Лояне при дворе правителя, хотя приходил медитировать в горы Суншань.

«Зал стоящего в снегу» на территории монастыря Шаолиньсы, названный так в честь второго патриарха Чань – Хуэйкэ. Первоначально он назывался «Зал Первопатриарха», но после пожара и новой постройки в 1511 г. был переименован. Именно там находится камень с изображением Бодхидхармы из пещеры
Многих в предании о Бодхидхарме смущает масса мифологических подробностей, которые не позволяют в полной мере поверить во всю эту историю. Ну, как же можно сидеть девять лет не вставая лицом к стене? Как может так случиться, что на стене отпечаталось изображение Бодхидхармы? Но здесь следует отделить народные легенды, которые всегда расцвечивают действительность сказочными подробностями, от буддийских исторических преданий, в которых при ближайшем рассмотрении оказывается множество вполне правдоподобных деталей, не имеющих никакого отношения к мифам.
Но почему во всех источниках о Бодхидхарме фигурирует именно девятилетнее сидение? По-китайски число «девять» (цзю) звучит также как и слово «долгий», не случайно нередко китайцы желают своим друзьям «двух девяток», то есть «долгого-долгого» долголетия. А поэтому девятилетнее созерцание Бодхидхармы лицом к стене не стоит воспринимать как точное указание на некий отрезок времени, но как упоминание о том, что патриарх действительно очень долго медитировал.
Эта цифра стала священной в чань-буддизме, так многие ученики проводили со своими учителями именно девять лет, тем самым как бы в иной проекции повторяя медитативный опыт Бодхидхармы. Возможно, что в первоначальном варианте речь шла не о «девятилетнем сидении», а лишь о «долгом сидении» лицом к стене, что значительно ближе к реальности.
Уже потом народная традиция стала трактовать «долгое сидение» как «девятилетнее сидение», а когда это предание вошло в письменные источники, например в «Записи о передаче светильника», то там уже зафиксировалось число «девять». Точно также народная молва говорила о «недвижимом сидении лицом к стене», из чего потом был сделан вывод, что Бодхидхарма в буквальном смысле девять лет не вставал и не выходил из пещеры. Но как раз в буддийских преданиях нет прямого упоминания об этом, здесь все реальнее: Бодхидхарма в течение долгого времени (возможно девяти лет) жил в небольшом горном ските, где занимался долгой медитацией. Все становится на свои места, предание обретает вполне реальную основу.
Тем не менее «долго-девятилетний» период чаньской практики стал нормой для учеников, устанавливая некий предел обучения, после которого способный ученик, слушая наставления истинного учителя, должен достичь просветления. В этом смысле весьма примечателен диалог между учеником духовного лидера Северной школы Чань «постепенного просветления» Шэньсюя, некого Чжичэна и Патриарха Южной школы Хуэйнэна. Чжичэн признается: «Я учился у Великого учителя Шэньсюя в течение девяти лет, однако так и не достиг просветления. Сегодня же, услышав Ваши слова, Преподобный, я познал изначальное сердце» [13, 167]. По сути, эта фраза – явный намек на то, что Шэньсюй – не истинный учитель, ведь он не смог привести талантливого ученика к просветлению за девять лет.

Кому была передана традиция?
Учителя Чань не только сумели сформировать великое учение – они сумели еще и глубоко запрятать его суть так, чтобы простым «любопытствующим странникам» было невозможно пробиться через внешне красивую, но абсолютно неправдоподобную ширму. А за ней, за этой красочной ширмой, как и принято в Китае, скрывается самое главное: вторая, или «тайная», линия передачи учения.
«Что это за тайная линия передачи?» – спросит читатель. Не то же ли это самое, что и знаменитый чаньский принцип, говорящий о том, чтобы не посвящать в знания людей из внешнего круга – «людей внешнего пути» (вайдао)? Нет, речь идет совсем о другом, и чтобы понять эту тайну, надо постичь саму суть передачи китайской «истинной традиции».
Китайский духовный трактат – всегда особого рода тайнопись, причем тайнопись, на первый взгляд, открытая для всех. Подавляющее большинство буддийских и даосских трактатов не только опубликованы ксилографическим (а сегодня и типографским) способом, но и получили широкое распространение в библиотеках монастырей, в домах чиновников, а ныне – и в электронном виде. Какая же тайна здесь может быть? Ведь это не каббала, где важен каждый знак, не метафорическое изложение европейских мистиков-алхимиков.
Давайте вспомним, о чем говорит традиционная версия передачи учения Чань: первый Патриарх Бодхидхарма передал патриаршество своему первому и единственному ученику Хуэйкэ, который и понес его дальше. Но вот что пишет в предисловии к «Речениям Бодхидхармы» монах Таньлинь: «В ту пору лишь два шрамана (то есть бродячих монаха) – Даоюй и Хуэйкэ, несмотря на свой ранний возраст, сумели доказать искреннюю решимость следовать учению Первопатриарха. На их долю выпала удача повстречать Наставника Дхармы, и они следовали Бодхидхарме в течение многих лет. Они с трепетом обратились к Учителю с просьбой наставить их и полностью восприняли его учение».

Три патриарха Чань (справа налево): 2-й Патриарх Хуэйкэ (487–593), 4-й Патриарх Даосинь (580–651), 6-й Патриарх Хуэйнэн (638–713). Однорукий Хуэйкэ держит трактаты, переданные ему Бодхидхармой, – символ сбережения знания
Вот как! У Бодхидхармы было, оказывается, два ученика – Даоюй и Хуйкэ! Причем Даоюй называется первым, а в Китае порядок имен очень важен. Значит, он был либо старше по возрасту, либо считался более опытным в буддийских учениях. Примечательно, что они вместе пришли к Бодхидхарме и оба «полностью восприняли учение», то есть получили полную передачу знания. А поскольку Даоюй идет в перечислении первым, то... Неужели? Теоретически, именно он и должен был стать вторым патриархом или, по крайней мере, руководителем школы. Но упоминания о нем крайне редки – по загадочным причинам он был вымаран со страниц истории, хотя, как видим, посвященные монахи знали не только о его существовании, но и о том, что он обучался у Первопатриарха и даже считался старшим. Вот именно здесь и появляется «тайная передача» – истинная линия развития Чань, передачи всей полноты мудрости и методики управления сознанием пошла по линии Даоюя, а не Хуэйкэ. Хуэйкэ в этом случае оказывается «внешней линией», равно как и все патриархи, последовавшие за ним.
Дословно имя «Даоюй» означает «Образованный в Дао», «Просвещенный в Пути».

Каноническое изображение Хуэйкэ из «Зала шести патриархов» Шаолиньсы. Современная копия, воссозданная по скульптуре XIII в.
По сути, перед нами несколько традиций. Одна говорит, что у Бодхидхармы был лишь один прямой ученик – Хуэйкэ, другая же гласит, что их было по меньшей мере два – Даоюй и Хуэйкэ, причем именно Даоюй был старшим. Третья традиция утверждает, что таких прямых учеников было четверо: Хуэйкэ, Даоюй, Даофу и монашенка Цзунчи. Именно у этих четырех перед своим уходом Бодхидхарма спросил, в чем суть Чань. Трое ответили точными и мудрыми фразами – и Бодхидхарма одному сообщил, что у «тебя моя кожа», другому – «у тебя моя плоть», третьей – «у тебя мои кости». Хуэйкэ же не стал ничего говорить, он ответил легким поклоном на вопрос, о котором рассуждать просто бессмысленно. И именно ему Бодхидхарма сообщил: «У тебя мой спинной мозг» – то есть суть. Учение-дхарма и ряса, то есть патриаршество, согласно этой версии, были переданы именно Хуэйкэ.
Правда, многие комментаторы и чаньские учителя считают, что в действительности никому Бодхидхарма так и не передал свое патриаршество в полной мере. Он был недоволен своими ближайшими учениками, о чем и свидетельствует его последний диалог с четверкой ближайших последователей, об этом можно подробнее прочитать в примере чаньских наставлений «Кости и плоть Бодхидхармы». Хуэйкэ оказался просто лучшим из худших, но он вряд ли был достоин воспринять всю суть Чань.
А, возможно, истинное знание было передано Бодхидхармой не Хуэйкэ, а кому-то другому. Мнение об «обманном знании» оказалось распространено весьма широко, вероятно, уже с IX в., фактически с момента завершения формирования общих основ Чань. В частности, трактат «Чуань фабаоцзи» («Записи о передаче драгоценности Дхармы») именует «созерцание стены» и «четыре типа деяний» просто «временными и частными методами той эпохи», которые «ни в коей мере не соответствуют тому, что проповедовал Бодхидхарма» [116, 356].
Все это отражает и тот факт, что вокруг патриаршества Чань сразу же возникли споры, формальные лидеры, которые получали одобрение двора (тогда он располагался в г. Лояне в провинции Хэнань) и даже именовались «государственными наставниками» (гоши), не совпадали с реальными духовными лидерами Чань. Последние активно сторонились всяких государственных постов и официальной деятельности, были не привязаны ни к карьере, ни к формальным должностям.
Не ясно, и сколько учеников было у Бодхидхармы, сложилась ли вокруг него большая школа или это было лишь несколько человек? Жили они в монастыре или в ските в горах? Таньлинь (VI в.) в своем предисловии к трактату «О двух проникновениях и четырех действиях» говорит, что у Бодхидхармы было два прямых ученика, «Записи о передаче светильника» – четыре.

Ваза из Шаолиньского монастыря, на переднем плане – Бодхидхарма, за ним стоит Хуэйкэ
Да и вообще, существовала ли действительно некая «линия патриархов», по которой и передавалось учение? Первым эту линию «выстраивает» монах Фажу (638–689), который был прямым учеником пятого Патриарха Чань Хунжэня (601–674).
Дело в том, что истинная традиция может передаваться только по прямой линии, от учителя к ученику, от «сердца к сердцу» путем непосредственного общения с наставником. О ней нельзя прочитать в трактатах. Так образуется идея о «линии патриархов», причем в данном случае патриарх (цзу) выступает не как «главный буддист», но как критерий абсолютного просветления, живущий рядом с обычными людьми. Патриархи существовали и в индийском буддизме, хотя вокруг того, насколько верна линия патриаршества, описанная в трактатах, до сих пор идут яростные догматические сражения. Поскольку китайский буддизм на первых порах «подражал» индийскому, такая же линия должна была возникнуть и в Китае.

Преподобный Ши Суси, последний из великих патриархов традиции Чань, бывший настоятелем Шаолиньского монастыря. По преданиям, именно ему перешла «тайная традиция» Бодхидхармы
Фажу первым пытается выстроить линию патриаршества, но здесь надо учитывать по крайней мере две тонкости: во-первых, эта линия касается только той школы, к которой принадлежал сам Фажу, другие школы ее могли и не признавать; во-вторых, ниоткуда не следует, что «линия патриархов» вообще существовала до этого момента. Просто Фажу надо было оправдать абсолютную истинность той традиции, к которой принадлежал он сам. И по сути, он выстроил в ряд тех учителей, к школе которых он сам и принадлежал. Уже потом именно эта линия закрепилась в традиции, в частности, она вошла в основополагающие трактаты истории Чань «Хроники из Зала патриархов» (X в.) и «Записи о передаче светильника» (XI в.). Бодхидхарма в соответствии с этой линией передачи является и 28-м Патриархом индийского буддизма и первым Патриархом буддизма Чань. Это как бы связывает воедино две традиции, а то направление буддизма, которое пошло от Бодхидхармы, может вполне претендовать на самую глубокую и истинную историю – ведь вся эта линия восходит к самому Будде! За Бодхидхармой уже выстраивается ряд китайских Патриархов: Хуэйкэ, Даосюань, Сэнцань, Хунжэнь и знаменитый 6-й Патриарх Хуэйнэн. По преданию, он завещал больше не продолжать линию патриаршества, поскольку учение Чань уже столь широко распространилось, что не может быть сохранено лишь в одной школе. Но устная чаньская традиция нередко гласит, что тайная линия патриаршества все же продолжается, просто она оказалась специально сокрыта в соответствии с важнейшим принципом «не передавать учение вовне», то есть вне посвященных школы. А это значит, что прямые наследники Бодхидхармы живут среди нас. Среди них чаще всего называют великих наставников монастыря Шаолиньсы.
Проповедь учителей Ланкаватары
Явился ли Бодхидхарма основателем учения Чань? Конечно же нет. И в догматическом, и в историческом смысле учение Чань существовало задолго до него. Он был всего лишь одним, безусловно, выдающимся учителем, который проповедовал особый тип практики – практики медитации.
Что же такое Чань с точки зрения сухой теории? Это особый путь к просветлению через медитацию, очищение своего сердца и обнаружение состояния Будды внутри себя. Как следствие этот путь базируется на том, что личный опыт человека, его подвиг внутреннего очищения ставится несравнимо выше, чем чтение трактатов, сутр – то, что так высоко ценилось в классическом буддизме.

По преданиям, Бодхидхарма оставил в монастыре Шаолиньсы для своих последователей специальные медитативно-гимнастические упражнения, а чуть позже из них родилось внутреннее искусство «Восемь отрезов парчи» (Изображение на стеле Шаолиньсы)
Даже во времена Бодхидхармы эта теория была не нова: ее активно проповедовал ряд учителей, которые базировались на основных постулатах «Ланкаватара-сутры» (кит. «Лэнцзя абодоло баоцзин», яп. «Рюга-кю»), поэтому они и именовались «учителями Ланкаватары». Бодхидхарма был одним из них, хотя эти наставники не образовывали единую школу, они нередко спорили между собой, но все сходились так или иначе на том, что просветление или даже очищение сердца возможно только путем медитации, причем медитации как пассивной – например сидячей, так и активной – через особого рода деяния.
Школа отнюдь не называлась «Чань», это было обозначением одного из видов монашеской практики: можно было возносить молитвы, читать сутры, а можно было практиковать «цзочань» – «сидеть в созерцании». Уже позже под «Чань» стало подразумеваться отдельное направление буддизма.
Долгое время у того учения, что передал Бодхидхарма, даже не было самоназвания. Примечательно, что в «Стеле Хуэйкэ» монаха Фалиня, где впервые рассказывается о встрече Бодхидхармы со своим единственным продолжателем Хуэйкэ, речь идет о «школе Дхармы умиротворения сердца» (аньсинь фамэнь). В китайском варианте «Ланкаватара-сутры» просто говорится о «Школе единой колесницы с Юга Индии» [11, цз.4]. Кстати, именно так – «Школа единой колесницы» (Ичэн цзун) – несколько раз именуется учение Чань в «Сутре Помоста шестого патриарха», чем как бы подчеркивается то, что Чань уравнивает «Малую колесницу» (Хинаяну) и «Большую колесницу» (Махаяну).