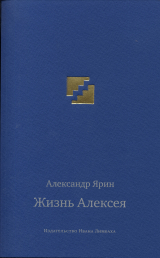
Текст книги "Жизнь Алексея: Диалоги"
Автор книги: Александр Ярин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Александр Ярин
Жизнь Алексея: Диалоги
Можно ли сейчас написать житие так, чтобы его было интересно читать и людям, далеким от церкви? Можно ли сейчас написать об Алексии человеке Божием, которого столько раз изображали и пером, и кистью, начиная ни много ни мало с V века? Написать прозу, состоящую из диалогов, в которых говорящие не названы по имени, а реплики разделяются одними лишь тире? Можно ли сейчас вообще написать прозу о таком давнем и далеком материале так, чтобы она захватывала читателя и не отпускала до самой последней страницы? Оказывается, можно, и в этом убедится любой, кто возьмет в руки книгу московского прозаика и переводчика Александра Ярина.
Вера Мильчина
Нижеследующие диалоги, если воспользоваться музыковедческим термином, представляют собой фантазию на тему некогда популярного византийского произведения Житие Алексия, человека Божия. Сюжет легенды вкратце сводится к следующему. Единственный сын, поздний ребенок богатого римского вельможи, тайно уходит из дому то ли накануне, то ли в ночь своей свадьбы, оставив безутешными сиротами нетронутую молодую жену и престарелых родителей. В своих многолетних скитаниях он обретает святость и, чтобы избежать народного преклонения, в рабском виде возвращается в родной дом. Здесь он, никем не узнанный, находит себе место у котлов на кухне, где услужает бессердечным слугам своего отца, между тем как родители и невеста-жена по-прежнему его оплакивают. Наконец он умирает, и в самый день его смерти во время церковной службы на обоих римских императоров нисходит от престола Божественный глас, который все им открывает.
Исследователи и простые читатели этого многослезного жития ломают голову, не в силах уяснить себе причин дикого и противоестественного поступка Алексия, принесшего столько горя близким и любящим его людям и поломавшего их жизнь. Я, разумеется, тоже не могу его понять, но надеюсь, что хотя бы отчасти приблизился к осознанию этого своего непонимания. Ведь, если вдуматься, в центре каждого литературного произведения, как в центре Земли, находится ядро непонимания, сверху покрытое расплавленной магмой сомнений, и уже потом – не такой уж твердой корой понимания.
В этой вещи содержится много исторических ошибок, противоречий и анахронизмов, но я, как говорится, их исправить не хочу, хотя бы в этом следуя великой литературной традиции.
Часть первая
Во времена те жил в городе Риме благочестивый муж по имени Евфимиан, синклитик. У него было три тысячи рабов, опоясанных золотыми поясами и одетых в шелк. Потомства он не имел, ибо жена его была бесплодна. Будучи весьма благочестив, он строго соблюдал заповеди Божии. Столь добрый муж постился всякий день до девятого часа. В доме своем он учреждал три стола – для сирот и вдов, для захожих людей и путников и для страждущих и нищих. Сам же вкушал от еды в девятый час вместе с захожими монахами и путниками. И всякий раз, как выходил из дому, творил заповедь милосердия и подавал милостыню нищим, говоря в душе своей: «Я не достоин ступать по земле Господа Бога моего».
Евфимиан, Аглаида.
– (Бормочет.) Помяни меня, Господи, недостойную рабу свою и дай мне плод от мужа, да будет мне сын…
– (Входит.) Десятый час, столы не накрыты, светильники не зажжены. Люди толпятся у дверей, но их не впускают. Не готова пища. Стыдно, мы принуждаем их ждать. Но еще хуже, что ждут не все.
– …сын, вождь моей старости, на нем же успокоится душа моя.
– Я часто гляжу на толпу из восточного окна триклиния и познал ее нрав. Радуюсь, заслышав ее гомон. Все множество лиц, повадок и обычаев я свел к трем. Вот потому-то и приказал учредить три стола в доме, чтобы сотрапезники чувствовали себя вольнее. Первый стол – для странников и монахов. Эти смиренны и горды одновременно. Они стучат в дверь и тут же отходят, если она заперта, хотя бы рядом толпился народ, ожидая, что вот-вот откроют. Вторые – сироты и вдовы… Ты не слышишь меня…
– …недостойную рабу свою… Прости. Через минуту все будет готово. Слуги нерасторопны. Я бессильна с ними сладить. Вчера Эгидий признался, что гнушается есть с чужими за одним столом. Многие недовольны, как и он. Отсюда их медлительность и неохота. Они просят отдельного места. Что мне ответить им?
– Придет время – они поймут никчемность своих притязаний. К чему четвертый стол? Разве не хватает и трех? Еды достанет на всех.
– Они хотят делить ее в своем кругу. Жалуются: дескать, хозяин позволил и нищим наслаждаться обществом себе подобных, мы же целый день на ногах, не имеем случая перекинуться словом даже за столом. От криков и грохота мисок звенит в ушах, теряешь близкие лица в этой толчее и гаме. Ропщут. Не уступишь ли им?
– К чему? На свете нет четвертой участи, кроме трех, виденных мною. (У дверей.) Здесь за дверью стоят сироты и вдовы, неподвижно, как сухие стволы. Я научился видеть их и сквозь дубовые доски. Кажется, что они ничего не ждут. Что они бросают тень в обе стороны: всегда здесь стояли и останутся навсегда. Но вот двери распахиваются, и они вместе с толпой вбегают в дом и едят так, словно ели всегда и никогда не перестанут. Для этих, бросающих две тени, второй стол. А рядом – стол для больных и калек. Это они колотят в дверь, дергают за кольцо, скребут по железу в неурочный час. Припадки не знают урочных часов. Передай слугам: кто слышит наружный ветер, тому не укрытие эти стены; кто не имеет ушей – судьба наставит его железной рукой.
– Я передам им твои слова.
– Скажи им: пусть не силятся множить судьбы мира. Я оставляю три стола. И не сам ли я делю хлеб со странниками? Не ты ли, их госпожа, ешь из котла с сиротами? Пусть Эгидий передаст мою волю слугам. Столов останется три. Да пусть поспешат отворить двери. Снова пора проветривать дом, взрывать излюбленный мною покой, рушить порядок, марать грязными лохмотьями стены, а пол объедками и плевками. Когда толпа врывается в дом, я подхожу к порогу и гляжу на опустевшую площадь, на траву, истоптанную между плит, чью-то сандалию, забытую на ступенях. Тогда мне кажется, что дом с площадью поменялись местами и на свете нет ничего надежного, кроме этого мягкого каменного бруса – порога.
– Ты господин, твое слово жестко в доме, так жестко, как скорлупа. Но, знаешь, приблизив ухо, я так и слышу: там внутри не тесная ночь зрелого плода, а кипящая смола сомнений.
– Жена, из всех людей ты одна умеешь – слухом ли, зреньем – войти, оставаясь снаружи. Ведь слух и зренье переносят и нас туда, куда проникают сами. Ты ближе мне меня самого, но и дальше любой незнакомой гетеры. Твой взгляд изощрился о мои черты, проник внутрь. Ты уже не видишь лица – что тебе твердость моей скорлупы?
– И вправду мы, женщины, всегда там, куда увлекают нас наши чувства. Наш взгляд, словно пара спиц, неустанно вяжет что-то в мужнем нутре. Где нам видеть ваш облик? На это мы слепы. (Проводит рукой по его лицу.) Только изредка будто очнешься от кропотливой работы и снова увидишь родное забытое лицо. Потому и родное, что забытое. (Снова легко касается его лица.) Но не надолго. Миг – и оно снова прозрачно для зрения, а на ощупь твердо, как лед.
– Что ж, я не таю от тебя своих сомнений. Душа во мне замирает и мечется от любого шороха. Выбирать и решать для нее – мýка. Мир вещей – наше проклятье, ведь даже простой взгляд на вещь пополам разрывает душу. Господь дал нам по паре ушей и глаз, потому любые образ и звук доходят до нас с трещиной посередине. В каждом взгляде таится ужас выбора. Но чем страшнее внутри, тем непреклонней мы снаружи. Человек слишком короток ростом, так может ли быть иначе? Я – опора своему дому и обоим императорам. На мне хозяйство, челядь, службы. На мне ты. Когда ноги, как мои, грузно стоят на земле, голова открыта всем ветрам. Каждый, кого гнетет долг, хватает ртом воздух тоски. Если же кто головой уперт в небо, тогда ноги его смешно болтаются в воздухе.
– Говори. Каждый раз, как ты говоришь, рядом словно бы вырастает гора и все, что вокруг, становится ей подножьем. Когда я невестой тебя увидела, мне стало дурно и нечем дышать, потому что в нее уходит весь воздух. Мир пустеет, когда ты говоришь, и ни о чем не надо помнить, ничего – знать.
– Я часто думаю: зачем мне эта мерность прибоя? Зачем тщусь раскрутить колесо своего большого хозяйства, которое я сделал как не свое. Приручить людскую волну, чтобы она лизала стены нашего дома… Ты снова далеко.
– …дай мне плод от мужа, да будет мне…
– О чем ты просишь Бога? (Она молчит, потупясь.) О сыне. Нет, не о сыне ты просишь – о большем. Просишь о будущем. О годах, которых нет, чтобы они пришли: «Да будет мне вождь в старости». Оставь. Не проси у Бога того, чего у тебя нет. Проси о том, что имеешь. Смотри, есть нищая толпа. Надо дать ей хлеба.
– (Подходит к окну.) Их впустили… Но как же? Ведь нищие просят хлеба?
– Они просят его у людей, не у Господа. Он сам их голосами просит хлеба у нас. Просит у нас свой хлеб.
– (Улыбаясь.) А что если я тоже прошу о том, что есть?
Когда же сын достиг надобного для учения возраста, ему преподали грамоту, и честное дитя в краткий срок усвоило все начатки знания, а затем грамматику и всякие церковные книги и, постигнув философию и риторику, стало премудро…
Риторика
Ритор, Алексей.
– Начинай бегло и твердо, сразу именуя того, к кому говоришь. Например, так: «Надежда, питаемая нами, Корнелий Спинтер, на твою поддержку и помощь, таяла с каждым днем, пока не сменил ее законный гнев». Или: «Флакк! Недаром дети, еще и не зная твоего прозванья, дразнят тебя вислоухим». Среди слушающих тебя найдутся и умники и хитрецы. Потому, если хочешь уберечься от себе подобных – ведь оратор что заяц или вор: и спасается от погони, и водит толпу за собою, – если хочешь, говорю, спастись, пусть речь твоя позади будет прямой и гладкой, как Аппиева дорога, впереди же – путаницей скользких тропинок. Следовать за таким словом удобно, перенять – невозможно: тебя будут гнать, не догоняя, и преследовать в надежде не поймать. Ты же каждым словом ныряй в гущу леса. И все время держи речь на изломе: позади дорога, впереди клубок глухих троп.
– Но как, не плутая, выбрать одну, верную? Второпях взвесить преимущества, сообразить выгоды и опасности?
– Неправда, что верная – одна. Ты сделаешь верной ту, по которой пойдешь. Избегай пустого – сравнивать доводы. Смотри: Тит – знаток и ценитель прекрасного. Терпя нужду, окружил себя безделушками и сам возделывает сад. Раб трепещет, подавая ему печеного угря на щербатом блюде, потому что вкус рыбы обладает привкусом, а цвет блюда имеет оттенки. Если же привкус у Тита не подружится с оттенками, то хозяин предпочтет оставаться голодным и накажет раба. Тит поднимается к Свету по мерцаниям, отблескам и переливам и сам мастерит для себя ступени. Не то – Сосий, Титов брат, бездельник. Этот не станет гнать флейтиста за одну фальшивую ноту и за десять не станет. В дребезжании звуков, в прокисшем сыре, в несовпадении сходственного он угадывает дорогу к Единому. Легко дотянуться до Высшего, и зачем подниматься с лежанки, если продолжением руки можно взять расстояние до Него? Отец равно любит обоих братьев, к обоим его благоволение. Итак, почаще вопрошай, не дожидаясь ответа, ибо остов речи составляют вопросы, речью же переполнен мир. Задавая вопрос, напрягаешь лук, поднимаешь копье, заносишь топор – и так остаешься наготове. Пусть также речь твоя льется прихотливо и как бы по капризу, но в последнем «я сказал» вдруг сверкнет план ясный, умопостижимый и симметричный. Тогда ученики будут прилежно записывать за тобой и наперебой клянчить тетрадь друг у друга. Тогда достигнешь главного – вещи станут втягивать головы, как огня бояться речи. Слово оратора губит все, к чему ни прикоснется: мир блекнет, речь наливается смыслом. Теперь возьми любую вещь на пробу и опиши ее, чтобы мне убедиться, что ты усвоил урок. Возьми что хочешь: книгу, дверь, чашу.
– Что сказать о чаше? (Подержав, ставит чашу на столик.) Ком земли, вдавленный посередине и краями поднятый в воздух… Или так: прозрачный шар, снизу обмакнутый в глину, – большой пузырь, вобравший воздух и зелень. Вода на дне, качаясь, колеблет его лучами… И это сравнение не лучшее. Но призовем на помощь воображение… Как подумаешь, трудно говорить в среде народа. Я слышу гул вокруг себя. Вижу множество лиц, все с незакрытыми ртами. Пестрое покрывало, стеганное нитями коротких речей – приветствий и шуток, пустых пререканий и быстрых сделок. Дерево, шумящее кроной. Можно молчать, пока не сгустится воздух и по листьям не побежит ропот недовольства. Но вот пора – гулко падает первая капля. Сейчас я уподоблю эту чашу тебе, учитель. Между тобой и ею нет ничего общего, но я построю цепь рассуждений, и она свяжет вас. Я видел твою речь – ибо твою речь можно видеть. Говоря ко всем, ты внимателен к каждому. С высоты своих уст в уста каждого шлешь невещественную золотую спицу, она же прободает ему язык и имеет на своей средине пронзенную глиняную лепешку, подобную круглому сирийскому щиту. Все вместе щиты образуют чашу. Разверстая к небу, она хранит содержимое от помыслов кругом сидящих. Как же иначе? Ведь дай волю, тот непременно скажет: ты говоришь одно, но уклоняешься к иному; другой: знаешь ли сам, о чем говоришь? Третий: об этом нам говорили раньше. Итак, оратор – чаша, кипящая светом, льющимся через край. Теперь я поищу второй довод… Но осторожно, учитель, ты ненароком сдвинул ее к самому краю столика… Второе сравнение противоречит первому, но ты стоишь в сердцевине обоих, и каждое держится тобой. Чтобы беречь содержимое, чаша сходствует с крепостью, но чтобы вмещать его, стенки должны быть тонки. Хороший гончар истончает их сколько возможно. В его руках чаша хочет исчезнуть, и лишь желая этого, она – чаша. Так же и ты, учитель, когда ведешь речь, весь облик твой блекнет, складки на лбу и щеках резче обозначаются, губы делаются бескровны и тонки и летают совсем беззвучно, – мы же слышим твою речь как бы отовсюду, – и сам ты будто вот-вот воскуришься, оставив по себе темный и синий воздух, пронизанный молниями сравнений: всего со всем и каждого с каждым. И не диво: ведь нас научают только потеря, только уход и смерть.
– Вот как? Чему же они нас научают?
– Ничему в особенности, но мудрости самой по себе. Смерть – наука. Лишь через поры отсутствия любовь и премудрость входят в мир. Теперь я назову третью причину вашего сходства… Что ты делаешь? Ах! вдребезги! (Опустившись на пол, перебирает осколки.) Собрать ее труднее, чем уподобить чему бы то ни было.
– Невмоготу мне было бы повсюду таскать ее за собою на цепях, что ты для нас выковал…
– Да, учитель, теперь ты от нее свободен.
– А будь у одного из нас терпенье, у другого досуг, и у обоих – охота, мы, чего доброго, обесплотили бы своими речами весь мир.
Грамматика
Учитель грамматики, Алексей.
– Смотри: солнечный луч горит уже на четвертой плите от двери и сейчас взойдет на перила. Ты заставил меня ждать.
– Моя вина. Друзья увлекли меня слушать пенье арфистки Заины. Если, говорят, не услышишь пенье Заины, не пойдет тебе впрок твоя наука. Отчего же не пойдет впрок? – спрашиваю. Говорю тебе, – Юний отвечает, – наука еще должна пойти впрок. А без того – какая же это наука? Бессмысленный вздор, вот и все. И сбили меня с пути.
– Что же, и ты не нашелся с ответом? Не вспомнил моих бесед? Нашей науке нет дела до молодых римских шалопаев. Равно как до греков, молодых ли, старых, эфиопов или гипербореев. Она не имеет нужды даже в языках. Языков много – грамматика одна. Грамматика наполняет мир. Корнями пробирает землю, ветвями живит и согревает воздух. Плоды ее отовсюду свисают, качаются у самых уст человека. Мысль человеческая, подобно быстро снующему дрозду, лишь с ее ветвей говорит свое слово… И стоит ли та похвал, расточаемых ей повсюду?
– Пришлось спуститься немного вниз, чтобы туда попасть. Там всегда веселье, курятся плошки и светло, как ночью. Мы с трудом пробрались в угол. Юний-скептик придвинул мне кресло и сам улегся возле. От душных благовоний и приглушенного шума голова моя пошла кругом и стало клонить ко сну. Я прикрыл глаза, обмяк и прислонился головой к Юниеву плечу. Оно то и дело подпрыгивало и беззвучно тряслось от смеха. Во сне я вспомнил ждущих: тебя, учитель, и еще какого-то человека, виденного мною раз ночью. Он стоял в узкой улице под дождем, прислонясь к стене и поставив фонарь на землю. Не знаю, сколько времени я спал. Вдруг знакомое имя коснулось моего слуха. Кажется, я очнулся. Заина пышная и уже начинает стареть. Она перебирала пальцами струны, притоптывала пятками и всячески кривлялась, подражая ребенку. Хотелось отвести глаза. Больше всего меня поразило то, что свои ужимки она проделывала в полной тишине. В смущении я огляделся по сторонам. Юний смотрел удивленно, но весело. Мои приятели с улыбкой обернулись к певице. Никто не выказывал недоумения. Я решил, что по-прежнему сплю, и стал прислушиваться к тихим звукам, долетавшим откуда-то издалека. Я люблю музыку и пенье, но лишь когда они мимо и даром. В ушах того, кому она предназначена, музыка слишком походит на слово.
– Ты заметил верно: слова же, летящие мимо, можно по праву уподобить музыке.
– …но тем легче мне было, воровато укрывшись за спинами сотрапезников, ловить ухом струю тонкую и негустую… С первых же слов я понял, что речь как будто шла обо мне. Я уселся поудобнее и начал подслушивать. Что-то вроде виноградной кисти клубилось у правого виска, и вникать в смысл не хотелось, потому что времени оставалось, кажется, еще очень много… Спешить было некуда. Когда чей-то далекий голос в самом твоем ухе тихонько решает твою судьбу, не станешь никуда спешить. Сперва я слушал с усмешкой, потому что я пересижу тебя, любая судьба, развалившись в кресле, как тесто в квашне! Напрасно ты кинешь в зеркало привыкший повелевать взгляд, он не найдет в глубине моего изображения, не найдет и самой этой медной тарелки, только рассыплется зерном по глухому камню стены. Юний беззвучно смеялся чему-то и тряс мою голову плечом, словно имел какое-то право на меня, и на певицу, и на все происходящее в той низкой комнате. Вдруг раздалось громкое, до потолка, ТЫ! – как будто лопнул над головой невидимый шар. Я вздрогнул. Я не верю тем, кто верит в непоправимое, но в ту минуту мне показалось, что случившегося поправить нельзя. Если бы это был приказ, я бы не стал его выполнять, если вопрос – я бы, может быть, ответил. Ты знаешь: я могу отбить летящий мяч из любого положения. Но здесь было другое: ни зов – ни просьба, ни окрик – ни отказ, ни да – ни нет. Весь мир склонился к маленькому винному пятнышку на ручке моего кресла и отдал ему свои силы. Во всем мире жило и дышало только оно одно. Оно приковало к себе мое внимание, и мне примерещилась такая картина, будто из какого-то войска прибежал гонец и упал у моих ног. Гонцу нечего сказать, потому что его самого выкрикнул истекающий кровью передовой отряд. Слово, вместе с пузырями пены выплывшее у него изо рта, тем более немо, и уж совсем пусто за душой у той вести, которая в этом слове.
– Продолжай! Разумом клянусь, ты снова на верном пути: за словом стоит вещь, но что стоит за вещами? Поистине они не обладают речью.
– Безглазое, как наши статуи в мастерской скульптора, присутствие внимательно смотрело из полусвета, и один взгляд на него был равносилен клейму на моем… Но не на чем ставить клеймо. Заглядывая в себя, я, по правде, не нахожу внутреннего человека. Натура, этот наследственный хлам, доставшийся мне от отца, – я брошу его в любую минуту. Это не меня, а мертвую куклу-наследницу растила возлюбленная моя мать, достойная Аглаида, не жалея сил и в надежде на лучшее. Она кормила ее, одевала, учила ходить и смело терпеть темноту. Но что мне до того? Я смел по натуре, ничего не боюсь? Но я смел не по натуре. Таким хотела сделать меня моя мать. Такой сделалась кукла-наследница, живущая во мне. Я знаю себя и бесстыдно трусливым. В этом высоком отцовском доме меня и прежде теснила мысль, что ни в словах моих, ни в повседневных делах меня нет и, наверно, никогда не было. Но тем и выдалось нынешнее утро, что я почувствовал вкус плода во рту: вдруг прояснившимся умом я понял, что мне нет места в этом мире звуков. Все пространство – на всех своих площадях, склонах, водах, полях, колодцах – болело моим отсутствием, как будто я этим разросшимся отсутствием осязал каждый его закоулок. Только одна точка никак не хотела растворяться в темной пустыне зрения: то гуляла где-то вдали, то забиралась под самые веки, словно одна томилась и тосковала по мне. Из этой точки показался тонкий, похожий на ивовый, прут и начал медленно расти. Тогда я весь подобрался и внутренне бросился на этот прут и стал сгибать его, как корзинщик, чтобы согнуть как нужно, пока он не перестал расти… А как было нужно и сколько ему еще расти – в этом я тогда не сомневался… Я старался изо вех сил и успел. Кривая нота немного повисела в воздухе и растаяла. Заина кончила петь. Раздались крики одобрения. Я стряхнул сон и встал, думая принять почести. Спасибо Юнию: вовремя схватил меня за плечо.
– Удержав твою руку, он уберег тебя от насмешек, которых ты не заслужил.
– Но разве не смешон тот, кто величается чужой заслугой и примеряет не свой венок?
– Так, но своим стараньем ты помог совершиться музыке. В иные возвышенные мгновенья ни за что бы ей не сдвинуться с места, если бы мы, слушающие и внимающие, не помогали певице… Существует, думаю, два рода звуков: обыкновенные, те, что люди обращают друг к другу, и иные, сами собой парящие в небе. Эти как бы окружены облаком сна или небытия. Чтобы приблизиться к ним, нужно пройти его насквозь.
– Как же нам преодолеть это названное тобою облако? Ведь погружаясь в него, мы лишаемся воли и сил, необходимых для движения. Теряем и хотение, и самую, кажется, душу, могущую хотеть.
– Из небытия извлекает нас всякий раз Божественная сила, вновь создавая в прежнем виде и вручая нам эту потерянную нами душу. И вот непреложное доказательство того, что Божеству приятно и угодно, чтобы мы творили прекрасное, а также верный довод против маловеров.
– Не будет ли правильным все сказанное тобою о звуках применить также и к словам?
– Почти так, ибо все это уже прежде было помыслено мною о словах и лишь теперь применено также и к звукам.
– Не сочти за дерзость, учитель, но, видно, и тебе пошло впрок пенье Заины?
– Наша наука равно охватывает слова, звуки и мысли.
– Выходит, в силу этого единства, что подобно тому как среди слов есть такие, что запрещены, изгнаны и как бы прокляты грамматикой, так и материя звуков сродни не гладкому и переливчатому виссону, но скорее походит на редкую мешковину, сквозящую дырами…
– Ты правильно понял. Да и царство мысли куда как скудно и сурово, а вовсе не изобильно, как думают иные поэты. Ибо мир, если приглядеться, до краев полон сущностей, которых нет.
– Благодарю тебя, учитель. Сегодня я получил много пользы от твоего урока.








