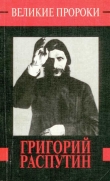Текст книги "Распутин. Правда о «Святом Чорте»"
Автор книги: Александр Владимирский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Новый тобольский епископ Алексий (Молчанов) лично взялся за это дело, изучил материалы, затребовал сведения от причта Покровской церкви, неоднократно беседовал с самим Распутиным. По результатам этого нового расследования 29 ноября 1912 года было утверждено заключение Тобольской духовной консистории, разосланное многим высокопоставленным лицам и некоторым депутатам Государственной думы. В заключение Распутин-Новый был назван «христианином, человеком духовно настроенным и ищущим правды Христовой». Таким образом, все официальные обвинения были окончательно сняты со «старца». Епископ Алексий, который воспринимал назначение в Тобольск с Псковской кафедры как ссылку, вследствие обнаружения в Псковской губернии сектантского иоаннитского монастыря, пробыл на Тобольской кафедре только до октября 1913 г., то есть всего полтора года, после чего был назначен Экзархом Грузии, возведен в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского и сделан членом Святейшего Синода. Не без оснований полагают, что здесь не обошлось без помощи со стороны Распутина.
Встречи царской четы с Распутиным возобновились. С царем Григорий теперь встречался почти ежемесячно, если находился в Петербурге. Встречи сводились, как и раньше, главным образом к беседам за чаем, но о чем они говорили, царский дневник молчит. Впрочем, встречаясь с министрами и генералами, Николай в дневнике практически никогда не отражал содержание разговоров с ними. 18 января 1913 года Николай записал в дневнике: «В 4 часа приняли доброго Григория, кот. остался у нас час с 1/4».
15 февраля царь отметил: «Григорий приехал к нам и побыл больше часу».
18 апреля Николай «после чая долго сидели с Григорием». 5 мая царь отметил: «В 6 час. был у меня Григорий».
6 июня Николай и Александра «после чая приняли Григория».
7 июля царь отметил целительные свойства Распутина: «В 7 час. приехал Григорий, побыл недолго с Аликс и Алексеем, поговорил со мною и дочерьми и затем уехал. Скоро после его отъезда боль в руке у Алексея стала проходить, он сам успокоился и начал засыпать».
А 8 августа царь «после чая увидел на минутку Григория и поехал снова в Красное». А 23 сентября он с супругой «видели Григория вечером». Еще одна встреча состоялась 5 октября.
Императрице Распутин как-то писал: «А Божий человек – ему и во хлеве рай». Но сам жил отнюдь не в хлеву. А еще Григорий в переписке и разговорах с царской семьей обличал аристократов, чувствуя в них своих врагов: «А гордость и надменность разум теряют. Я бы рад не гордиться, да у меня дедушка был возле министра, таким-то родом я рожден, что они заграницей жили. Ах, несчастный аристократ! Что они жили, и тебе так надо! Поэтому имения проживают, в потерю разума вдаются: не сам хочет, а потому, что бабушка там живала. Поэтому-то вой, хоть едет в моторе, а непокоя и обмана выше мотора.
Все-таки сатана умеет аристократов ловить. Да, есть из них, только трудно найти, как говорится, днем с огнем, которые являют себя в простоте, не запрещают своим детям почаще сходить на кухню, чтобы поучиться простоте у потного лица кухарки. У этих людей по воспитанию и по познанию простоты разум – святыня. Святой разум все чувствует, и эти люди – полководцы всего мира».
В начале 1914 года царь стал видеться с Распутиным еще чаще – практически дважды в месяц. С царицей же «старец», несомненно, виделся гораздо чаще.
2 января 1914 года император записал в дневнике: «Вечером имели отраду видеть Григория. Так было тихо и спокойно».
Эта запись доказывает, что Николай был столь же очарован «старцем», как и Александра Федоровна.
20 января 1914 года царь отметил: «Вечером посидели и пили чай с Григорием».
Следующая встреча, судя по дневнику, состоялась 2 февраля: «После обеда приехал Григорий, поговорили вместе часок».
18 февраля царь «во время службы видел Григория в алтаре».
20 февраля императорская чета встретилась с Распутиным на вечерней службе.
14 марта Николай записал: «Купался с Алексеем в моей ванне. Вечером посидели с Григорием».
Следующая встреча состоялась только 15 мая, причем на этот раз «старец» последовал за Николаем и Александрой в Крым. Царь записал: «Вечер провели с Григорием, кот. вчера прибыл в Ялту».
18 мая Николай зафиксировал лишь мимолетную встречу с Распутиным: «После обеда покатались в моторе в Ялте. Видели Григория».
21 мая Распутин покинул Ялту. Царь отметил в дневнике: «Обедали на нашем балконе, после чего покатались. Видели Григория и простились с ним».
Следующая встреча произошла 17 июня в Петергофе. Николай записал: «Недолго катался в байдарке. Вечером у нас посидел Григорий».
По-настоящему имя Распутина стало известно всей стране только в годы Первой мировой войны. И «старца» неизменно связывали с «темными силами» и «германскими шпионами». Поражения русской армии, вызванные общей отсталостью империи, общественное мнение предпочитало списывать на влияние «темных сил» и измену. Генерал А.В. Герасимов вспоминал: «Вооружение нашей армии было явно не достаточно, командование явно стояло не на высоте, и поражение следовало за поражением. Вчерашние оптимисты, готовые кричать, что они шапками закидают врага, теперь ударились в другую крайность. Всюду шли разговоры о предательстве в тылу, о тайных пособниках Германии, которые расстраивают дело снабжения, о темных силах, которые работают на дело поражения России. Такие разговоры шли и в верхах, и в низах. Особенно много внимания уделяли роли Распутина, по-настоящему ставшего известным всей России только теперь. О нем говорили по-разному, мне приходилось слышать солдатские разговоры о том, что царь теперь разуверился в дворянах и чиновниках и решил приблизить к себе «нашего брата, простого мужика», и что это только начало, что скоро вообще всех «дворян и чиновников» царь прогонит прочь от себя и наступит «мужицкое царство». Но более распространенным было другое мнение: о темных силах, в руках которых Распутин был только орудием. О Распутине говорили все, и в форме, которая унижала наше национальное самолюбие. Помню, в конце 1915 года даже один из знакомых французских генералов, приехавший в Россию в составе какой-то французской военной миссии, встретив меня на Невском, спросил весьма иронически: «Ну, какие новые распоряжения вышли от Распутина?»
Этот вопрос очень больно задел меня, и я ответил на него в достаточной мере резко. Но по существу я не мог не сознавать, что мой знакомый имел право ставить этот иронический вопрос.
Почти весь 1916 год я провел вне Петербурга, в Крыму. Вернулся в начале декабря и сразу же почувствовал, что за этот год атмосфера напряглась до невозможности. Чувствовалось приближение событий. Имя Распутина было у всех на устах. На святках пронеслась весть об его исчезновении. Вскоре стали известны подробности его убийства. Общие отзывы были единодушны. Все были рады: «Слава богу, наконец, с этим позором покончено».
Надо сказать, что Распутин войны не хотел, но тяжелая рана, нанесенная ему в результате покушения, о котором мы расскажем далее, помешала ему быть рядом с Николаем и Александрой в те дни, когда решался вопрос о вступлении России в Первую мировую войну.
Сейчас мы обратимся к одному весьма ценному источнику, описывающему Распутина в последние годы его жизни. Автор этих записок – поклонница «старца», не раз посещавшая квартиру на Гороховой, а до этого – на Английском проспекте, но в то же время проявлявшая к Распутину и его окружению чисто научный интерес, а потому старавшаяся описать все увиденное максимально объективно.
Автор этих мемуаров – писательница Вера Александровна Жуковская, племянница великого аэродинамика Николая Егоровича Жуковского. Их знакомство с Распутиным началось в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны. Вот как Вера Александровна описывает свою первую встречу со «старцем» и то, что ей предшествовало: «Я начала с того, что пошла к известному исследователю сектантства А. С. Пругавину, надеясь получить от него нужные мне сведения о Р. Я не ошиблась: Пругавин знал все, что вообще можно было внешне знать о Р., ближайшим другом которого являлась Анна Александровна Вырубова, интимнейшая подруга царицы, – одной записки которого, написанной крупными, корявыми буквами неверной, будто детской или пьяной, рукой к любому из министров, было достаточно, чтобы просителя немедленно удовлетворяли согласно его желанию. О близости к нему царицы и о его диких ночных оргиях под шумок говорил весь город, но громко никто не смел сказать слова из опасения, что слово это потом жестоко ему отплатится. А он сам, окопавшись где-то в самом сердце одурелой столицы, делал свое тайное темное дело. Какое? Вот это-то я и хотела понять. Это я сказала Пругавину. Он с большим огорчением посмотрел на меня и стал просить отказаться от моего намерения познакомиться с Р., т. к. последствия этого знакомства могут стать для меня гибельными. Но я повторила, что решила это твердо, и даже попросила его узнать мне адрес и телефон Р. «Пусть будет по-вашему, – со вздохом согласился Пругавин, – я сделал все, что мог, чтобы предостеречь вас, теперь я умываю руки».
На другой день он сообщил мне по телефону адрес и телеф<он> Р., он жил тогда на Английском проспекте, № 3, а телефон был 646 46. Я, конечно, не стала мешкать и тут же позвонила по апокрифическому телефону. Я случайно попала в редкую минуту, когда телефон Р. был свободен – как я увидала впоследствии, дозвониться к Р. было так же трудно, как выиграть в лотерею. Минутку постояв с, надо сознаться, сильно забившимся сердцем у телефона, я услыхала сиповатый говорок: «Ну кто там? Ну слушаю». Спрашиваю чуть дрогнувшим голосом: «Отец Григорий?» – «Я самый и есть, ну кто говорит? Али незнакома?» – «Говорит молодая дама. Я очень много о вас слышала. Я нездешняя, и мне очень хочется вас увидать, можно?» – «А откеле ты звонишь-то?» – с готовностью отозвался Р. Я сказала. «Знашь што? – заторопился он. – Приезжай ко мне сичас, хошь? – голос его выражал нетерпение. – А ты кака? красива?» – «Посмотрите!» – засмеялась я. «Ну скорее, скорее, приезжай, душка, ну ждать буду. Через полчаса приедешь? не можешь? ну через час, живее, душка!»
Менее чем через час я входила в подъезд огромного серого дома на Английском. Какое-то жуткое чувство охватило меня в этом широком светлом вестибюле. Внизу стояли рядом чучела волка и медведя; подъеденные молью, потрепанные шкуры вольных лесных хищников казались такими жалкими на фоне декадентского окна, на котором засыхал куст розового вереска, наполовину оголенные ветки его сиротливо выглядывали из-под безобразных зеленых бантов. Лифт остановился на самом верху. Отворив дверцу, швейцар указал мне на одну из высоких желтых дверей: «Вам к Распутину!» – и лифт сейчас же начал спускаться вниз, а я вспомнила, что он не спросил меня внизу, к кому я пришла.
На звонок мне отворила невысокая полная женщина в белом платочке. Ее широко расставленные серые глаза глянули неприветливо: «Вам назначено?» – «Да!» – «Ну входите. Нет, здесь не раздевайтесь, – прибавила она, видя, что я направилась к вешалке, – снимете там, если хотите». После я узнала, что привилегия раздеваться в передней давалась только тем посетителям, которые считались своими и проходили не в «ожидальню», так называлась приемная для просителей, а во внутренние комнаты.
«Гр. Еф. еще не вернулся от обедни», – затворяя за мной дверь в ожидальню, проворчала женщина. Большая комната была почти пуста, если не считать нескольких стульев, расставленных около стен далеко друг от друга, обиты они были грубым кретоном в новом стиле. Огромный неуклюжий буфет около нелепо раскрашенной печи с какими-то зелеными хвостами у карниза. В комнате трое посетителей: д<ействительный> с<татский> с<оветник> в вицмундире со звездой, плешивый в золотом пенсне, неопределенный субъект в очень плохом костюме с всклокоченной бородой и разными глазами…
Дверь из передней приоткрылась, и, шмыгая туфлями, поспешно, как-то боком вскочил Распутин. Раньше я не видала даже его портрета, но сразу узнала, что это он. Коренастый, с необычайно широкими плечами, он был одет в лиловую шелковую рубашку с малиновым поясом, английские полосатые брюки и клетчатые туфли с отворотами. Лицо его показалось мне давно знакомым: темная морщинистая кожа обветренного, опаленного солнцем лица его складывалась теми длинными узкими полосами, какие мы видим на всех пожилых крестьянских лицах. Волосы его, небрежно разделяющиеся на пробор посередине, и довольно длинная, аккуратно расчесанная борода были почти одного темно-русого цвета. Глаз его я не разглядела, хотя, войдя, он тотчас же взглянул на меня и улыбнулся, но подошел к субъекту в плохо сшитом костюме. «Ну што надо-то, ну говори», – спросил он негромким своим говорком, склоняя голову несколько набок, как это делают священники во время исповеди. Проситель стал излагать какое-то запутанное дело, из его слов я поняла, что это был сельский учитель, т. к. он несколько раз упомянул, что ему все сделала бы записочка к товарищу министра Нар<одного> просв<ещения>. Нахмурясь, Р. сказал нехотя: «Ох, не люблю я просвещении этих. Ну постой, ну ладно, ну жди, напишу». Затем он подошел к д<ействительному> с<татскому> с<оветнику>, но тот попросил разговора наедине. Р. посмотрел было в сторону вставшей, как все сделали при его входе, девушки, робко стоявшей у притолоки, но потом повернулся и направился ко мне. Подойдя совсем вплотную, он взял мою руку и наклонился ко мне. Я увидала широкий, попорченный оспой нос, скрывающиеся под усами узкие, бледные губы, а потом мне в глаза заглянули его небольшие, светлые глаза, глубоко скрытые в морщинах. На правом был небольшой желтый узелок. Сначала и они показались мне совсем обычными, но уже в следующую минуту мне стало неловко, и я почувствовала ясно, что там, за этой внешней оболочкой, сидит кто-то лукавый, хитрый, скользкий, тайный, знающий это свое страшное. Иногда во время оживленного разговора глаза Р. загорались нетерпимым блеском, и из них струилась какая-то неприятная дикая власть. Взгляд был пристальный и резкий, мигали его глаза очень редко, и этот неподвижный магнетический взгляд смущал самого неробкого человека. «Это ты, душка, утрием звонила?» – своим быстрым придыхающим говорком спросил Р. Я кивнула. «О чем хотела поговорить?» – продолжал он, сжимая мою руку. «О жизни», – ответила я неопределенно, захваченная врасплох, т. к. сама не знала, о чем я стану говорить с Р. Повернувшись к двери, Р. позвал: «Дуня!» На зов вошла смиренница в зеленой кофте и белом платочке. «Проведи в мою особую», – вполголоса сказал Р., указав на меня. «Идемте!» – пригласила она довольно приветливо. Мы вышли в переднюю, она повернула налево, провела мимо закрытой двери, сквозь которую слышались сдержанные голоса, и ввела в длинную узкую комнату с одним окном. Оставшись одна, я огляделась: у стены около двери стояла кровать, застланная поверх высоко взбитых подушек пестрым шелковым лоскутчатым одеялом, рядом стоял умывальник, с вделанным в дощатый белый крашеный стол тазом, по краю стол был обит белым коленкором, на краю около таза лежал обмылок розового мыла, на гвозде висело чистое полотенце с расшитыми концами. Около умывальника перед окном письменный стол, на нем плохонькая, вся залитая чернилами чернильница, несколько ручек с грязными перьями, карандаш, две бумажные коробки, полные отдельно нарванных листочков бумаги, масса записок разных почерков. На самой середине стола будильник и около него большие карманные золотые часы с госуд<арственным> гербом на крышке. У стола два кресла. Наискось от окна у противоположной стены женский туалет с зеркалом, совершенно пустой. В углу не было иконы, но на окне большая фотография алтаря Исаакиевского собора, и на ней связка разноцветных лент».
Прервем здесь повествование Жуковской. Бросается в глаза, что в обстановке квартиры Распутина, как и в его одеянии, роскошь соседствовала с простотой, и все находилось в состоянии беспорядка. Вероятно, сказывалось как отсутствие у Распутина хозяйки, так и его образ жизни, когда он часто ночевал не в квартире, а у друзей и подруг. Главное же, Григорию Ефимовичу, как кажется, был безразличен внешний вид своего жилища. Все внимание посетителей должно было быть сосредоточено не на обстановке, а на хозяине квартиры. Костюм же Распутин сохранял крестьянский, хотя и парадный и сшитый из дорогих тканей.
Жуковская вспоминала: «Придвинув кресло, он сел напротив, поставив мои ноги себе меж колен и, наклонясь, спросил: «Что скажешь хорошего?» – «В жизни хорошего мало», – сказала я. Он засмеялся, и я увидала его белые хлебные зубы, крепкие, точно звериные. «Это ты-то говоришь! – и, погладив меня по лицу, он прибавил: – Слышь, што я тебе скажу? знашь стих церковный: от юности моея мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, Спасе мой, знашь?» Говоря «знашь?», он быстро щурил глаза и бегло взглядывал острым хищным взглядом, мгновенно гаснувшим. «Знаю», – ответила я, недоумевая и не понимая, к чему он это сказал. «Ты постой, постой, – торопливо остановил он меня. – Я тебе все как есть докажу. Понимашь? До тридцати годов грешить можно, а там надо к Богу оборотиться, а как научишься мысли к Богу отдавать, опять можно им грешить (он сделал непристойный жест), только грех-то тогда будет особый – но сам мя заступи и спаси, Спасе мой, понимашь? Все можно, ты не верь попам, они глупы, всей тайны не знают, я тебе всю правду докажу. Грех на то и дан, штоб раскаяться, а покаяние – душе радость, телу сила, понимашь? Знашь што, поговей на первой неделе, што придет?» – «Зачем?» – спросила я. Он всполошился и близко наклонился ко мне. «Тута спрашивать неча, – забормотал он, – хошь верь тому, што я говорю, тогда слушать должна, а я тебе все скажу, всю правду докажу, ходи только ко мне почаще. Ах ты моя дусенька, пчелка ты медова. Полюби меня. Перво дело в жизни любовь, понимашь? От свово, да любимого, все примешь, всяко слово стерпишь, а коли чужой – то стану я тебе што хошь говорить, в одно ухо впустишь, а друго выпустишь. Посиди маненько, а я письмо напишу, пратецю просят»».
Тут следует подчеркнуть, что свою теорию: «Не согрешишь – не покаешься» Распутин проповедовал только своим поклонникам и в особенности поклонницам, но никогда не упоминал в письмах или разговорах с царской семьей. Поэтому у царя и царицы сохранялся светлый образ безгрешного, мудрого и святого «старца», бессребреника, равнодушного ко всем плотским радостям. А речь Распутина, точно зафиксированная писательницей, выдает человека, практически не читавшего книг или газет. Ему книги обычно читали поклонницы. Речь же «старца» осталась простонародной с сибирскими диалектными особенностями.
Опять обратимся к воспоминаниям Жуковской: «Подойдя к столу, он взял перо и стал писать, скрипя и громко шепча каждое слово, перо вихлялось в его руке как привязанное. Буквы, крупные, кривые, он точно нарочно прилеплял к бумаге. Отрываясь от писания, подбегал и целовал меня. Я сказала наконец: «Ну долго же им придется ждать вашего письма». Р. махнул досадливо рукой: «Ох, дусенька, больно уж не люблю писаний этих, то ли дело слово живо, а то гляди, што – чиста сажа, вот только и написал», – он протянул мне записку. Там стояло нелепыми каракулями выведенное: «Милой дорогой ни аткажиистелаи празьбу можише иму дать да Григорий». – «А что же вы не пишете кому?» – спросила я. Р. как-то растерянно улыбнулся: «А нешто я всех упомню, чай, сами знают, какому министру несть, а для меня все одно: милай, дорогой, – я всем так пишу. Сиди тута, сичас отдам», – и он убежал (такие безадресные записки Распутина превратились в своеобразную валюту и стоили дорого. Окружение Распутина во главе с Ароном Симановичем наладило бойкую торговлю этими записками. Наивные просители платили немалые деньги за бумажки, которые на самом деле в большинстве министерств и ведомств не стоили ничего, поскольку не принимались во внимание. – А.В.).
Вернулся Р. скоро и опять уселся против меня, сжав мои колени. Глаза его потемнели, и в них загорелся яркий блеск, наклонившись ко мне, он шептал поспешно: «Теперь не пушу тебя, раз пришла, должна теперь приходить. А то я с тобой ничего не поделаю, понимашь? Запиши-ка мне телефон свой», – заключил он, подавая мне лоскут бумаги и карандаш. Пока я писала, он, наклонясь, дышал в ухо, и едва я дописала последнюю цифру, как он спросил быстро: «Ну што же ты хотела о жизни со мною поговорить?» – «Скажите, знаете вы, в чем грех и где правда?» – спросила я. Р. посмотрел на меня с любопытством: «А ты знашь?» – «Откуда же мне знать?» – вопросом же ответила я. Р. усмехнулся какой-то непонятной, неизвестно к чему относившейся улыбкой. «Ты, верно, книг больно много читаешь, а толк-то не всегда в книгах этих есть, другие только мутят и с ума сводят. Есть у меня одна така на твой образец, может, знаешь, в<еликую> кн<ягиню> Милицу Николаевну. Всю-то книжну мудрость она прошла, а того, што искала, не нашла. Много мы с ней говорили, Умница она, а только покою ей не хватат. Перво в жизни любовь, а потом покой. А коли так ту безудержу жить, не получишь ты покоя. Вот она тоже о грехе спрашиват. А грех понимать надо. Вот попы, они ни… в грехе не понимают. А грех само в жизни главное». – «Почему главное?» – переспросила я, недоумевая. Р. прищурился: «Хошь знать, так грех только тому, кто его ищет, а если скрозь него итти и мысли у Бога держать, нет тебе ни в чем греха, понимашь? А без греха жизни нет, потому покаяния нет, а покаяния нет – радости нет. Хошь я тебе грех покажу? Поговей вот на первой неделе, что придет, и приходи ко мне после причастия, когда рай-то у тебя в душе будет. Вот я грех-то тебе и покажу. На ногах не устоишь!» Раскрасневшееся лицо Р. с узкими, то выглядывающими, то прячущимися глазами надвинулось на меня, подмигивая и подплясывая, как колдун лесной сказки, он шептал сладострастно расширившимся ртом: «Хошь покажу?»
Кто-то страшный, беспощадный глядел на меня из глубины этих почти совсем скрывшихся зрачков. А потом вдруг глаза раскрылись, морщины расправились, и, взглянув на меня ласковым взглядом странников, он тихо спросил: «Ты што так на меня глядишь, пчелка?» – и, наклонившись, поцеловал холодным монашеским ликованьем.
В полном недоумении глядела я на него: ведь не во сне же я видела это темное, горящее лицо, с крадущимся страшным взглядом и слышала злорадный шепот: «Хошь покажу?» А сейчас передо мной сидит простой мудрый мужичок с залегшими крупными складками на красновато загорелой коже, и его светлые выгоревшие глаза пытливо смотрели на меня, только где-то в далекой глубине этих небольших глаз мелькал тот беспутный и заманивал и ждал… Я встала: «Мне пора идти». Р. стал удерживать. «Ну што с тобою делать, – сказал он наконец, тоже вставая и крепко обнимая. – Только, смотри, скорее приходи. Придешь, што ли? – настаивал он, провожая меня в переднюю. – А как скушно станет, так телефоном звони, я сичась и подойду. Я всегда дома, разве што только Аннушка увезет в Царско. Когда придешь, дусенька. Хошь завтра вечером приходи в половине десятого, придешь?» – «Приду»…
У меня явилась мысль убить разом двух зайцев: сделать удовольствие А.С. Пругавину, дав ему возможность понаблюдать за Р. во время этого свидания, и обмануть сладострастные надежды Р. Я позвонила Пругавину, он, конечно, с радостью согласился сопровождать меня, и вечером мы поехали на Английский. На наш звонок дверь открыл сам Р. Заметив, что я не одна, он нахмурился, но я сделала вид, что не замечаю его неудовольствия. «А вот мой дядя! – сказала я весело. – Он очень хотел с вами познакомиться». Не отвечая, Р. сумрачно помогал мне раздеться и, снимая шубку, спросил шепотом: «Ты чего же это не одна пришла?» В полуоткрытую дверь столовой был виден накрытый стол, на нем, посреди двух больших ваз с фруктами, три неоткупоренные бутылки вина, обернутые тонкой розовой бумагой. Пока Пругавин раздевался, Р. поспешно вошел в столовую, взял бутылки и унес их в спальную. Мы вошли в столовую. Здесь вечером все казалось приветливее, ярко горел свет, на всех окнах цветы. Вошел Р. и хмуро спросил Пругавина: «Так ты ей дядя?» Пругавин подтвердил. «Ну што же, давай поцелуемся». Облобызавшись трижды, он усадил нас к столу и сел сам. Указывая на меня, Р. сказал, разливая чай: «Вот мы с ней вчера все спорили. Я ее убедить хочу, а она все не идет. Ну што, уверилась, што ли?» – спросил он меня. «В чем?» – удивилась я. Р. погладил меня по лицу. «Ах, душка, я все тебе докажу. Ну а как насчет того, штоб поговеть?» – неожиданно закончил он. Я не ответила ничего. Р. наклонился совсем близко: «Слышь, без раскаяния душу свою не найдешь. Ты меня только слушай. С жизни пример возьми: ежели ты кого усердно просишь, наверно тебе всяк сделат». – «Смотря кого просить, – сказала я, – все, кто имеет большую власть, только раздражаются на излишние просьбы, вот, я думаю, царь не любит, когда его просят долго, если он хочет исполнить, то и без больших просьб сделает». Р., прищурясь, посмотрел на меня: «Ты это почему царя вспомнила? он очень добрый, царь-то, я его вот ничуть не робею! Его што ни попрошу, все сделат». – «Вы ему хорошо делаете, и он вам», – медленно сказал Пругавин, как-то странно взглянув на Р. Р., привскочив, замахал руками: «Вот видать, што ты ничего не знашь: это я-то ничего не сделал плохого царю? да, думаться, во всей Рассеи нет никого, кто бы ему столько зла сделал, как я, а он меня все любит». Он внезапно замолчал и подозрительно вгляделся в Пругавина: «Ты не думай о том, што я сказал, – и он хитро усмехнулся, – все одно тебе не понять, в чем дело тута. А только помни, покеда я жив, то и они живы, а коли меня порешат, ну тогда узнашь, что будет, увидишь», – загадочно прибавил он. Мы все молчали, стало невольно как-то жутко. Словно сибирский колдун приподнял завесу темного будущего, и пахнуло оттуда чем-то неизбежным, как сознанная смерть. Я встала и прошла к окну, на нем стоял богатый складень – Александр Невский, Борис и Глеб, около, на маленьком столике, роскошная корзина гиацинтов. Р. тоже встал и пошел за мной. «Все шлют мне, – сказал он и, указав на большую корзину полуувядших ландышей, прибавил как-то вскользь: – Вот это царица прислала». Я невольно подумала, как равнодушно он относится к своему необычайному положению. Самомнения выскочки у него нет совсем. И, словно отвечая на мои мысли, Р. сказал: «Ах, пчелка, чем гордиться-то, все одно, все прах и тлен – помирать-то все одинаково будем, што царь, што ты, што я. Одна радость воля. На озерцы бы теперь на наши, на сибирски, в леса бы наши. Ух! высоки леса! Вот она где правда-то! вот она тайна. Ни греха не увидишь, ни страху нет – одна великая сила вольная. Вон она где!» Р. воодушевился, глаза его загорелись нестерпимым огнем, он точно вырос, и голос его окреп и звучал какой-то вдохновенной проповедью. Пругавин глядел на него не отрываясь, и я видела, как мучительно не хватает ему его письменного стола, карандаша и листочка бумаги, чтобы тут же записать слышанное. «Знашь што, выпьем вина!» – вдруг совершенно неожиданно, как он это делает всегда, закончил Р. И, быстро выбежав, вернулся, неся бутылку портвейну. «А старик твой пьет?» – спрашивал он, весело распоряжаясь, откупоривая вино, наливая в стаканы и пододвигая мне торт. Но Пругавин отказался, и Р. опять налил ему чая. Выпив стакан, Р. налил другой и, достав засунутые под поднос несколько конвертов, протянул их мне. «На-ка, прочитай-ка, што пишут». Я прочитала: все три оказались прошения, очень коряво написанные. Я попросила за одного – писаря земской управы, уволенного по наговору. «Ладно, поможем, – согласился Р. – Это к какому же министеру пратецю написать, душка? – деловито осведомился он, беря карандаш и листок бумаги, – надо быть, к Маклакову, он ведь по губернаторам, а земство-то, оно у губернатора. Ну давай писать. Эх, горе человеку неграмотному. И коли только время тако будет, штоб у русского мужика водки не было, а грамота была». Криво, крупно Р. написал обычное: «Милай, дорогой, нагавору веры нету писаренка варатитити рибяты плачат грех да Григорий». «Много несправедливости в жизни!» – заметил Пруг. «Зато на том свету хорошо будет, – живо откликнулся Р. – Ах, велика радость поношения». – «А там адом пугают, – сказала я. – А только я в ад не верю, неправда все это!»
Р. наклонился ко мне и до боли сжал мою руку. «Это в ад-то не веришь, – спросил он шепотом. – А хошь, я тебе его покажу, ад-то?» – «Ну как вы его покажете?» – сказала я с сомнением. Выпустив мою руку, он пристально, не мигая, смотрел мне в глаза. «Не веришь? ну погодь, поверишь, я коли тяжко захочу – много могу, приходи попозже, как ни то, хошь завтра. А он у тебя старик правильный, – неожиданно обнимая меня, заключил Р., – вот я тебя при нем ласкаю, а он ничего. А я всегда так, не могу я без ласки, потому душа через тело познается, понимашь? Вот погодь, може и ты поверишь, случится с тобою чудо, ты и поверишь. В чудеса-то веришь?» – «А разве жизнь, Гр. Еф., не чудо?» – вставил неожиданно Пруг. Р. весело засмеялся: «И правда, што чудо! На самом деле, кто я таков, штоб мне с царем из одной миски хлебать? мужик, как есть серый, села Покровского, ходил без сапог! а теперь вона гляди! Приходи ко мне завтра, – обратился он ко мне, – хошь? Всяких у меня увидишь. А еще одну увидишь, ленточну бешену. – Наклонившись, он положил руку мне на колено. – Ну как, пчелка, будешь приходить? Ах ты моя ягодка!» В глазах его замелькали буйные, темные огоньки, а дыхание стало хрипло, все ближе наклоняясь, он сначала гладил, потом стал комкать грудь. Я встала: «Мне пора». Р. отпустил.
Когда мы вышли на улицу, Пругавин, крупно шагая, заговорил возмущенно: он находил, что Р. преступный тип, ловкий шарлатан, научившийся своему искусству у какого-нибудь сибирского шамана. Что в нем есть колоссальная темная сила, и орудует он ею чрезвычайно ловко. Относительно женщин Пругавин думал, что дикое сладострастие Р. играет здесь решающую роль. Мы подходили к моему дому. Пругавин остановился. «А вы помните его загадочные слова? о царе? – спросил он медленно. – Вы запомните их! Что-то говорит мне, что в них разгадка этого дикого явления. Да, я думаю, Р. сыграет решающую роль в судьбе России и династии».
Мемуары Жуковской не оставляют сомнений насчет того, что чисто духовным общением со своими поклонницами Григорий Ефимович отнюдь не ограничивался. Слухи о его разврате были широко распространены в народе. А зная о близости Распутина к царской семье, крестьяне наивно полагали, что с царицей он поступает точно так же, как и со своими поклонницами, т. е. банально является ее полюбовником. Поэтому позднее, когда после начала Первой мировой войны Николай II возложил на себя орден Св. Георгия 4-й степени (на который, кстати, не имел никакого права, поскольку никаких военных подвигов не совершал), среди солдат русской армии широко распространилась поговорка: «Царь – с Георгием, царица – с Григорием». На самом деле никакой любовной связи у Распутина с Александрой Федоровной не было, царица царю никогда не изменяла, но убедить в этом толпу было уже невозможно.