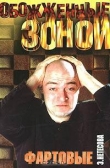Текст книги "Видение Апокалипсиса"
Автор книги: Александр Гребёнкин
Жанры:
Новелла
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
ВИДЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА
Рассказ
«И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»
Откровение Иоанна Богослова
***
Громыхали грозы далеко за синими горами, но здесь, в небольшом степном городке, дул сухой горячий ветер. Он нес запахи трав и горевшей степи, а также тоненькие электрические струйки влаги. Из-за духоты окно было отворено, и Васильченко, сидя на пружинистой кровати, смотрел в небо.
Давыдов наблюдал за его сухощавой сгорбленной спиной и вспоминал его рассказы о пережитом. Благодаря им его журналистский блокнот с листами в клеточку пополнился интересными записями, которые просто просились в рассказ.
Петро Трофимович Васильченко рассказывал свою историю уже несколько раз и разным людям. Сначала делал это горячо и пламенно, но, потом, сникал, когда чувствовал недоверие собеседников, и уже голос его становился спокойным и равнодушным, лишенным горячей энергии и убедительности.
Давыдову он поверил с самого начала и повествовал о своей жизни не раз, время от времени припоминая всякие подробности. Рассказывал доверчиво, наверное, потому, что журналист умел его слушать – тактично, спокойно, не перебивая, временами с каким-то детским молодым задором, с искоркой интереса в глазах. Петр Трофимович это ценил, его лицо сияло.
Постепенно обрывочные эти сведения соединялись в увесистом блокноте в связный рассказ.
1. ЖИЗНЬ
«Родился я в небольшом городке, на берегу небольшой речушки Травянки, впадающей в Днепр. Места наши очень живописны. Мы жили на окраине города, среди душистых лугов, покрытых ромашками, одуванчиками, диким укропом, молочаем, клевером, колокольчиками и множеством других цветов и трав. Перед грозами, которые часто посещали наши места, пронзительно пахло горьковатой травянистой свежестью.
На зеленых горбах, в окружении нависающих зеленым шатром ив, кудрявой ольхи, стояло несколько беленых, под соломенной стрехой, хат. Рядом, в камышах и верболозах плескалась и плавно текла река, на которой мы всегда удили с лодок юркую и гибкую черно-серебристую рыбешку. Иногда мы заплывали за поворот реки, в мутноватую заводь, где в зарослях жили тяжелые крикливые утки. Здесь плавали кувшинки, а по зеркальной воде скользили ловкие водомерки.
А далее, за нашим домом, пролегала улица, мощенная серым битым камнем. Там стояли невысокие кирпичные дома, виднелась церквушка, купола которой поблескивали на солнце. Когда был праздник, звучали дзвоны, и звуки их плыли, соединяясь с песнями птиц и тихим журчанием реки.
Читать я научился благодаря нашему пономарю, да так хорошо, что читал вслух моим батькам, которые очень любили мой задорный голос, и с удовольствием слушали взятые у местного учителя романы о море.
О море я мечтал еще с детства. Мне о нем много рассказывал наш сосед, матрос Черноморского флота Яков Стрилко, которого все называли просто Яцком.
Как-то мы плавали с ним на лодке и услышали крики о помощи. Помню, как Яцко, передав мне удочки, начал неистово грести в ту сторону, откуда доносились возгласы. Оказывается, с деревянного мостика в речку упала одна из наших девчонок – Полинка. Яцко нырял, а потом позже, на берегу, я видел бесчувственное тельце спасенной им девочки, облепленное мокрым платьем. Полинка мутными глазами обвела склонившихся над нею людей.
Уже в гимназии я создавал из дерева макеты кораблей и сочинял различные истории о пиратах.
Я очень завидовал Якову, который привозил из очередного плавания всякие диковинки, а потом, со своим деревянным сундучком, вновь уходил в море.
Я себя воображал моряком. С местными мальчишками мы соорудили плот, с настоящей мачтой и парусом из простыни, и под черным флагом отправлялись по нашей камышовой речке в пиратский рейд. В заводи мы, обмотав вокруг головы платки, как заправские корсары, устраивали сражения с лодкой соседских мальчишек, фехтуя деревянными саблями. Наши поединки порою принимали отчаянный характер, ибо приходилось драться с местной шпаной. Но это имело и свою пользу: с детства я научился драться и не обращать внимания на синяки, ссадины и ушибы.
В семнадцать лет мечтая о море, я сбежал из дома и, благодаря Якову, устроился на большой пароход помощником кочегара. В те годы я был рослым, жилистым и худым, до сих пор удивляюсь, как меня взяли.
Весь мир раскрылся передо мною, словно таинственная старинная карта. Я ходил в дальние рейсы, бывал в нескольких иностранных портах, даже начал самостоятельно изучать языки, надеясь в будущем стать капитаном, считая, что это пригодиться. Помню, как я купил на толкучке в Одессе русско-испанский словарь, стал заниматься… Но одно препятствие мне мешало – я не выдерживал сильной морской качки, и при малейшем шторме страдал ужасно. Как Яков меня не поддерживал, как не приучал – все было напрасно!
Помощник капитана сердился на меня, и пообещал, после окончания плавания, ссадить на берег.
– Тошнотики мне на корабле не нужны, – сказал он.
Для меня это был сильный удар, но, где-то, внутри себя, я понимал его правоту.
Мы отправились в последний рейс, и он оказался судьбоносным.
Наше судно стояло под загрузкой в Пуэрто – Нуево – порту Буэнос-Айреса. Был вечер. Гавань цвела флагами кораблей разных стран. Над флагами плыли тёмно-синие и розовые облака, которые, казалось, дотрагивались до верхушек мачт яхт и труб пароходов. В мутноватой воде покачивались апельсиновые корки, окурки. Прибой шумел у волнореза под ветром, пахнущим рыбой и арбузами.
Прохаживаясь в порту, на пирсе я заметил девушку. Ветерок овевал ее стройную фигурку, подчеркивая выпуклые дугообразные бедра. Крепкие загорелые ноги, ласкаемые ветром, грелись голыми пятками на горячей каменной площадке, а невдалеке стояли одинокие туфли. Черные густые волосы под резкими порывами капризного ветерка взлетали, будто крылья. Девушка кормила чаек, а затем, подобрав туфли, медленно пошла из гавани в город. Повинуясь какому-то внутреннему влечению, я зашагал за девушкой, любуясь ее упругой походкой. Еще, когда она проходила мимо, я уловил запах ее духов.
Когда она приблизилась к таверне, к ней начали приставать подвыпившие американские моряки, зазывая ее присоединиться к ним, обещая веселенький вечер. Они смеялись, совали ей в лицо сигару, предлагая закурить, окатывали дымом, а затем просто стали тащить за собой. Девушка отбивалась, словно пойманная чайка, и я, не выдержав, вспомнив все свои детские навыки драк «до первой крови», ринулся в бой.
Ох, и досталось мне! Если бы не Яков, не матросы нашего экипажа, не говорил бы я сейчас с вами! Я лежал под цветущими ветвями сейбы на матросской штормовке весь избитый, но девушка не уходила. Протиснувшись сквозь толпу, она склонилась надо мной и платочком вытирала кровь с моего разбитого лица.
А потом мы уже не могли расстаться с Мариэлой.
Пока судно стояло в порту, мы виделись ежедневно и не могли оторваться друг от друга. Мы танцевали на уличных вечерах танго «портеньо» (то есть портовое танго). Мы прогуливались по шумному городу, заходили в городские парки, отдыхая под густой тенью дерева омбу. Мы лежали на теплом песке солнечного пляжа, ощущая запах влажной морской соли. Мы плыли навстречу парусникам, груженым аргентинским зерном или чилийской селитрой. Наши уста сливались в жарких поцелуях. В ветхой деревянной лачужке под шифером, за старой циновкой, закрывающей нас от всего мира, мы предавалась жаркой и неистовой любви.
Но мне пора было отправляться в путь.
Мариэла лила слезы. Она уверяла, что не сможет жить без меня, что она совсем одна на этом белом свете. После того, как закрылся консервный завод, девушка осталась без работы и вынуждена была зарабатывать в креольском ансамбле в прибрежных тавернах. Там ее и приметили американские моряки. Сальные шуточки, похлопывание по спине, унизительные просьбы, настойчивые ухаживания, стали оскорбительной обыденностью.
Мариэла часто уходила в гавань. Сидела на причале, бездумно глядела на тихую синюю воду и давала волю слезам. У нее был брат Санчо. Но он ушел работать на сахарные плантации, и о нем давно ничего не было известно. Я не мог представить без этой черноглазой девушки дальнейшей жизни.
А она со слезами на глазах твердила: «Ох, мой бонито Педро, я совсем одна! Забери меня с собой».
Я понял, что расстаться мы не сможем, и стал упрашивать Якова, имевшего влияние на капитана, взять Мариэлу на пароход. Она может выполнять любую работу!
После различных трудностей и улаживания формальностей, нам все же удалось уплыть вместе. И вот мы стоим на палубе в обнимку, и соленый морской ветер ласкает наши лица!
Через время из туманной дымки показались родные берега. Мы поселились в нашем городке.
Когда я вернулся, отца уже не было в живых. Горечь от потери отца немного смягчалась тем, что моя возлюбленная была рядом. Более всего я переживал из-за того, как моя мать примет испанку. Но мои волнения оказались напрасными! Мать ласково относилась к Мариэле. Своим веселым характером испанская девушка вызвала симпатию и у моих родных. Они называли ее Марией.
Постепенно Мария-Мариэла освоила наш язык, хотя поначалу говорила гортанно, делая много жестов. Они с матерью занялись хозяйством, трудясь на нашем маленьком огородике.
Я оставил море, но очень тосковал по нему, как и Мариэла. Мы часто плавали по речушке на лодке, купались, удили рыбу. Я с увлечением рассказывал Мариэле о «морских сражениях» нашего детства, она задорно смеялась, но временами в глазах ее проглядывала грусть. Она тосковала по морю, по солнечной Аргентине, по пальмам и прибою, а наши осенние дожди и вовсе вызвали у нее глубокую печаль.
А вот снегу она радовалась! Для нее белые снежные хлопья, сугробы большие, словно медведи, замершая, будто стеклянная, река, были как чудо! С легким визгом она каталась на льду, играла в снежки и легко дышала свежим морозным воздухом, пахнущим дымком печных труб и свежестиранным бельем.
Особенно трудно приходилось Мариэле с ее верой. Она была католичка, а в тридцатые годы в нашей стране были закрыты католические храмы, многие иерархи оказались в лагерях. На всей европейской территории страны католических священников едва насчитывалось двадцать человек. К счастью для девушки один из таких священников жил в соседнем городе. Время от времени Мариэла ездила на моления в его тайную общину, но мы с мамой, как могли, отговаривали ее от этих поездок. Тем более по стране проходила грандиозная атеистическая пропаганда и к каждому верующему относились с подозрением. Мариэла ласково и спокойно убеждала меня в необходимости, хотя бы время от времени, пусть и в домашних условиях, в мыслях своих обращаться к Господу, но я только посмеивался над ее предрассудками. Знал ли я тогда, как сама жизнь опровергнет мои заблуждения?
В те годы я уже вовсю трудился на небольшом заводике сельскохозяйственных машин, построенном в одну из пятилеток.
Вскоре в нашей семье случилось прибавление – родилась чудненькая дочурка, которую мы назвали Лаурой. Черноволосая, с глазками орехового цвета, как у мамы. Мы развернули хозяйство, купили корову, и наша малышка росла и радовала нас.
Заветной нашей мечтой было побывать у моря, подышать его воздухом, понырять в синих волнах. Подкопив денег, мы, к шестилетию Лауры, поехали в Евпаторию.
Долгожданное море открылось перед нами в блещущей лазури. Южный ветер принес морю крупную лиловую зыбь. Мы думали, что наша малышка испугается тяжелых, темно-зеленых волн, но Лаура бегала у самого прибоя, радовалась чайкам и крепкому свежему соленому ветру.
Море кружило голову Мариэле. Мы, словно два дельфина, резвились на волнах, а вечером дышали морским воздухом, втроем сидя на берегу, и ветер развевал наши волосы.
Ласковым июньским утром мы вышли из дома очень рано. Море было спокойным, и мы хотели выйти на шаланде со знакомым рыбаком, половить скумбрию.
Но счастье никогда не бывает бесконечным, и судьба приготовила нам страшные испытания.
Известие о начале войны, словно плетью, больно ударило нас… Я очень переживал о матери, которая осталась одна на хозяйстве.
Помню, нам удалось уехать с большими трудностями. На вокзале была суматоха, у касс – давка и билетов не достать. Нам продал билеты втридорога цыганистого вида ловкий парень, обещавший, если необходимо, достать еще столько же…
Мы ехали, глядели на окружающий мир: другими стали проносящиеся за окном пейзажи, деревья замерли в тревожном ожидании, горестно плакали птицы, небо то и дело покрывалось черными тучами, за которыми мелькали призрачные сполохи красного зарева … Лица у людей были тревожными, глаза женщин блестели от слез.
Повестка из военкомата не заставила себя долго ждать…
Слезинка скатилась по моей щеке, тревожным комком сжалось сердце, когда эшелон с красноармейцами уходил на фронт… Гремели трубы оркестра, неистово заливалась разухабистая гармонь, я держал собранные в дорогу харчи, а перед глазами на уплывавшем от меня перроне, стояли дорогая моя мама, любимая Мариэла и чудненький цветочек мой – Лаура. Вот, чтобы не растоптали грубые немецкие сапоги этот цветочек, чтобы сберечь свой дом, своих любимых, отстоять свободу своей родины я и сжимал винтовку в пропахшем табаком и кирзовыми сапогами поезде, мчавшемся на запад…
И не знал я, сколько еще горя мне отмеряно жестокой судьбой!
Не буду подробно рассказывать о прибытии на фронт и о первом бое – об этом хорошо рассказывают многие бывалые солдаты в своих воинских воспоминаниях. Скажу только, что первый бой с фашистами оглушил меня. Как это было не похоже на наши детские сражения на плотах!
Но все же я вспоминал их! Закипела кровь во мне, взяв на изготовку винтовку с примкнутым штыком, шагнул я в свою первую в жизни атаку. И глотка моя издавала страшный вопль – крик ненависти к врагу, пришедшему отнять у меня все самое ценное, что есть на белом свете – моих близких, мой дом!
Помню, как пронзил я штыком безжалостно первого немца, и увидел его изумленные, покрытые пленкой страха и удивления глаза…
Воевать нас отправили на южный фронт. Добирались мы туда долго, в кузове большой машины. Ехали хмурые, неразговорчивые, пропыленные насквозь. Там я и познакомился с одним хорошим пареньком. Все называли его Василек. Глаза у него были синие, светлые волосы – словно перышки белого лебедя, и сам он был хрупким, совсем еще мальчишкой. Он был самым веселым и неунывающим из всех.
Ехали мы долго, говорили мало. Но он как-то сумел расшевелить меня. Доверился я ему, рассказал обо всем – о своей жизни, о Мариэле, о маленькой доченьке своей, о маме.
Василек тоже стал рассказывать о себе. Он ушел на фронт добровольцем прямо со студенческой скамьи, прибавив себе год, чтобы казаться старше. Были у него мама и сестренка, отец давно сидел в лагере, по словам Василька, по злому навету.
Я удивлялся терпению и оптимизму этого паренька. Мы, уже пожившие и опытные мужчины, были сирыми и понурыми. А он был уверен в победе, убежден, что сломим хребет врагу.
Но договорить тогда мы не успели.
Словно железные шмели загудели над нами самолеты с крестами на крыльях.
Машина остановилась, и мы рассеялись по пахучей безбрежной степи. По траве защелкали пули, загрохотали вокруг взрывы. Разбомбив вдребезги нашу машину, истратив запас бомб и пуль, враг скрылся.
Увидел я моего дружочка Василька – пуля угодила ему в лицо. Отчаяние душило меня, оттащил я своего друга подальше, но уже было поздно, посмотрел Василек в последний раз в мои глаза, и ушла его душа в небесные выси.
Так воевал я до осени. Научился переносить трудности, не бояться стрельбы, взрывов снарядов, холода и зноя. Я все ожидал писем от моих родных, но, после трех первых, пропахших слезами писем, весточек больше не было.
Все больше поступало известий о насильственно и жестоко изгаженных, измученных врагом родных городах и хатах…
Мы отступали, а коричневая нацистская чума все сильнее растекалась по родной Украине. И страшно мне стало за мать, мою жену и доченьку мою, кипели слезы во мне… Как, почему, зачем, чьей злой волей отобрано у меня это простое человеческое счастье? Почему мирный и тихий рай земной был взорван пришедшей с запада нацистской нечистью? Почему Бог допустил такое?
Так, в часы злой и жестокой годины, вспомнил я об отце нашем небесном.
И вырвались у меня слова Кобзаря, стихи которого наизусть знал мой отец и передал мне:
Когда с милой Украины
Кровь врагов постылых
Понесет Днипро, тогда я
Встану из могилы –
Лишь тогда я и достигну
Божьего порога,
Господу спою осанну…
А покуда я не знаю Бога!
Я подумал об этом – закипела в моем горле ненависть, слезы побежали ручьем из глаз моих…И потемнело вдруг небо, озарилось сполохами взрывов, дрогнула земля, загрохотали орудия. И упал я на землю, и набилась в рот земля мне, и волосы мои смешались с землей, и тело было накрыто ею… И лежал я глядя незримыми глазами в темно-синее небо, покуда не склонился надо мною враг.
2. ЗЕМНОЙ АД
Мир, движущийся в неистовой земной круговерти и ледяные глаза человека в сером мундире – это первое, что я увидел, придя в сознание. Смерть холодно глядела на меня из черного зева винтовки, руки сами собою поднялись к высокому вечному небу.
Что было дальше? Брели, подгоняемые нагайками, под внезапно налетевшим дождем, по раскисшему бездорожью к затерянной в безбрежной степи станции, словно жертвенный скот на убой. Перелески с березами и елями смотрели с укоризной.
Вахманы – предатели, ревностно служившие врагам, цинично раздевали нас под струями дождя, оставляя лишь нательные рубашки и кальсоны, избивали прикладами непокорных, выбивали золотые зубы, загоняли в клетушки вагонов.
Набилось – как селедок в бочку. В долгой дороге, лишенные элементарных удобств и медицинской помощи, некоторые из нас погибли от удушья и жажды.
Рядом со мною ехал Зейдельман – профессор – филолог, неизвестно откуда появившийся в этой степи. О себе он ничего не рассказывал. Росту он был невысокого, но физически очень крепок. При знакомстве он мрачно пожал мне руку, словно железными рукавицами сдавил! Ему удалось отстоять свои очки с толстыми стеклами, и он все осматривался. А потом подмигнул, и ловко блеснул серебристой рыбкой ножа, извлеченного откуда-то из рукава. Человек исключительной отваги, он, почти весь путь выковыривал дыру в стене деревянного вагона. Все на него шикали, боясь наказания, но он делал свое дело упорно и методично, и потом мы лишь глядели и не мешали ему. Зейдельману удалось задуманное. На полном ходу он прыгнул под откос, но вахманы тут же заметили, открыли огонь, и он упал у зарослей, недалеко от блестевшей реки. Потом приподнялся, окровавленный, и снова свалился в траву... Его так и бросили умирать, хотя, возможно, ему и удалось выжить – этого мне не ведомо. Дыру забили фанерой, и наш поезд с несчастными пленниками несся в неизвестность…
И привез он нас в такой ад – не дай Бог кому еще испытать!
Это был лагерь смерти, находившийся на Западной Украине. Здесь содержались в заключении русские и поляки, украинцы и белорусы, чехи и евреи, французы и итальянцы…Фабрика смерти включала в себя место, где содержались заключенные для работы, места, в которых складировали вещи уничтоженных людей, а также газовые камеры.
Увиденное и пережитое мною в этом загороженном колючей проволокой страшном месте, сильно пошатнуло мою веру в род человеческий! Ибо где еще можно было так наглядно увидеть, как люди издеваются над людьми, придумывая все более изощренные мучения и казни.
Практически ежедневно грохотали выстрелы. Убитые кусочками свинца из черных трубок смерти люди падали в яму, устремив невидящие глаза в далекое молчаливое небо. Попав в рабочую команду, я был вынужден закапывать трупы погибших в так называемой «долине смерти» … С тех пор промчалась вереница лет, а перед моим взором стоят лица погибших, их глаза, в ушах звенят их страшные крики.
Обреченные на смерть послушно, точно овцы, брели к яме, раздевались наголо по приказу лощеных людей в отутюженной форме. Оркестр узников играл «танго смерти», а затем в дело пускали винтовки и автоматы.
«Танго смерти» обожал комендант лагеря штурмбанфюрер Рихтер. Он купался в крови, его настолько захватила игра в высшего судию, что он еще и развлекался смертью – стрелял в заключенных прямо с балкона своей канцелярии. Причем выбирал тех, кто идут с работы плохо – хромают, явно больные, сломленные непосильным трудом. Для него это был уже отработанный людской материал, доведенный до состояния выжатого лимона, использованный полностью для нужд великого царства – «третьего рейха» новоявленного сатаны. Затем Рихтер передавал автомат своей жене, и она также стреляла с упоением. Их дочь, белокурая девочка лет восьми, хлопала в ладоши, восторженно кричала: «Папа, мама, ещё, ещё!» Ближайший помощник коменданта обожал выдергивать плоскогубцами ногти у своих жертв. Стоит только человеку заболеть, просто споткнуться, показать слабость или немощь – он немедленно уничтожался!
Каждый из офицеров охраны лагеря, словно соревнуясь друг другом, придумывал свои способы убийства людей. Можно утопить человека в реке или заморозить в бочке. Бросить в котел с кипящей водой. Подвесить вниз головой и запороть насмерть плетью…. Один из офицеров – Груббер обожал подбрасывать вверх грудных детей, отобранных у матерей, и стрелял по ним, как по летящей мишени. Дети падали тяжелыми грушами… Груббер при этом цинично отмечал, что если он до завтрака не убьет десятерых узников, то лишится аппетита!
Страшно вспомнить о «бегах смерти»! Их эсэсовцы устраивали для развлечения. Бегущих, напуганных людей травили хищными собаками, подставляли им подножки. Тех, кто спотыкался или падал, на месте убивали.
Был у нас в лагере врач – «собачий фюрер» Кляйн. Его так называли, потому что он содержал целую свору свирепых псов. Он проводил эксперименты – натравливал голодных и злых псов на раздетых донага заключенных, которых звери разрывали – тут же, на глазах! Однажды, когда один узник заболел, Кляйн натравил на него собак, которые его моментально растерзали. «В лагере нет больных, есть только живые и мёртвые», – часто любил повторять нацист.
Мало было просто жить и работать – важно было пройти проверку. Слабых и больных узников тут же перед строем расстреливали, остальных отправляли на работу.
Как-то занемог и я. Стоял, шатаясь, и товарищи, пожалев, спрятали меня, поставив во второй ряд.
Был дождливый сентябрьский день. Низко над горизонтом ползли свинцовые тучи. С деревьев уже падали первые мокрые, пожелтевшие листья.
Я стоял и смотрел в серое небо. Мне вспоминались последние минуты, когда видел своих близких. На удаляющемся перроне стояли мама, Мариэла и маленькая Лаура. Все это как-бы проносилось перед моим взором…
И вдруг мой взгляд встретился с глазами немецкого часового, стоявшего неподалеку на вышке. Я вспомнил, что уже видел этого ефрейтора еще при погрузке пленников на поезд, а потом – в группе солдат охраны, сопровождавших узников на работы. Его кажется называли Гофманом. Он был уже немолод, невысок ростом; запомнился его широкий рот и длинный нос, а также большие поблекшие, будто выцветшие глаза, словно равнодушные ко всему окружающему. В отличие от других фашистов он был более спокоен, сдержан, покрикивал на нас как-то деланно, неохотно, больше для порядка.
Он неподвижно стоял на вышке, сжимая в руках шмайсер. Его глаза внимательно всматривались в мои, по спине у меня проползал холодок, но от его взгляда будто становилось теплее и спокойнее. Мне показалось, что он даже опустил веки глаз, как будто слегка, едва заметно, кивая. Я также почти незаметным движением кивнул ему в ответ, и в это время осмотр закончился, меня благополучно миновали.
На душе у меня как-то стало легко, будто надежда какая-то появилась. С этой внезапно постигшей меня легкостью, я и отправился на работы в ближайший лес, у меня даже и сил прибавилось. А ведь приходилось поднимать и грузить огромные бревна в кузов машины. Я потрогал лоб – он был потным и холодным, в ногах была слабость, но я превозмогал ее, чтобы никто из конвойных не заметил больного. Мне почему– то казалось, что это тот немец на вышке мне помог.
С тех пор мы часто переглядывались с тем длинноносым немолодым немцем. Про себя я называл его Гофманом. Наверное, он действительно носил эту фамилию. Я вспоминал гимназические уроки немецкого и даже прояснил для себя значение фамилии Гофман. Мне кажется, что она образована от немецких слов «hoffen» («надеяться») и «Mann» («человек») и переводится как «человек надежды». Хотя, наверное, возможны и другие объяснения. Почему-то вспомнились уроки музыки в гимназии, и учитель играл нам сонату Эрнста Теодора Амадея Гофмана, немецкого композитора и писателя прошлого века, и уверял нас, что как композитор Гофман куда сильнее!
У нынешнего Гофмана был странный, почти магический взгляд и бездонные глаза, словно зеркало отражавшие целый мир.
Взглянув в его глаза вблизи (а это бывало во время работ, правда, длилось мгновения) я погружался в выцветшее море, и будто видел отражения окружающего мира и разные видения. Стояли какие-то дома, двигались люди, смеялись и плакали, скакали лошади, ездили кареты, играли оркестры – все это переплеталось, озарялось оранжевым и голубым светом.
Несмотря на молчаливую поддержку некоего Гофмана, мое заключение в лагере постепенно приводило меня к отчаянию. Я все больше понимал, что шансов выжить у меня практически нет, надежд, на то, что освободят свои, было тоже немного. Ведь нужно было еще как-то дожить, дотянуть до того времени.
И я начал обдумывать способ побега. Случаи бегства из этой тюрьмы были, но крайне редко они заканчивались удачей. И все же я решил сделать попытку. Моим спутником, товарищем в этом опасном предприятии решился стать Сантьяго Фернандес, испанский антифашист, сражавшийся во французском Сопротивлении. Непонятно каким ветром его занесло именно в этот лагерь, я не так блестяще знал испанский, чтобы углубиться в сложные перипетии его судьбы, а он недостаточно владел русским, чтобы все детально объяснить.
Сантьяго был уже немолодым, долговязым худощавым человеком с обильной сединой в волосах, бывших когда-то черными. Он носил острую бородку и усы, и чем-то напоминал мне Дон Кихота.
Лагерь стоял в глуши, окруженный смешанными лесами.
Последние четыре дня нас с Сантьяго присоединили к команде, направляемой на работы по заготовке леса. Дерево рубили, оно вздрагивало, совсем, как человек, потом стонало, медленно клонясь к земле, а затем рушилось на землю и замирало. Уже мертвое оно очищалось от веток, а огромное туловище с визгом распиливалось на части.
Обработанное дерево грузили в вагоны. Через лес было протянуто железнодорожное полотно, по которому проходил поезд, направлявшийся затем куда-то на восток, в сторону фронта.
Наш с Сантьяго план был прост: забраться в вагон, в который грузили мелкие ветки. Поезд охранялся слабо, и мы рассчитывали проделать это незаметно.
В тот день выглянуло рыжее солнце, которое словно танцевало на ветру, разбрасывая по осенним фиолетовым облакам золотые искры.
Сначала мы озябли на прохладном ветру, но затем интенсивная работа разогрела нас. С самого начала мы старались попасть в ту группу рабочих, которые грузила стволы и ветки в вагоны поезда. Для погрузки веток сегодня использовался товарный вагон, и, спустя время, он был почти полностью забит содержимым.
Обычно старший из охраны давал знак машинисту об отправке и для этого он проходил вперед, вдоль железнодорожного пути. Так было и в этот раз. Еще за работой следили двое немцев с автоматами, один из которых, рыжеватый, с небольшими усами щеточкой, подняв воротник шинели, чтобы защититься от ветра, уселся под деревом и закурил. А вторым был тот самый Гофман, знакомый мне длинноносый пожилой немец, который абсолютно равнодушно наблюдал за работой, то и дело поворачиваясь на месте. Этим мы и воспользовались. Когда он в очередной раз глянул на ту партию, что работала в лесу, его что-то привлекло, он обернулся, сделав несколько шагов к ним, мы с Сантьяго быстро залезли в вагон, и, не обращая внимания на неизбежные царапины, ползком пролезли в заранее подготовленную нишу в углу и уселись в ней, замаскировавшись ветками. Какое-то время поезд еще стоял, слышались голоса, а потом раздались шаги. Мы затаили дыхание. У двери кто-то стоял, внимательно всматриваясь в вагон. Мы съежились в своем тайнике. Желтоватый луч фонарика начал скользить по веткам, они замелькали в наших глазах серебряными полосками.
От света, попавшего в щель между ветками, я зажмурился, а потом открыл глаза. У дверей вагона стоял Гофман. До сих пор не могу понять видел он меня или нет. Но, как бы то ни было, прозвучали голоса команды, дверь закрылась, послышался стук закидываемого запора, и мы оказались в полной темноте. Голоса затихли, и у меня закрался страх: как же мы отсюда выйдем, если вагоны запираются снаружи? Мы могли рассчитывать лишь на окно, закрываемое изнутри, но полностью заложенное ветками.
Громко заревел паровоз, и поезд медленно тронулся, перестукивая колесами на рельсах.
Сантьяго двинул меня локтем, и во тьме я больше угадал, чем увидел его улыбающееся лицо со встопорщенной бородкой и усами в разные стороны: удалось!
«Погоди, дружище», – подумалось мне, – «рано ты радуешься».
Мы расположились поудобнее, вынули заранее припасенные сухари и начали посасывать их, чтобы унять чувство голода. Пахло срубленными ветками, листвой и хвоей.
От напряжения у меня заболела голова. И я старался унять боль, массируя виски.
Прошло достаточно много времени. Ритмично и мерно стучали вагоны, навевая дремоту. А затем пришел и сон. Пришло какое-то чувство равнодушия к тому, что произойдет: как будет, так и будет!
Ехали мы достаточно долго, минули, наверное, целые сутки, когда, очнувшись, мы поняли, что поезд стоит, наверное, на какой-то станции. Слышны были гудки паровозов, далекие возгласы людей. Скорее всего, была ночь, потому что сквозь щель в окне не просачивалось никакого света.
Обсудив ситуацию с Сантьяго, мы решили покинуть вагон, опасаясь, что утром, при разгрузке, нас немедленно обнаружат. Быть может это конечная станция… Мы как могли, уминали ветви, ломали их на мелкие части, стараясь добраться до единственного окошка. Вскоре нам, с большими трудами, уставшим и исцарапанным, удалось это сделать, но тут обнаружилось, что окно забито деревянным щитком. Началось самое трудное – мы пробовали пальцами выковыривать гвозди. Желание спастись из ловушки сделало свое дело: ломая ногти, изрезав пальцы, мы как-то подцепили и вынули два гвоздя, оставался третий, наиболее прочно вбитый, он не поддавался. Мы начали вставлять в образовавшие щели наиболее прочные стволы веток, и, с большими усилиями, взломали щиток. Это мы сделали с таким хрустом, что тут же затаились, испугавшись неизбежной реакции охраны. Но было тихо, видимо, в ночной час нас никто не услышал.