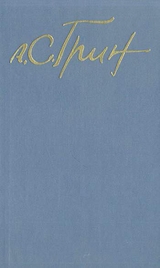
Текст книги "Таинственный лес"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Отдав вещи на хранение, Рылеев прямо с вокзала нанял извозчика. Дорога почти не утомила Рылеева; трое суток, проведенных в вагоне, были так малы в сравнении с пережитым, что вспоминал он о дороге менее всего как о времени. Но путешествие заставляло его чувствовать полный разрыв с прежним, оно само и было разрывом.
Сказав извозчику адрес, Рылеев весь взволновался, так неотвратимо было теперь, что эту улицу и дом этот он увидит, почувствует. «Какой это дом нумер двадцать девять, какая улица Чудовская?» – спрашивал он, бывало, себя раньше, получая Лизины письма, и, конечно, ничего не представлял себе, но дом и улица, как и все, что имело отношение к Лизе, были обвеяны для него таинственным любовным томлением; в дом этот и улицу, не зная их, он был влюблен тоже. Пасмурное летнее утро бросало на провинциальный город тень скуки. Шли, раскачивая поставленными на голову корзинками, татары, покрикивая: «Апельсины, лимоны хороши», из-за угла выехал порожний извозчик, старая дама в сопровождении кухарки шла с сумочкой на базар, мальчишки пускали змеев. И столичное разнообразие уличных впечатлений мешалось в голове Рылеева с дамой, змеем и апельсинами.
У деревянных ворот извозчик остановился. Рылеев удивился, что вот уже путь окончен, обрадовался и испугался, и вдруг определенно захотелось ему все еще ехать в поезде, думать об окончательном, вообще отодвинуть наступающий серьезный момент. Поняв, что это – слабость, Рылеев нахмурился, стараясь не смотреть на окна, расплатился с извозчиком. «Ну что же, как же произойдет все?» – беспомощно твердил Рылеев, идя по заросшим травой каменным плитам двора к желтому крыльцу с обветрившимися деревянными колонками. Ему вдруг стало так тяжело и так жаль себя, что на мгновение он остановился, глотая закипевшие слезы. «Не надо быть смешным, – сказал Рылеев, – иначе все пропало. Главное – не быть смешным». Заторопившись, он взошел на крыльцо, дернул звонок и тотчас подумал, что Лиза уже слышит звонок, но не знает, кто звонит, а когда узнает – произойдет неизвестно что, странное и по-своему радостное.
Кто-то, кашляя, сошел по внутренней лестнице. Это была маленькая, остролицая, с подвязанной щекой, старуха в кухонном грязном переднике.
– Вам что, батюшка? – сказала она, держась за крюк.
– Елисавета Авдеевна Громова здесь живет? – сдавленным голосом произнес Рылеев.
– Нет, съехали они, – сказала старуха. – Объявление повесили, давно уж.
Рылеев пристально посмотрел на нее, удивляясь, что эта женщина почему-то говорит о Лизе спокойным, простым голосом.
– Куда же переехала она? – спросил Рылеев, злясь на старуху за то, что она сама не догадается сказать ему это. – Куда переехала?
– А вот не знаю. Уж чего не знаю, так не знаю, батюшка.
– Как не знаете? – пугаясь, спросил Рылеев.
– А так и не знаю. Не сказались, а я им человек чужой, не моя болезнь.
– Как не знаете? – тихо повторил Рылеев, и все всколыхнулось в нем. – Всякая хозяйка это знает, а вы не знаете.
– Да, не знаю, – проворно и, как показалось Рылееву, торжествующе сказала старуха. – А у меня живет подруга ихняя – может, знаете? – Павлинова, вместе они и столовались; тай зайдите, может, ее спросите.
«Все разъехалось», – с досадой и острой тревогой подумал Рылеев. Показалось ему теперь, что так же далек он от Лизы, как три дня назад. Покраснев от неожиданности, Рылеев сказал:
– А что ж, зайду к этой Павлиновой. Проводите меня.
Он пошел за старухой, шагая через ступеньку.
«Какая это Павлинова? Может, Лиза все рассказала ей», – думал Рылеев и густо вспыхнул. Но смущение длилось один момент: входя в прихожую, он был уже скрытным, владеющим собой и холодно степенным в разговоре. Это произошло от сильного внутреннего напряжения.
– Тут вот, – сказала старуха, тыча рукой в дверь, – тут они живут, Павлинова, – стукнитесь.
Рылеев, прислушавшись, постучал, а внутри поспешно отозвались: «Можно». Старуха, вытирая руки о передник и оглядываясь на ноги Рылеева, ушла. Рылеев открыл дверь, вошел и увидел перед собой высокую, с простонародным лицом женщину. Серые ее глаза, однако, спокойной внимательностью своей обличали интеллигентную горожанку.
– Извините, пожалуйста, – сказал Рылеев, – я разыскиваю адрес своей знакомой, Лизаветы Авдеевны. Может, вы знаете?
Чувствуя, что подозрительно комкает речь и надо говорить подробнее, он поправился:
– Мне сказала, должно быть, ваша хозяйка, старуха, тут внизу. Вы, что ли, коротко с ней знакомы были? Так вот, пожалуйста. Позвольте представиться: Рылеев.
– А я – Павлинова, – сказала женщина и замолчала, пристально смотря в лицо посетителя.
«Как долго смотрит на меня. Наверное, все знает и теперь рассматривает», – с тоской подумал Рылеев. «Перестань глазеть!» – мысленно закричал он, а вслух сказал:
– Очень прошу вас сообщить.
– Да я не знаю ее адреса, – натянуто произнесла женщина. – Не знаю, не знаю.
Снова, как на крыльце внизу, Рылеев испытал противное ощущение нудной оторванности.
После такого ответа, разумеется, следовало извиниться еще раз и уйти, но он стоял и ждал, сам не зная чего, бегая глазами по углам комнаты. Она пестрела дешевыми обоями, было в ней много аккуратно разложенных книг, по стенам – открыток, и веяло скучной трудовой жизнью.
– А может быть, знаете? – подумав, спросил Рылеев.
Логика положения была за то, что эта женщина знает, но не желает сказать.
– Нет, повторяю вам.
– Нет, знаете, – твердо сказал Рылеев. Павлинова, слегка покраснев, нетерпеливо пошевелила рукой, глаза ее взглянули на Рылеева без смущения, раздумчиво, и по этому взгляду, а в особенности по тому, что сам хотел этого, Рылеев сразу, инстинктом угадал, что Павлинова не только знает, где Лиза, а знает, кто такой Рылеев, его положение и не сочувствует Лизе; но ему было уже все равно, что подумают о нем.
Шагнув вперед, он сказал:
– Вы знаете. Скажите, пожалуйста.
– Какое вы имеете право?.. – спокойно начала Павлинова, но, заметив, что Рылеев бледен и не в себе, вздохнула, опустила голову и прибавила: – Я знаю, правда, но вам не скажу.
– Почему? – раздражаясь, спросил Рылеев. – Какой же смысл?
– Лиза просила не говорить вам.
– Я все-таки прошу вас.
– Нет, извините.
Оба были взволнованы и то прямо, твердо смотрели друг другу в глаза, то отводили их. Прошло несколько секунд тяжелого молчания.
– Ну, так вот же, – глухо сказал Рылеев, – ради вашей матери…
Дальше он не мог ничего сказать. Горе, злоба и слезы давили его. Женщина еще раз внимательно остановила свои серые равнодушные глаза на Рылееве, губы ее дрогнули не то усмешкой, не то гримасой.
– Ну, – сказала она лениво и запинаясь, – я вам скажу. Знаете село Крестцы? Вот там. Там живет мужик Аверьянов, запишите: у кузницы, – у него и живет она на квартире.
Рылеев глубоко вздохнул. Ему не пришло даже в голову спросить, где это село и сколько до него верст. Сказанное Павлиновой без записи отпечаталось в его мозгу. По голосу Павлиновой было видно, что выдать секрет ей неприятно, но любопытно, как всякому, имеющему возможность повернуть хотя бы на вершок колесо чужой жизни.
– Спасибо, спасибо вам! – горячо сказал Рылеев и, взяв руку Павлиновой, пожал ее. – Пожалуйста, извините меня.
Узнав, что было ему нужно, он чувствовал теперь стыд за то, что выдал себя; но со стороны этого не было заметно, а казалось, что человек настойчив и странен. Поклонившись еще раз, Рылеев вышел на улицу, вспомнил, что в конце разговора Павлинова принужденно улыбнулась, и ужаснулся тому, что не в состоянии подойти к Лизе сам, что тут мешаются и будут мешаться чужие люди.
«Что же значит все это? – растерянно спрашивал себя Рылеев, выходя к рынку. – Почему село, Павлинова и что от меня скрывают?» – Глубокий тормоз неожиданностей топил все его планы и ожидания. Построив несколько бессмысленных, невероятных догадок, Рылеев усмехнулся, захотел есть и, поравнявшись с галдящей у дверей трактира кучкой мастеровых, вошел в заведение.
Едкая вонь щипала глаза; пахло кухонным чадом; у стойки мужики ковыряли пальцами в соусниках. Постояв, Рылеев из чувства брезгливости хотел уйти, но, подумав, сел к столику. Глубокая рассеянность овладела им. Сев, он тотчас же перестал и брезговать и удивляться себе, зашедшему в простонародный трактир.
– Что изволите заказать? – отвыкшим от подобострастия голосом, но тонно спросил половой.
– Суп, щей там… жаркое. И водки, – поспешно прибавил Рылеев, – немного.
– Графинчик возьмете?
– Ну, графинчик.
Он принялся есть, жадно, торопливо, глотая куски, а перед едой выпил три рюмки. Ударило в голову, стало немного терпимее. Когда заиграл оркестрион, Рылеев стал напряженно думать о будущем, почувствовал, как любима, враждебна, мила и далека теперь ему Лиза, и испытал ощущение, похожее на то, что чувствует нетрусливый путник, подъезжая на бойких лошадях к темнеющему ухабу. Хотя Рылеев и понимал, что это не что иное, как возбуждающее действие хмеля, все-таки ему было приятно чувствовать себя готовым на все. Он не замечал, что он действительно не совсем тот Рылеев, который аккуратно придумывал жизнь, сидя в библиотеке, но разница была еще так ничтожна, как между обрезанным и разорванным по сгибу листом бумаги. Неизвестность сосала его, хотя многое верно понималось им инстинктивно, но понимание это не переводилось ни на слова, ни на представления – род болезненного предчувствия; так иногда приведенный с завязанными глазами человек знает, есть кто или нет возле него.
Задумавшийся Рылеев очнулся, посмотрел вокруг; посетители не обращали уже на него внимания, машина гремела.
– Что это играют? – спросил Рылеев.
– Польку-мазурку, – сказал половой, отыскал глазами на столе рылеевский рубль, брякнул сдачей и отошел.
Рылеев вышел.
V
У печи, покрывшись, несмотря на духоту, тулупом, храпел на лавке ямщик; чернявая баба мыла квашню, а с улицы неслись плаксивые голоса мальчишек, играющих в бабки. Рылеев хлопнул дверью; баба сказала:
– Откеда едете?
– Лошадей надо, – сказал Рылеев. – Есть лошади?
Баба, перестав спрашивать, высунулась в окно, крича:
– Гаврюшка-а! Беги, злыдень, к хозяину, проезжающие, слышь; беги скоренько!
– Ти-тя-ас! – пискнуло в переулке.
Рылеев сел у стола, осматриваясь. Сбоку висел в рамке портрет лихого кавалериста с вывороченным набок деревянным лицом; конь поднялся на задние ноги, распустив хвост, а всадник стрелял из пистолета в воздух. В перспективе виднелся конный памятник Николаю I. Внизу вязью была выведена подпись:
«Конь Геркулес. Лейб-гвардии Кирасирского полка рядовой Иван Мухачев».
На подоконнике, в цветочном горшке, под засиженной мухами занавеской, рос лук, а у печи вместе с азямами и шапками болтался чересседельник. Мужик, спавший на лавке, высунул из-под тулупа всклокоченную голову, посмотрел на Рылеева, отвернулся, полежал несколько секунд в прежней позе, потом вдруг вскочил, почесываясь, и, не смотря на проезжающего, стал крутить цигарку. Он был бос, крепок, а лицом очень похож на всадника с пистолетом.
Кто-то прошел под окном; баба сказала:
– Хозяин идет.
Толстогубый, с серебряной на животе цепочкой, мужик в цветной татарской жилетке, надетой поверх ситцевой навыпуск рубахи, вошел в кухню, сказал в пространство: «Здрасте», – и уставился на Рылеева.
– Хозяин вы? – сказал Рылеев. – Дайте мне лошадей.
– Можно, – не сразу ответил мужик. – Да вы куда?
– В Крестцы.
– Парочку вам или одну?
– Пару лучше.
– Сею секундою. Иван, громоздись, поедешь с им, – сказал хозяин. – Обедал ты, я чай?
– Обедал. А очередь чья? – Иван взял валявшийся у лавки сапог за ушко и, подержав, сердито бросил на пол: – Кикину, чать, ехать.
– Да пьян ведь, – сказал хозяин. – Не лопнешь.
Ямщик сплюнул, оделся и вышел. Хозяин спросил Рылеева:
– Откуда будете?
– Скажите, чтоб скорее запрягали, – отозвался Рылеев.
– Нездешний, чай?
Рылеев промолчал. Мужик сердито посмотрел на него, ушел, хлопнув дверью, и скоро со двора донеслось фырканье выведенных лошадей. Рылеев посмотрел в окно. Иван возился с упряжкой, а хозяин стоял рядом, говоря:
– Занозистый, стрекулист какой, вези с прохладцой. Не дави брюхо кобыле, Ваня. Наказываю беспременно тебе, чтобы таратайку нашу Гужов пригнал, пускай свою купит.
– Ладно, – сказал Иван. – Володя, тпру, не куксись.
Володя был пристяжной, в темных подпалинах, мерин. Обладив запряжку, ямщик набросал в таратайку сена и вместе с хозяином вошел в кухню.
– Садитесь, господин, выходите, – сказал ямщик.
– Прогоны дозвольте получить, – враждебно заявил хозяин. – Два с четвертью.
Рылеев заплатил и вышел. Расположившись возможно удобнее, он подумал, что ехать будет покойно, и от этого по контрасту еще больнее повернулась в душе его мысль о Лизе. Иван, в желтом, верблюжьей шерсти азяме, похожем на больничный халат, влез на козлы, сказал: «Эй, вы!» Лошади, семеня, тронулись. Рылеев оглянулся и увидел в окне смотрящую, не мигая, вслед бабу; перед воротами толклись мальчишки.
– Конь Володя, – не то саркастически, не то по привычке сказал один из них.
Иван вынул кнут, лошади, взяв дружно, наперебой рвались вперед, колокольчик, позванивая, разошелся и заголосил. «Поехали», – подумал Рылеев, откинулся к плетеному задку таратайки, вынул папиросу и, морщась от глубоких затяжек, с жадностью стал курить.
Дорога шла слободой, потом, за последними заборами, открылся слева кирпичный завод, справа – выгон; по выщипанной зеленой траве бродили коровы, пастух лежал врастяжку, выправив ноги циркулем, рожок блестел возле него. День уступал вечеру, низкий свет солнца, растягивая густые тени, блестел в далекой реке желтым сплывом, за ясной линией берега медленно двигалась черная линия мачты, нежаркий воздух сырел. Скоро выехали на тракт, мелькнул верстовой столб, дуплистые березы потянулись с двух сторон, низкий гул телеграфной проволоки монотонно звучал над головой Рылеева, и скоро все звуковое в езде – стук колес, колокольчик, пенье проволоки, – установившись на однообразном меланхолическом ритме, дало вполне почувствовать Рылееву, как далек он от привычной для себя обстановки.
Сосредоточившись на цели своего путешествия, он стал невольно для себя переживать мысленно сцены воображаемой развязки всего: то горестные, то счастливые речи говорил он и в ответ слышал все, что хотел слышать, хотя воображал самые разнообразные положения, стараясь угадать будущее. Временами, стараясь развлечься, принимался он смотреть по сторонам и видел, что лес ближе, перелески раскидываются по холмам, верхушки маленьких елей светятся еще в последних лучах, а по лощинам притаились сплошные тени, и небо вверху бледнеет. Дорога змеей уходила в лес, пристяжной Володя, неуклюже тряся крупом, бежал, пофыркивая и мотая гривой, коренник, видимо, старался, а уши его вертелись во все стороны, слушая, не скажет ли чего ямщик такого, где будет слово «пегаша».
Иван, въехав в лес, отпустил вожжи, давая передохнуть коням, и повернулся на облучке лицом к Рылееву. Лицо ямщика показалось теперь Рылееву совсем похожим на кавалериста с пистолетом. Он сказал:
– Скоро станция?
– Десять отсюда. – Иван помолчал. – Уйду от этакого Ирода, – сказал он.
– Кто Ирод?
– А хозяин наш.
– Плох?
– Плох. – Иван полез за кисетом. – Мало сказать этого, а завсегда у него свербит, чтобы доконать человека. Одно слово – кашалот.
– Тай и уйдите, – радуясь разговору, сказал Рылеев.
По обеим сторонам дороги тянулась мелкая заросль можжевельника, мальв и пихты, а далее грудью стоял лес; в глубине его, засыпая, чирикали птицы. С невидимых болот сладко пахло гнилью и ландышами. Почти стемнело, бледный свет луны перебил тьму, стало тускло, рассеянный мглистый свет приник к земле. Снова обернувшись, Иван сказал:
– Чей сами будете, барин?
– Я из Петербурга.
– Питерский? – Иван оживился. – Знаю, бывал, ведь жил там, на службе был.
– Да это не твой ли портрет там на станции висел? – улыбнулся Рылеев.
– Как же, наш, – басом сказал ямщик, говоря во втором лице, по-видимому, оттого, что портрет конного молодца стал для него отдельно существующей личностью. – Мы и снимались на втором годе это, в Гатчине.
– Откуда же в Гатчине памятник? Там нет памятника.
– Так что ж! – Иван весело засмеялся. – Памятник для почету.
– Что ж, хорошо служить?
– Всяко. Разно. – Ямщик помолчал. – Та ли жизнь? – сказал он громко с воодушевлением. – Петербург – одно слово!
И вспомнил ли он портрет свой, засиженный на гаденькой станции непочтительными ко всему мухами, или затосковал по военной конюшне, где другой Иван чистит теперь Геркулеса, или же просто тихо и глухо показалось ему в лесу после блестящего, мелькнувшего как сон, столичного города, – только он вытащил торопливо из-под облучка кнут, свирепо взмахнул им, выругался – и бешено заговорили колеса, наполняя шумом стремительного движения уснувший лес.
Лошади неслись вскачь.
– Их, их, их! – покрикивал Иван.
Рылеева трясло, подбрасывало, сидел он в неловкой позе, подобрав ноги, но быстрая езда чем-то отвечала душевному его состоянию. Довольный, смотрел он ямщику в спину, замирая, испытывая особенное, подмывающее ощущение легкости и того, что вот в этот момент все хорошо.
Сплошной лес кончился. Потянулись лесистые острова, кружала: из низов, где серебристые от месяца и росы болота тянулись тонким дымком пара, понеслись к скачущей таратайке хороводы бледных лесных лиц, сотканных из полусвета и тьмы.
VI
Четыре раза переменив лошадей, Рылеев утром приехал в село Крестцы. Весь замирая, глубоко и часто дыша, смотрел он широко открытыми глазами, как выбегает дорога по косогору к зеленым холстам огородов, как, блестя крышами и стеклами, увеличиваются дома и быстрее, почуяв стойло, одушевленной рысью взбивают сухую пыль лошади. Ночь, полная бегущих за лошадьми видений, короткого, прерываемого тряской сна, предутреннего холодка, усталости и напряжения, кончилась. Рылеев посмотрел на часы – было восемь.
Проехали мимо осыпанной взлетающими и воркующими на карнизах голубями церкви; у двухэтажного, обшитого потемневшим тесом дома ямщик сказал лошадям: «Тпру». Несколько мужиков и баб, проходя мимо, остановились, равнодушно смотря, как вылезает Рылеев. Он торопился.
– А на станцию не зайдете? – спросил ямщик, видя, что Рылеев направляется в сторону.
Рылеев не ответил – он не слыхал. Вслед ему из-под руки смотрели вышедший на крыльцо в рубахе без пояса мужик с недоеденным куском хлеба в руке, две босые девицы и несколько белоголовых мальчишек. Двое из них вдруг сорвались с места, побежали за Рылеевым и, догнав, пошли рядом, сося пальцы и заглядывая исподлобья в лицо барину. Скоро они отстали. Рылеев шел быстро; он не хотел спрашивать на станции, где дом Аверьянова, во избежание пересудов и неизбежных расспросов. Молодой парень в суконном картузе, с завязанным глазом, медленно шел навстречу.
– А который Аверьянова дом? – спросил Рылеев.
– К реке вот так идите. – Парень взялся левой рукой за подвязанный глаз, а правой махнул вперед. – За углом, где забор разворочен, сруб ставят. Вот рядом будет Аверьянова.
– Спасибо, – сказал Рылеев.
Отойдя, он оглянулся. Парень стоял, смотря на Рылеева с тем замкнутым, ничего не говорящим выражением лица, которое свойственно только крестьянину, чувствующему себя дома. Отвернувшись, Рылеев поспешно, волнуясь все сильнее, вышел, как указал парень, к реке, повернул влево, увидел вокруг новенького сруба кучи ослепительных в солнце щеп и подальше – зажиточной внешности, двухэтажный дом. «Это, должно быть», – подумал Рылеев.
Через минуту он стоял у крыльца, потом очутился в сенях. Грудастая баба, бережно держа крынку с молоком, стояла перед ним. Он не помнил хорошо, что и как спросил бабу, помнил только, что женщина, толково, звонко и многословно голося, показывала ему пальцем на дверь. Внезапный страх овладел им, но чувствовал он, что по внешности спокоен и тих. «Да, я войду, увижу – и все кончится. А вдруг разрыдаюсь, брошусь к ней, и тут кто-нибудь войдет? Будет суматоха и стыд. Нет, надо владеть собой», – подумал Рылеев. Помедлив еще, он потянул дверь и вошел.
Лиза сидела у самовара. В комнате было светло, и Рылеев увидел девушку сразу всю, до мельчайших складок ее одежды. Как будто огонь бросился ему в глаза; он остановился, глубоко вздохнул и засмеялся. Первое ощущение его была живая, полная, облегчающая радость.
– Лиза, – сказал Рылеев, – не ожидали? Слава богу, я вижу вас, слава богу.
Лиза, уронив полотенце, быстро встала, держась за стул. Выражение ее лица было такое, словно ее ударили, она слабо улыбнулась и потерялась.
– Боже мой! – медленно произнесла Лиза и поднесла руку к горлу, как бы собираясь кашлять.
– Простите. Вы… я… Алексей?
– Да, Лиза, я. Давно-давно мы не виделись, – сказал Рылеев и остановился, не зная, что сказать дальше.
Испытанного и передуманного им за последнее время хватило бы на многие дни горячих, торопливых речей, но теперь все смешалось в нем, и мучительно чувствовал Рылеев, что, по крайней мере в первые мгновения, он ничего, кроме обыденных, простых фраз, не скажет и не услышит.
– Садитесь, – взволнованно шепнула Лиза.
От возбуждения и тревоги слово это сказалось ею почти одним движением губ; она отвернулась и заплакала, вздрагивая плечами. И в тот же момент Рылеев овладел собой, стал горестно спокоен, серьезен и нежен.
– Я рад, а вы плачете, – тревожно сказал он. – Да успокойтесь же, Лиза. Я к вам пришел другом.
Девушка прижала к глазам платок, вытерла лицо и села.
– Эх, слабость проклятая! – зло, по-мужски проговорила она.
В заплаканном ее лице уловил Рылеев намеренно чуждое, холодное выражение. Этого он ожидал, и к этому он приготовился. И потом все время, пока говорили они, он пропускал мимо сознания все красноречивые подробности взаимного их положения, стараясь верить, что эти мучительные подробности не важны, а лишь неизбежны. Он сказал:
– Лиза, я плохо сознаю сейчас, как я, где я. Я счастлив тем, что вижу вас. Но мне тяжко, что после десяти месяцев я не смею просто подойти к вам и радоваться. Я вот должен сидеть и спрашивать, как чужой объясняться. Скажите же, что произошло, почему это письмо?
– Как вы разыскали меня? – быстро спросила, девушка.
– Человек не иголка, – грустно ответил Рылеев. – Так мы чужие?
– Я вам писала. Не нужно было, Алексей, приезжать, спрашивать меня и мучить. Все кончено между нами.
Рылеев побледнел, улыбнулся и опустил глаза. Последние слова Лизы подняли в нем бурю упрямого отчаяния. Нестерпимо захотелось в горячих, отчаянных словах бросить всего себя к ногам женщины, но еще что-то мешало этому; он заключил жизнь в границы своего чувства, и несообразным с этим казалось ему, что так прост разговор их, а между тем действительно рушится все.
Он встал, подошел к Лизе и хотел, как прежде, обнять; но девушка не шевельнулась, и руки его сами собой в замешательстве опустились.
– Вы любите другого, Лиза? – сказал Рылеев.
– Да, – виновато, по-детски сказала девушка. Глаза ее вопросительно поднялись к Рылееву, но остались чужими. Жалость и гнев овладели им: в «да» этом он был уверен, но теперь действительность посмотрела ему в лицо своими ужасными, немигающими глазами. Потрясенный, Рылеев сел. В окне мелькнул женский платок; почти тотчас же, скрипя дверью, вошла та самая баба, которую встретил в сенях Рылеев. Сложив руки под грудями, баба уставилась на Рылеева.
Щекастое ее лицо выражало припадок истерического бабьего любопытства.
– Что, хозяйка, тебе? – холодно спросила Лиза.
– Сродственник будете? – заговорила баба. – Мы ведь неученые, темные, за обращение извините; и как это завидела я, к гостям пазуха свербит и свербит; корову доила, думала: и кому же быть? А уж я вас, миленький, золотой, как и звать-величать, не знаю.
– Ступай прочь, – коротко приказала девушка.
– А ты не гордись, – вдруг вспыхнув, басом сказала баба, – чай, не писаря жена.
– Пошла вон! – крикнула, вскочив, Лиза.
Баба осклабилась, подняла руку и, навалившись спиной на дверь, исчезла.
– Все лезут, все знать надо, гады! – помолчав, произнесла Лиза.
Лицо ее оставалось еще некоторое время гневным и раздраженным; удивленно смотрел на него Рылеев – так быстро и круто менялось оно. «Та ли это спокойная, немного дичок – Лиза?» Баба стояла еще перед его глазами нудным видением. «Противно, словно в лицо плюнула», – подумал Рылеев.
– Что же, расстанемтесь, Алексей… – тоскливо сказала девушка. – Я любила вас.
– Да, расстанемся. Нет, не могу, не в силах! – почти крикнул Рылеев, и вдруг страдание его перешло предел, в котором можно хоть сколько-нибудь сдерживаться; с истинным, мятежным облегчением ощутил он, что дал наконец волю себе и не остановится, пока не скажет всего.
А когда заговорил, то увидел, что и не подозревал раньше, как может сказать о любви, – это было ему чудесным подарком, откровением; без усилия, торопясь покориться озарившей, пересилившей его самого тоске, Рылеев сказал:
– Уйти я не могу. Вопреки вашей воле я рвусь к вам. Я – конченый человек, Лиза; днем и ночью я вижу вас ярче дневного света; любите вы другого или нет, ненавидите меня или нет – я не могу разлюбить вас; с тоской и страхом думаю я теперь, что мог жить вдали. Где бы ни были вы – в радости или горе, в позоре, несчастии, нищете или довольстве, – как бы ни относились к вам другие, если бы даже имя ваше произносилось повсюду с отвращением и стыдом, если бы вы стали безобразной, слепой, если бы вы мучили меня всю жизнь, – никогда я не перестану любить вас. Ведь у меня не было счастья; все, что сохранила память от моего прошлого с вами, вы теперь разрушаете и молчите. Я – мужчина, жизнь давалась мне нелегко, везде горбом с детских лет, очерствело сердце, а между тем я думаю, что хорошо плакать, но нет слез. Как хотите, так и думайте обо мне. Я все отдам вам, Лиза, – все будущее мое, всего себя, буду жить с вами – и буду этим так горд и счастлив, как никто на земле. Всегда, неотступно я буду представлять вас только на моих руках, у сердца. Скажите мне, Лиза, доброе слово по-прежнему.
Лиза болезненно улыбнулась, лицо ее стало осунувшимся и печальным.
– Вы все забыли, – хрипло сказал Рылеев, – а я все помню. Когда я уезжал, у вас было вот такое же, как теперь, лицо.
– Как забыла? – сказала девушка, рассматривая чайную ложку. – Нет, не забыла, конечно. Вас так долго не было возле меня. Много легло между нами.
– Неправда, – задумчиво ответил Рылеев. – Что хочет человек, то и делает. Но я стал чужой вам.
– Я ничего не знаю. Мне больно, очень тяжело, Алексей. Оставьте меня.
– Я уйду, – сказал после короткого молчания Рылеев. Он встал, дрожащими, неповинующимися пальцами застегивая пуговицы пиджака, хотя в этом не было никакой надобности. – Вот и все.
– Простите меня, – плача, сказала Лиза. – Или нет… Вы где остановились… в городе? Подождите там два-три дня, я напишу вам или приеду.
– Зачем? – похолодев, как от оскорбления, произнес Рылеев. – Милости я не прошу, не надо.
– Вы не понимаете, – быстро раздражаясь и топая от волнения ногой, заговорила девушка. – Не напишу и не приеду, и так может быть. Но подождите… ради себя… Я здесь на заводе служу в конторе, мне идти надо…
– Лиза, – просияв, сказал Рылеев и протянул руку. Девушка скользнула по этой протянутой руке своей – маленькой, горячей, как у больного ребенка, – и спрятала за спину.
– Не надо, не надо ничего, – полушепотом произнесла она. – Уходите. Уходите. Пожалейте меня. Уйдите.
Несколько мгновений, как оглушенный, неподвижно стоял Рылеев, смотря на опущенную темноволосую голову, потом отвернулся, толкнул дверь, и прохладный воздух сеней пахнул в его разгоревшееся лицо свежей волной. Рылеев медленно вышел на улицу. За изгородями переулка, на выгоне у реки валялись, лягая копытами, жеребцы; летний цветистый блеск солнца резал глаза. Неверными шагами, как избитый, Рылеев вышел к огородам, не заботясь о том, куда идет, пьяный от горя и слабости. Жизнь показалась ему вдруг отвратительным сном.
«Зачем я здесь, в каком-то селе?» – подумал Рылеев.
Лиза, опустив голову, сидела перед ним всюду, куда он обращал глаза: на сложенных у изб бревнах, в дорожной пыли, на картофельной зелени. Но была, смутно бередя душу, тень сомнения в том, что все кончено, – тень уродливая, без радости, улыбок, отчаяния и надежды.
VII
Работа не клеилась у Звонкого. Сумрачно поплевывал он на клин, острил его, метился при ударе быстро и точно, но или руки не слушались, или выскакивал, как тугая из шипучего вина пробка, клин, или в обрезке сырые слои, проеденные сучками, закручивались штопором, и не раскалывался обрезок. Звонкий повалил четыре сосны, обрубил сучья, распилил на куски стволы – и все с помехой: заедало пилу, соскакивал с топорища топор, и долго отшибленные ныли пальцы.
Близился сырой, полный мошкары вечер. Неподалеку от Звонкого, в разлапистом просвете ветвей, над большим столетним деревом трудился Петруха – подпиливал его, взяв от земли пол-аршина. Невидимый, торопливо стучал топором Демьян. Мечтая об еде и лежке, Звонкий приходил понемногу в окончательно дурное настроение; разломило спину и шею, и стал он колотить как попало, думая: «Полсосны расколю – шабаш: рубль с четвертаком заработал». Сделав так, Звонкий сложил готовые дрова в поленницу и с папиросой в зубах пошел к Петрухе.
– Айда чай пить, – сказал Звонкий. – Будет и тебе, Петруха, горб мылить.
– Вот спилю, повалю.
Петруха крепче забил в щель клин, встал, взял то? пор и сделал на другой стороне дерева глубокий рубец; теперь, чтобы сосна упала, следовало добивать клин. Ломаясь на рубце, ствол падал.
– Коська, – сказал Петруха, бросая топор и ссыпая в ладонь из кисета остатки махорки, – пойдем на прииска, надоело мне тут… Лодырь ты, – прибавил он, усмехаясь, – наплачешься с тобой в товарищах.
– Я и один не пропаду, – сказал Звонкий, – везде с народом был, жил, жив, слава богу, мать твою курицу, в Баке с татарами жил.
И от скуки захотелось ему поговорить так, чтоб другому завидно стало.
– Мазут из фонтана добывают, – помолчав, сказал он, – сверлом землю долбят, на канате махает, так вот в нутро и облицуют трубой, а мазут спертой как дрызнет из низов, снесет постройку, на полверсты в небо хвостом все зальет, и надо его убрать. Тогда канавки роют, а по канавкам в лезервуары; день и ночь в канавке стоишь, сор отбиваешь, чтобы не засоряло. Три рубля день, пять рублей ночь, восемь целковых сутки.
– Рубли-то маленькие, – недоверчиво сказал Петруха. – Брехун ты, много получаете, да домой не носите.
– Мял с тебя с сосны за три версты. Я, голубь, две тройки тогда купил, за одну на Солдатском базаре сменку дали, так и ту барину не стыд надеть.
– Гулял, поди?
– Уж было дело. – Звонкий покрутил головой. – К персианкам ходил, а в трактирах девки, как барыни, сидят, сама рука в карман лезет.



