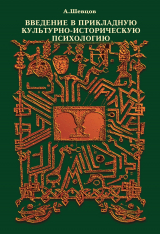
Текст книги "Введение в прикладную культурно-историческую психологию"
Автор книги: Александр Шевцов
Жанр:
Научпоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Научная парадигма возникает в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, внутри религиозной парадигмы, закрепляя в общественном мнении право определенной части общества жить по иным психологическим законам, чем остальная масса людей. Возникает она в борьбе не на жизнь, а на смерть с церковью, во время которой многие борцы почти добровольно шли на смерть.
Эта «добровольность» весьма условна – в сознании ученого есть нечто, что не дает ему жить, как все. Если он «смирится» и попытается принять правящий обычай, это нечто все равно сделает его жизнь невыносимой. Поэтому он предпочитает не мучиться, а умирать в бою за право жить так, как хочет, попросту говоря, выбирая из двух смертей более достойную. В миг, когда религиозная парадигма оказалась невыносимой для слишком большого количества людей, общественное мнение признало за отступниками право жить по своим законам. Очевидно, их оказалось слишком много, чтобы можно было сжечь их всех, как ведьм.
Плодом этой борьбы оказалось полное неприятие наукой основной цели религии – Бога. Неприятие настолько категоричное внешне и так часто нарушаемое тайком, что через него отчетливо проступает парадигма науки как сообщества. Неважно, есть бог или нет, но мы всегда будем его отрицать, и никогда наука не будет проверять «эту гипотезу, без которой можно обойтись», своими средствами. Она в ней не нуждается! Бога нет не потому, что это доказано научно, а потому, что сообщество ученых договорилось так считать. Подлинная наука – это подлинно материалистическая наука!
За этими псевдонаучными лозунгами ощущается присутствие условной договоренности между двумя сообществами: религия позволит науке существовать, если та не будет лезть в ее дела. Соответственно, в отказе ученых исследовать многие духовные явления просматривается то же самое согласие.
Однако, отказавшись от такой высокой цели как Бог, наука должна была закрыться чем-то чрезвычайно значимым для общественного мнения, что оправдывало бы любые странности поведения ученых. И было найдено нечто, что долгие века служило иным именем Бога – истина!
Истина и есть явный стяг научного сообщества. Скрытым же является все то же самое счастье, что и в любом обычном сообществе.
Счастье, которое этимологически происходит от понятия «часть». Быть с частью общей добычи, с долей общественного продукта, иметь свой удел, надел, выдел – все эти слова определяют твое место в обществе и соответствующую ему честь – достоинство, то есть цену – что ты стоишь. Ученый может получить свою настоящую цену, то есть быть оценен по достоинству, по чести только в сообществе себе подобных. Там он может и занять подобающее ему место. Вот это и есть счастье или скрыто-явная цель члена любого сообщества. Скрытая для чужих и явная для своих.
Следовательно, истина есть лишь своего рода проверочная тема для написания сочинений, по которым определяется распределение мест в сообществе. И получается, что оценивается чаще всего не качество шага к истине, не его размер, а виртуозность, искусство, с которым ученый движется. Поэтому настоящие ученые очень часто оказываются непризнанными гениями до тех пор, пока не найдется некий виртуоз, который подымет их на щит и использует для собственного продвижения к месту, громя «ретроградов и душителей гения». Отсюда и столь известный карьеризм и политические танцы в научных сообществах всех уровней. Истина не есть подлинная цель научного сообщества! Но мы знаем только о ней. Все остальное – только для своих.
Что же в таком случае позволяет науке познавать действительность и обеспечивать технологию и производство возможностями? Задача отобрать кормушку у церкви. Изначально, еще во времена борьбы с религией, заявленный «свой» предмет – знание устройства мира. Церковь, кстати, ничем другим, кроме знания о том, как устроен истинный мир и как в нем надо жить, и не располагала. Знание того, как устроен мир, то есть обладание Образом мира, – одна из насущнейших психологических потребностей человеческого сознания. Захватить эту монополию – это, может быть, поприбыльнее, чем захватить монополию на хлеб и зрелища. Но как отобрать право на «истинное знание устройства мира»? Объявить знания противника ложью. Отсюда и заявленный вначале наукой способ познания – борьба с церковной ложью. Однако вскоре после победы он стал даже не внутренним согласием сообщества бороться с ложью, а, скорее, согласием всех ученых, позволяющим им, если они видят уязвимость своего собрата, уничтожать его или его творение. По сути, это нечто вроде очень жесткого варианта естественно-искусственного отбора – выживает только то, что способно выдержать критику! И этим мы отличаемся от религии, где критика недопустима и есть согласие принимать многое на веру! Ничего на веру!
Истина – это то, что я не могу разрушить ни одним из известных мне способов.
А почему ее надо разрушать? Да потому что она – наш щит. И если я не могу его разрушить, значит, он достаточно прочен. Именно эта потребность в неуязвимости и надежности своего положения заставляет работать большинство членов научного сообщества. Правда, есть и такие, которые искренне хотят постичь истину. Но таким в любом сообществе приходится туго.
Что же такое истина? Если не пытаться отвечать на этот вопрос отвлеченно и вообще, то он превращается в достаточно доступный вопрос: что наука понимает под истиной?
При такой постановке вопроса мы приходим к двум сторонам научного понятия «истина», о которых спорят еще со времен античной философии. Истина – это или то, что есть, то есть действительность, или же способность иметь верное представление или суждение о действительности.
И то и другое – весьма условные определения, просто потому, что зависят от глубины нашего познания действительности, а значит, всегда будут оставаться несовершенными, хотя бы потому, что мир бесконечен. А это значит, что за пределами описанной нами части мира все может быть не так, как мы посчитали действительным на основе знания нашей действительности. И то, что в пределах нашего мира есть непременный закон, в более широком мире есть лишь частный случай проявления некоей закономерности. И по мере познания законов существования более широкого мира мы будем переводить нечто, что ранее считалось истинным, в разряд случайностей, как было, например, с механикой Ньютона или геометрией Евклида.
Следовательно, хотим мы того или не хотим, но в этом мире нет истины – и все есть истина. Иными словами, сам мир истинен, но нам не дано ни иметь его исчерпывающего описания, ни понять до конца взаимодействия его частей.
В таком случае остается только поставить себе условное ограничение на предел поисков истины как познания действительности и договориться считать истинным то, что определенно и предсказуемо дает возможность извлекать из действительности пользу для наших жизней. Это чрезвычайно важное согласие и позволяет научному сообществу занимать свои два стула. Возможность в этом мире ограниченной истины оправдывает нежелание всецело отдаться ее поиску, откупаясь от людей научной халтурой, потребительскими технологиями.
Поиск же абсолюта истины оставить мечтателям или теологам. А это уже следующее из важнейших согласий, лежащих в основе современной науки, вроде бы оставляющее истину высшей целью сообщества, но одновременно и уводящее от нее к технологии, производству и личному достоинству.
Целью науки в таком случае становится обеспечение жизнедеятельности людей в рамках возможностей исследованного и описанного мира. Это делает науку действенной, в отличие от мистицизма, и это еще одно из согласий – быть действенной. Но как только ученый осознает, что он не жрец истины, а прислужник огромного желудка человечества, он ощущает несправедливость и приходит к мысли о том, что имеет право подумать и о собственном желудке, то есть о своих желаниях. Истина остается целью явной парадигмы, а скрытые желания – сутью скрытой.
Рассказывать о скрытых желаниях глупо, а говорить об истине – бессмысленно. И наука в лице своих исполнителей начинает забывать ставить отчетливую цель своих исследований выше технологических задач, диктуемых материальным производством. Если же мы вдруг обнаруживаем сейчас у кого-то в качестве заявленной цели истину, то, более чем вероятно, видим, что она лишь результат мышления исключительности, то есть желания выделиться из остальной массы да еще и иметь возможность делать остальным больно. Настоящий поиск истины ради истины – редкость.
Все это выглядит очень и очень печально. И хотя даже сами ученые очень часто рассказывают про свои университеты и лаборатории как про банки с пауками, все равно, даже в каждом карьеристе, живет мечта о чем-то очень хорошем, ради чего он начал когда-то свой безнадежный забег. Что-то движет им и помимо приспособленчества. Иногда оно проявляется в гордости или обиде за своих, за наших, за всю науку! Какая-то мечта, задавленная впоследствии бытом и безнадежностью. Это еще одна скрытая часть научной парадигмы, о которой надо бы говорить подробней. Пока же я закончу этот раздел рассказом Павла Флоренского о многослойности научной парадигмы:
«Приблизительно в VI классе гимназии, или несколько ранее, мое научное отношение к миру вполне сложилось и даже приобрело характер каноничности. Повторяю, под ним, для себя самого и почти невыразимо в слове, я содержал эту сказку, истекавшую из зарывшегося глубоко в душу детского рая. Эта сказка золотила вершины научного опыта и заставляла сердце биться при виде иных явлений природы или даже при мысли о них. Эта сказка направляла мои мысли и интересы и в сущности была истинным предметом моих волнений. Но словесно я не знал об этом или, скорее, не хотел знать. На вопрос, к чему я стремлюсь, я бы ответил: “познать законы природы”, и, действительно, все силы, все внимание, все время я посвящал точному знанию. Физика, отчасти геология и астрономия, а также математика были тем делом, над которым я сидел с настойчивостью и страстью, друг друга укреплявшими. Однако мой ответ, вполне правдивый, был бы неверен, хотя и сам я не позволял себе дать в этом отчета. На самом же деле меня волновали отнюдь не законы природы, а исключения из них. Законы были только фоном, выгодно оттенявшим исключения. <…> С внутренней тревогой искались мною исключения, к которым данный закон оказывался бы неприложимым, и когда находились исключения, ему не подчинявшиеся, мое сердце почти останавливалось от волнения: я прикоснулся к тайне.<…> Закон – это подлинная ограда природы; но стена, самая толстая, имеет тончайшие щели, сквозь которые сочится тайна» (Флоренский, с.118–119).
МировоззрениеТайна движет каждым. Как бы ни зачаровывали себя сами ученые материализмом или необходимостью кормить семью и ненавидеть «всех этих гадов», тайна привлекает и манит любого. Как лучшие воспоминания детства. Конечно, это очень личностно, и поэтому неуместно в науке. И не потому, что наука – «объективна», а потому, что все личностное в сообществе должно быть подчинено общим согласиям.
Возврат к Истине как к действительной цели деятельности возможен для ученого, лишь если он, как Сократ, поймет истину как некую очень личностную цель, стоящую за смертью и выше смерти. Но это возможно только в том мире, в котором за смертью есть нечто или, по крайней мере, в котором это нечто допускается мировоззрением.
Мир же, в данном случае, есть лишь своего рода жизненное пространство занимающего его сообщества. И значит, в большей мере есть Образ мира, чем настоящий мир, то есть мир-природа. В каком-то смысле такой мир есть условность, договоренность определенного сообщества людей жить не по законам религии или науки, а по неким новым законам, выстроенным ради вершинной цели, стяга, которым является Истина. Это означает, что для выведения человечества из того тупика, в который его завели религия и наука, потребуется еще одна революция, подобная научной. Можно назвать ее психологической. В любом случае, подход к миру или мировоззрение должны смениться полностью, иначе планета просто не выживет.
Что такое мировоззрение? Я имею в виду, что означает понятие «мировоззрение» в рамках культурно-исторической психологии? Когда я пытаюсь определить его, то вижу вполне зримый образ. Попробую его передать.
Во-первых, я вижу некий объем, что-то типа шара – так представляется мне человеческое мышление. Мифологическое, донаучное мышление видело его несколько иначе, вроде трехслойного пирога: нижний мир, огромный плоский блин нашего земного мира и верхний мир в виде перевернутой чаши. Но поскольку, в какую сторону ни кинь мысленный взор, он одинаково теряется в бесконечности, то и мир древних психологически тоже вписан в своего рода шар или яйцо Вселенной.
Мышление, конечно, не заполняет Образ мира равномерно, поэтому границы могут ощущаться и размытыми. И все же, как бы ни было раскиданным то, что вы ощущаете своим мышлением, оно не выходит за пределы мира, а если даже где-то и ощущается этот выход, он все-таки выход именно за пределы мира, а значит, Образа мира, который в этом случае наверняка ощущается шаровидным.
Все, что скрыто внутри, мы могли бы назвать обычным мышлением, хотя в науке принято называть обыденным. Оба названия передают определенный смысл. Обыденное – это то, что применяется каждый день. Обычное – это то, что выстроено на обычае. Для живущего в нем человека оно обеспечивает жизнь и в силу этого как бы не имеет никакой определенности. Он обвык, привык жить в нем, как в воздухе, и не видит его. Неважно, как оно устроено, лишь бы работало. Это отражается в слове “обыденное”. Но для меня то, как оно работает, очень важно. Поэтому я назову его Обычным мышлением, подчеркивая связь с обычаем.
Но вот поверхность – это другое дело. Поверхность очень важна, потому что через нее мы сталкиваемся с опасностями для жизни, и в первую очередь, с другими людьми. Поэтому поверхность нашего мышления – это чужое место в нашем мышлении, это место общественного мнения. Общественное мнение выводит на нем свои узоры, собирает в пучки напряжений, заставляет думать. И думать определенным образом: как выжить, чтобы тебя не затравили и не убили!
История знает несколько принципиальных смен подобных узлов напряжения в человеческом мышлении. Первый называют традиционным, или мифологическим, мышлением. Затем религиозное, или теологическое, мышление. Философское, или метафизическое. С XVII века появляется классическое научное мышление.
Что происходит с этим слоем человеческого мышления, который отвечает за выживание в обществе, когда приходит смена мировоззрений?
Миро-воззрение. Воззрение на мир. Точка зрения, с которой ты взираешь на мир. Мир, на который ты взираешь с поверхности своего мышления, – внутри. Это Образ мира, который ты хранишь в себе. Иметь мировоззрение значит не просто смотреть на мир, это значит определенным образом вести себя по отношению к миру, но уже не столько по отношению к миру-природе, сколько миру-обществу. Управлять мировоззрением людей значит править людьми и использовать их для достижения своих целей. Это подтверждается и пристрастием государства к «формированию» общественного мнения, то есть управлению им. «Формируя» общественное мнение, на самом деле придают «форму» человеческому мышлению.
Что такое эта «форма»? Это точка, с которой ты должен смотреть на мир, чтобы быть как все, то есть своим, кому позволяется жить. Ясно, что «точка» – это условность. Как условность и понятие «формы». Что за ними?
Во времена мифологического мышления, когда нас спрашивали, как устроен мир, мы отвечали в соответствии с мифами, которые были известны нашему сообществу. Это с точки зрения гносеологии или науки о познании. Гносеология считает, что с помощью мифов человек пытался объяснить, то есть познать устройство мира. А с точки зрения психологии?
Это лучше показать на примере религиозного мышления. Вот он, этот шар мышления, передо мной. Вот на его поверхности несколько точек или узлов напряжений – это мифологемы, определенные верования и представления. Но вот одна из них, чуть в сторонке, разрастается в мировую религию. И я вижу, как исчезают остальные узлы. На самом деле, с исторической точки зрения, это исчезают носители этих узлов – живые люди и целые культуры. Их больше нет.
И глядя на это, окружающие люди быстро распускают все лишние напряжения и собирают в своем мышлении такой же узел, как требует мировая религия. Теперь они живы, но на вопрос, как устроен мир, обязаны отвечать в соответствии с догматами победившего узла мышления. Теперь и гносеология стала религиозной, или теологией. Вспомните, с чего начинаются знакомые вам священные книги, и станет понятным, что вопрос об устройстве мира – это основной психологический вопрос в управлении людьми.
Как кажется, мышление стало ровнее, а в силу этого работоспособней. И мы видим примеры колоссальной управляемости человечества в пределах религиозного мировоззрения. Но это управляемость извне. И чем сильнее такой одиночный узел, тем менее человек управляем для самого себя – теперь он раб веры.
Точно так же появится и узел научного мировоззрения: в стороне от точки зрения религиозной три века назад некая сила начинает собирать общественное мнение в пучок, который однажды оказывается настолько сильным, что защищает своих создателей даже от костров инквизиции. А старый узел у кого-то распускается и уходит полностью, у кого-то сохраняется ослабленным. Про запас. Примерно так во времена религиозного мировоззрения жил узел философский, или метафизический. Иногда за смотрение на мир с этой точки убивали, как Сократа когда-то, но чаще он оказывался достаточно сильным, чтобы защищать философов в их желании жить по-своему.
Итак, с исторической точки зрения, приход сильного мировоззрения дает более высокую управляемость, а значит, и дееспособность общества. А что происходит с психологической точки зрения?
Кажущееся выравнивание мышления при сильном мировоззрении на самом деле есть перевод его из неровного состояния в расколотое. При так называемом многобожии, с психологической точки зрения, мы имели общую, хотя и неровную среду, где все узлы были более или менее уравновешены, и ни один не обладал достаточной силой, чтобы подавить другие.
Если мы поймем, что собирание своего мышления в узлы и морщины – мера вынужденная, мы идем на нее вполне осознанно из желания выжить (хотя идем в таком раннем возрасте, что часто просто не в состоянии этого вспомнить), то станет ясно, что мы исходно свободны от любого мировоззрения и можем просто жить, а не вести себя в соответствии с требованиями общества. Возможность вернуться к себе зависит только от силы страха, который внушает нам правящее мировоззрение. Соответственно, чем сильнее один из узлов, тем страшнее он, тем более, что мировые религии вполне осознанно строят себя на «страхе Божием».
Пребывание в таком состоянии – дело психологически чрезвычайно тяжелое, почему люди и ведут постоянный поиск иных мировоззрений, строя с их помощью миры-сообщества, которые защищают их от правящего узла общественного мнения. Это очень серьезная задача – выжить. Ради нее можно пойти на любые ухищрения, лишь бы освободиться из тюрьмы страха. Причем мы все являемся неосознающими этого профессионалами высочайшего класса по освобождению от правящих мировоззрений. Все наше детство, отрочество и юность проходят как борьба за самого себя против навязываемого мировоззрения. Живое вольнолюбивое существо, которым приходит ребенок на Землю, борется за свою свободу, и каждое правило поведения, которое родителям и окружающим удается затолкать в его душу, есть плод борьбы и победа в очередном бою общества с человеческим духом.
Самое страшное – что, защищаясь от взрослого мира, ребенок обучается множеству хитростей и подлых глупостей, без которых в нашем мире выжить не удается. В итоге, когда он взрослеет и наконец начинает строить свой Мир, он уже не может обходиться без этих детских хитростей, которые, сохранившись у взрослого, выглядят просто тупостью. Они – его единственное орудие творения миров. Это значит, что хитрость и тупость отражаются в устройстве любого сообщества, созданного людьми. В том числе и сообщества, заявившего, что его цель – достижение и постижение Истины. Так рождаются скрытые парадигмы всех сообществ в этом мире.
Отделить действительный поиск истины в рамках науки от задачи прикрыть этой целью желание сбежать из мира взрослых, из материнского сообщества в свой собственный мирок – одна из задач культурно-исторической психологии.
Любое исследование истины должно иметь под собой основания, позволяющие надеяться на успех. Это должно быть нечто действительное, опираясь на что, можно расширять свои представления о действительности до размеров мира, пригодного для жизни. Поиску первоначал мира была посвящена вся мировая философия. С него она, собственно говоря, и начиналась, пока Сократ не заявил, что первоначала надо искать не в стихиях, а в человеке. Тогда родилась психология, наука о Душе. Путь от стихии или природы до того, что мы знаем как современного человека, – это путь сквозь человеческую Душу, это ее развитие. И это предмет культурно-исторической психологии. Теперь, когда от парадигмы сообщества мы перешли к парадигме науки как орудия поиска истины, уместно говорить и о предмете науки.
В каком-то смысле предметом естественнонаучной психологии является некая «человеческая стихия», предметом культурно-исторической – человеческая Душа в ее развитии и разнообразии. Различие это ощущается всеми психологами, хотя и не всеми однозначно осознается. Именно этому различию двух психологий я бы и хотел, вслед за Майклом Коулом, посвятить это сочинение.
Стержнем подобного исследования, по-моему, должно явиться сопоставление парадигм, потому что подобный подход заложен в самом построении культурно-исторической психологии, какой она является сегодня. По сути, это отразилось и в словах автора предисловия к книге Коула Ш. Г. Уайта, который показывает, как подсообщество психологов с конца прошлого века пыталось отмежеваться от материнского сообщества философов, избрав естественнонаучный метод, являющийся, как считается, основой научной парадигмы.
Сам Майкл Коул тоже считает вопрос о парадигмах научных дисциплин принципиальным: «Психология, оформившись в качестве самостоятельной дисциплины лишь в конце XIX в., вытеснила в конце концов культуру из сферы своих интересов. В свете этого полезно поразмышлять о путях развития научных теорий культуры и мышления на языках двух разных парадигм, которые сформулировали большую часть этого дискурса. Язык аргументации обеих парадигм был установлен греками, чье влияние на европейскую научную мысль в конце эпохи Возрождения было огромным. Общим для этих парадигм является стремление к определенному знанию: различаются они в отношении того, как и где следует его искать. Первая парадигма, идущая от Платона, подчеркивает стабильные универсальные процессы мышления, механизмы которых не зависят от времени. Вторая парадигма идет от Геродота (Выделено мной – А. Ш.), считавшего, что для того, чтобы узнать правду о прошедших событиях, необходимо понять образ жизни людей, организующий их мышление, которое, в свою очередь, влияет на их представления о прошлом» (Коул, с.32–33).
Отзвуки этого древнего спора о путях психологии мы обнаруживаем и в России, начиная с середины прошлого века.
Однако вернемся к понятию «парадигма». Коул, к сожалению, не дает определения этого часто используемого им понятия. В итоге создается некая иллюзия взаимопонимания между автором и читателем, но о действительном понимании речи быть не может. Следовательно, что понимает Коул под этим термином, нам придется выводить из самого его сочинения. Впрочем, то же самое придется проделать и со всеми учеными и мыслителями, чьи теории он упоминает.
Итак, первое, что, на мой взгляд, со всей очевидностью бросается в глаза в приведенном отрывке, когда Коул говорит о парадигмах, – он «Психологического словаря» не читал. В его использовании слова «парадигма» нет и следа «системы»: ни системы форм-образцов, ни системы методов. Конечно, зная что-то о Платоне и Геродоте, мы, прочитав такие краткие изложения «парадигм» или «позиций» авторов, как само собой разумеющееся допускаем, что некая система взглядов или доказательств, или суждений у них, безусловно, была. Но это лишь наши предположения. В тексте же Коула мы имеем лишь по одному предложению для каждой «парадигмы», в которых излагается суть позиции или теории.
Это означает, что в живом употреблении понятие «парадигма» лишь предполагает наличие системы, но таковой является не обязательно. Безусловно, такое употребление термина «парадигма» характерно не только для Коула. Это лишь пример.
В чем же суть? Что мы видим в действительности вместо изложения парадигмы? Скорее, кредо, символ веры, а говоря по-русски, Стяг – то, что стягивает, собирает под себя своих.
Мы уже определили, что это, видимо, и есть основное психологическое содержание любой заявленной парадигмы – не пропустить чужих и собрать единомышленников, тем самым создав сообщество. Именно это и звучит скрыто за словами: «система основных научных достижений (теорий, методов), по образцу которых организуется исследовательская практика ученых в данной области знаний (дисциплине)». Соответственно, если исходить из этого, то психологически употребление при заявлении парадигмы лишь ее «стягивающей» части вполне оправданно.
Современная естественнонаучная парадигма, как считается, была заявлена Декартом в «Рассуждении о методе», и нам не миновать исследования этого сочинения, если мы хотим проследить пути зарождения и развития психологии. Могу заранее сказать только одно: сам собственно научный метод, то есть явная часть парадигмы Декарта, был гораздо лучше и чище дан еще Галилеем. Тем не менее, современная психология ведет себя от Декарта, что означает, что очарованием в творениях Декарта обладала часть скрытая, в силу чего и стала Стягом науки.
Что произошло после этого? Медленно и трудно родилось огромное сообщество людей, которое именует себя безличным именем «Наука». Научная парадигма в наше время стала третьей правящей парадигмой наряду с государственной и религиозной, почти полностью вытеснив мифологически-магическую, то есть культурную, в языке Коула. Самое страшное в этом то, что понятие «наука» воспринимается умом современного человека как некая данность, «абстракция», то есть неведомо что, само по себе существующее в мире безотносительно к людям. И уж отнюдь не как мнение какого-то сообщества людей. «Научно» и «ненаучно» стало синонимами «истинно» или «неистинно», а вовсе не «по мнению ученых это вероятно, а это невероятно». И уж тем более не как заявление: «Это нам подходит для наших целей, поэтому мы назовем это научным, а что нам не нравится, мы заклеймим ненаучным, а всякое несогласие подавим и уничтожим вместе с его носителем! В крайнем случае, затравим в тесных камерах научных заведений и ученых советов!»
Я думаю, опыт советской науки сталинского времени не дает усомниться, что последняя крайность вполне достижима для людей науки. Как со стороны травящих, так, кстати, и со стороны затравленных.
Именоваться ученым очень выгодно. Мы знаем это с детства, когда нас спрашивали: кем ты станешь, когда вырастешь? В современном обществе это делает тебя практически неуязвимым. Основным психологическим двигателем в борьбе психологии за «научность» было именно стремление большинства делающих ее людей получить «мундир», то есть достойное место в обществе, а вовсе не познать истину – иначе в чем причина этого затянувшегося кризиса психологии? Именно эта чисто психологическая причина, на мой взгляд, его и определяет. И суть ее в том, что ученый, вступая в сообщество, платит так дорого, что хочет получить вознаграждение за свои жертвы. В итоге его силы расщеплены, и он чаще гораздо больше занят наукой как самоутверждением в научном сообществе, обретением имени «настоящего ученого», чем наукой как обретением истины.
Конечно, подобные слова про мундир вызовут у многих психологов возмущение. Некоторые из них считают себя идеалистами и бессеребрениками, потому что очень мало зарабатывают сейчас в России, но психологии не бросают. Некоторые даже сами ненавидят «пресмыкающихся» перед зарубежными денежными фондами или властями продажных психологов, потому что те «позорят имя настоящего психолога»… При этом сами они считают, что «причины кризиса психологии много шире, чем “борьба за мундир”, – как было написано в одном из отзывов на это мое рассуждение. – Основная причина – все-таки философская, так как существуют четыре взаимодополняющие, а потому ограниченные модели социальной реальности:
– натуралистическая (построенная на биологии);
– идеалистическая;
– материалистическая;
– феноменологическая.
Эти модели описывают только части некоего целого, а модели самого целого нет. Отсюда кризис в психологии».
Очень может быть. И все же я считаю, что кризис в психологии из-за того, что ученые заняты не тем. Именно это и отражается в приведенном мною замечании: модели целого нет, иными словами, нет цельного образа того, что представляет из себя психологическая наука, – таково высказанное мнение.
Это не так, если заглянуть в суть явления. Психология как сообщество уже родилась и прекрасно устоялась. Суть ее существования – постоянное брожение и борьба за места. И там, внутри себя, она прекрасно устроена с точки зрения целей, которые движут учеными. Каждый из них знает, чего он хочет внутри науки и как этого добиться. Даже если добиться не получается из-за помех и открытого противодействия других ученых, он все-таки знает и цель и как к ней идти. У психологии нет цели, связанной с внешним миром. Поэтому-то она и не знает, какую модель предоставить внешнему миру, чтобы он мог судить по ней о психологии. Внешний мир тоже очень разный, и психологическое сообщество изготовило несколько образов себя для разных сообществ внешнего мира. Но все они – не более как щит, позволяющий изобразить деятельность во имя человечества для внешних наблюдателей. Это лишь стены крепости, которыми психология от нас закрылась, а сама чем-то там внутри с наслаждением занимается…
Для того, чтобы появился цельный образ психологии, должна быть заявлена цель, которая нужна людям всего общества. Иначе говоря, психологии надо заявить, что она может сделать для людей. Вот тогда у любого человека появляется возможность сказать, нужно это ему или не нужно. Соответственно, нужна или не нужна ему такая психология. А затем, когда будет найдена цель, которую общество признает стоящей, тогда любой человек сможет судить, ведет ли психология к этой цели, помогает ли эта наука, как соответствующее орудие, как инструмент, прийти к этой цели лично ему. Если я смогу судить о качестве инструмента, то я могу сказать и о том, что в нем лишнее, а чего недостает, а значит, появляется возможность достроить науку до цельности. Пока же повисает вопрос: зачем научная психология непсихологу?








